Три Дюма Моруа Андре
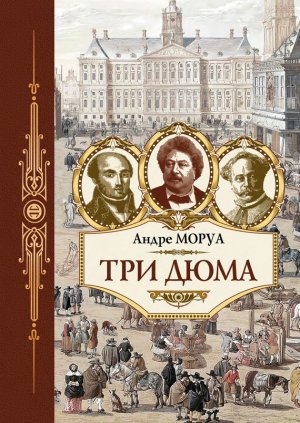
Удивленный король спросил однажды у министра Монталиве:
– Отчего в Сен-Жермене царит такое оживление?
– Сир, – последовал ответ, – желает ли ваше величество, чтобы Версаль веселился до упаду? Дюма за пятнадцать дней возродил Сен-Жермен – прикажите ему провести две недели в Версале.
Но не в Версале, а по дороге из Буживаля в Сен-Жермен купил Дюма поросший лесом участок, чтобы возвести замок своей мечты. Он привел на этот склон архитектора Дюрана и сказал ему:
– Вот здесь вы разобьете мне английский парк, в центре его я хочу построить замок в стиле Возрождения, напротив – готический павильон, окруженный водой… На участке есть ручьи. Вы создадите каскады…
– Но, господин Дюма, здесь глинистая почва. Все ваши строения поползут.
– Господин Дюран, вы будете копать, пока не дойдете до туфа… Вы отведете два подземных этажа под погреба и своды.
– Это вам обойдется в несколько сотен тысяч франков.
– Надеюсь, никак не меньше, – ответил Дюма, расплываясь в счастливой улыбке.
Самое удивительное, что он и впрямь осуществил свой замысел. Парк, разбитый на английский манер, большой и живописный, по сей день поражает своими романтическими ивами и зелеными лужайками. Два флигеля соединены решеткой, достойной украшать замок феодального сеньора. По другую сторону дороги, ведущей в Марли-ле-Руа, стоят очаровательные службы (в стиле Вальтера Скотта), которые по современным представлениям могли бы считаться самостоятельными загородными домиками. Сам «замок», по сути дела, представляет собой обыкновенную виллу, причем настолько эклектичную по стилю, что она производит впечатление дикое и вместе с тем трогательное. Бальзак восхищался ею и завидовал Дюма. Напрасно!
Окна, скопированные с окон замка д'Анэ, вызывают в памяти Жана Гужона и Жермена Пилона. Саламандры на лепных украшениях заимствованы из герба, пожалованного Франциском Первым городу Вилле-Коттре – родине Александра Дюма. Скульптурные изображения великих людей от Гомера до Софокла, от Шекспира до Гете, от Байрона до Виктора Гюго, от Казимира Делавиня до Дюма-отца образуют фриз вокруг дома. Над парадным входом девиз владельца замка: «Люблю тех, кто любит меня». Над фасадом в стиле Генриха II вздымается восточный минарет. Архитектура эпохи трубадуров соседствует с Востоком «Тысячи и одной ночи». Крыша утыкана флюгерами. Апартаменты небольшие, зато на редкость разностильные, состоят из пятнадцати комнат, по пяти на каждом этаже, – и все это венчают обшитые панелями мансарды. Главный зал – белый с золотом – выдержан в стиле Людовика XV. Арабская комната украшена гипсовыми арабесками тонкой работы, на которых еще можно прочесть изречения из Корана, хотя позолота и яркие краски вязи везде уже облупились.
В двухстах метрах от «замка» возвышается удивительное строение в готическом стиле – нечто среднее между миниатюрной сторожевой башней и кукольной крепостью. Маленький мостик перекинут через ров, заполненный водой. На каждом камне высечено название одного из произведений Дюма. Весь первый этаж занимает одна комната, лазурный потолок ее усыпан звездами. Стены обтянуты голубым сукном, над резным камином – рыцарские доспехи. Сундуки в стиле средних веков, стол, вывезенный из трапезной какого-то разоренного аббатства. Здесь Дюма почти не мешали работать. Спиральная лестница вела в келью, где он иногда проводил ночь. Дозорная площадка позволяла ему наблюдать за гуляющими по парку гостями. Все вместе производило впечатление лилипутского величия.
Леон Гозлан был в восторге.
«Я могу сравнить эту жемчужину архитектуры, – писал он, – только с замком королевы Бланш в лесу Шантийи и домом Жана Гужона… У здания усеченные углы, каменные балконы, витражи, свинцовые оконные рамы, башенки и флюгера… Оно не принадлежит к определенной эпохе – его нельзя отнести ни к античности, ни к средневековью. В нем, однако, есть нечто возрожденческое, и это придает ему особое очарование… Дюма, который лучше, чем кто бы то ни было, знает талантливых людей своего времени, заказал все статуи, украшающие замок, Огюсту Прео, Джеймсу Прадье и Антонену Миму… По фризу первого этажа он распорядился расположить бюсты великих драматургов всех веков, в том числе и своего…»
Гозлан рассыпался в похвалах тунисским скульпторам за «тонкость и изящество работы, какую увидишь разве что на мавританских плафонах Альгамбры; сложный резной узор кажется роскошным кружевом… Я вне себя от восхищения… В Трианоне нет ни одного плафона, равного тому, который тунисец создал для „Монте-Кристо“. С центрального балкона открывается вид еще более прекрасный, чем тот, которым мы наслаждаемся с высоты террас Сен-Жермена…»
Гозлан здесь выказывает себя больше Монте-Кристо, чем сам Монте-Кристо. На самом деле «замок» был всего-навсего причудливой, нелепой и маленькой виллой, где Дюма, однако, жил как знатный вельможа.
На новоселье (25 июля 1848 года) Дюма пригласил к обеду шестьсот гостей. Обед заказали в знаменитом ресторане («Павильон Генриха Четвертого» в Сен-Жермене), столы накрыли на лужайке. В курильницах дымились благовония. Повсюду красовался девиз маркизов де ля Пайетри: «Ветер раздувает пламя! Господь воспламеняет душу!» Сияющий Дюма расхаживает среди приглашенных. На сюртуке его сверкают кресты и ордена. Поперек блестящего жилета перекинута массивная золотая цепь. Он обнимает хорошеньких женщин и всю ночь напролет рассказывает чудесные истории. Никогда в жизни он не был так счастлив.
Бальзак – Еве Ганской, 2 августа 1848 года:
«Ах, Монте-Кристо» – это одно из самых прелестных безумств, которые когда-либо делались. Он – самая царственная из всех бонбоньерок на свете. Дюма уже израсходовал 400 тысяч франков, и ему понадобится еще 100 тысяч франков, чтобы закончить замок. Но он во что бы то ни стало осуществит свой замысел. Вчера мне удалось узнать, на какой земле построен этот маленький замок. Земля эта принадлежит крестьянину, который продал ее Дюма по устной договоренности так, что в любую минуту, если ему вдруг вздумается распахать свое поле и сажать на нем капусту, он может потребовать снести замок. Это дает вам некоторое представление о характере Дюма! Строить этакое чудо, ибо замок – поистине чудо, хотя и незавершенное, на чужой земле, не имея никаких документов, подтверждающих твои права! Крестьянин может умереть, а его дети, пока еще несовершеннолетние, не захотят сдержать слово, данное их отцом!..
Если бы вы увидели этот замок, вы бы тоже пришли в восторг от него. Это очаровательная вилла, она куда красивее виллы Пампили, потому что с нее открывается вид на террасы Сен-Жермена, и, помимо всего прочего, она стоит у воды!.. Дюма обязательно ее достроит. Она такая же красивая и изысканная, как портал Анэ, который вы видели в Музее изящных искусств. Планировка прекрасная – одним словом, безумная роскошь времен Людовика XV, но в стиле Людовика XIII с элементами украшении эпохи Возрождения. Говорят, постройка уже обошлась Дюма в 500 тысяч франков и что ему необходимо еще 100 тысяч франков, чтобы завершить свой замысел. Его ограбили, как на большой дороге. Он вполне мог бы уложиться в 200 тысяч франков…»
Очень забавно читать, как Бальзак распекает Дюма за безрассудные траты и поучает его искусству бережливости.
Так началась неповторимая жизнь в «замке» «Монте-Кристо». Хозяин дома поселился в микроскопической крепости; над своим рабочим кабинетом он оборудовал келью, где стояли только железная кровать, стол некрашеного дерева и два стула. Там он работает с утра до вечера, а часто с вечера и до утра. На нем лишь рубашка и тиковые панталоны. Он очень растолстел, и его огромный живот упирается в стол, а между тем он ест самую простую пищу: пантагрюэлевские пиры он задает гостям. В «Монте-Кристо» он держит открытый дом. В «Монте-Кристо» радушно принимают всех, кто бы ни пришел. Дюма протягивал гостю левую руку, правой продолжая писать, и приглашал его к обеду. Повар то и дело получал указание поджарить еще несколько котлет по-беарнски. Иногда Дюма, который сам был отличным кулинаром, приготовлял какое-нибудь блюдо по своему рецепту и с увлечением стряпал соусы.
Любой писатель, любой художник, стесненный в деньгах, мог поселиться в «Монте-Кристо». Там постоянно жило множество дармоедов, с которыми амфитрион даже не был знаком. Содержание этих людей стоило ему нескольких сот тысяч франков в год. Уже не говоря о женщинах…
В «замке» «Монте-Кристо» одна любимая султанша быстро сменяла другую: в их числе была и Луиза Бодуэн, которую величали Аталой Бошен, дебютантки Исторического театра, женщины-писательницы. Фавориткой 1848 года была Селеста Скриванек, очаровательная актриса, совсем еще молодой дублировавшая Дежазе и с большим изяществом исполнявшая куплеты в водевилях. Любовница, друг и секретарь Дюма, она хотела играть в этом непостоянном семействе еще и роль матери.
Селеста Скриванек – Дюма-сыну:
«Мой дорогой Александр, я на верху блаженства: я не расстанусь с вашим отцом. Он согласился взять меня с собой. Я буду путешествовать с вами под видом мальчика: портной только что снял с меня мерку. Ах, я схожу с ума от счастья! Простите меня, мой милый, добрый друг, за то, что я не сообщила вам обо всем этом раньше (sic!); изо дня в день я собиралась поболтать хоть несколько минут с вами, но в последний момент мне всегда что-нибудь мешало. Ваш отец заставляет меня много работать, я пишу под его диктовку, и я очень горда и счастлива тем, что могу быть секретарем этого универсального человека. Я надеюсь через месяц увидеть вас здесь, но тем временем все же черкните мне несколько дружеских слов.
Мы выполнили все ваши поручения. Сейчас я подрубаю ваши галстуки; как только портной закончит ваши брюки, мы вышлем все вместе. Сегодня вечером мы отправляемся в Версаль и пробудем там целых три дня. Прощайте, напишите мне поскорее.
Ваша преданная маленькая мама, С.Скриванек».
Что касается Лолы Монтес, то хотя она и провела несколько дней в «Монте-Кристо», нам представляется маловероятным, чтобы она была любовницей Дюма, так как, став милостью своего любовника короля Людвига I Баварского всемогущей графиней Ландсфильд, она писала в «Монте-Кристо»:
Мюнхен, 14 апреля 1847 года:
«Мой дорогой господин Дюма! Для меня было большим удовольствием получить (sic!) несколько дней назад ваше письмо. Если вы к вам приедете, я ногу вас заверить, что как будет оказан прием, достойный такого талантливого и прославленного писателя, как вы. Его величество король просит меня передать вам его благодарность за те лестные слова по его адресу, которые содержались в письме ко мне, а также сказать вам, что ему доставит огромное удовольствие увидеть вас в Баварии. Я считаю, что вы должны приехать к нам, не теряя времени. Все здесь в восторге от ваших прекрасных произведений, и я уверена, что вас примут по-царски. Я пишу вам обо всем этом для того, чтобы вы обязательно приехали повидаться с королем. Я думаю, что вы останетесь довольны друг другом. Не смею дольше отнимать ваше драгоценное время, так как хорошо знаю, что письмо от столь скромной особы, как я, не может заинтересовать вас. Но разрешите мне, дорогой господин Дюма, навсегда остаться одной из самых восторженных ваших поклонниц.
Лола Монтес».
Лола Монтес, баварская графиня, была ирландкой, выдававшей себя за испанку. Из письма видно, что она писала с грубыми синтаксическими и орфографическими ошибками. Но содержание письма говорит о том, что Лола не была любовницей Дюма, хотя официальный тон мог быть продиктован и осторожностью.
В «Монте-Кристо» безраздельно правил итальянский мажордом синьор Раскони. Садовник Мишель, мастер на все руки, большой знаток «Словаря естественных наук», приводил Дюма в восторг, называя по-латыни растения и животных. Был там еще и маленький негритенок Алексис, которого Мари Дорваль однажды принесла Дюма в корзинке с цветами.
– Я не могу его прокормить, – сказала очаровательная актриса, обремененная долгами, – и поэтому дарю его тебе, мой славный пес.
– Откуда он родом?
– С Антильских островов.
– На каком языке говорят на Антильских островах, мой мальчик?
– На креольском.
– А как будет по-креольски: «Здравствуйте, сударь»?
– Здравствуйте, сударь.
– Ну что ж, тогда все ясно, мой мальчик. Отныне мы будем говорить по-креольски… Мишель! Мишель!..
Вошел садовник.
– Вот вам, Мишель, новый гражданин, который теперь будет жить с нами.
Был в «Монте-Кристо» еще один слуга, приставленный к псарне, и другой – к вольерам, потому что эти джунгли были населены зверями, которым Дюма посвятил очаровательную книгу «История моих животных». В доме жили пять собак, три обезьяны, из них одна – мартышка (которых он назвал в честь знаменитого писателя, знаменитого переводчика и популярной актрисы), два попугая, золотой фазан, окрещенный Лукуллом, петух, прозванный Цезарем, кот по кличке Мисуф и гриф Югурта, вывезенный из Туниса, которого переименовали в Диогена с тех пор, как он поселился в бочке.
Монте-Кристо хорошо работалось под писк и гомон зверинца. На столе у него всегда лежала стопка бумаги – голубые листки для романов, розовые – для статей и желтые, предназначенные для поэм одалискам. Его поглощали мысли об Историческом театре, для которого он переделывал в пьесы один роман за другим; он был бы счастлив, если бы его сын согласился войти на паях в фирму «Александр Дюма и Кo». Пожелай он только играть роль Маке, говорил отец, он мог бы легко заработать от сорока до пятидесяти тысяч франков в год.
«Это вовсе не трудно, поверь мне… Я бы тебе все объяснил. Если бы тебе что-нибудь не понравилось, ты мог бы мне возражать».
Дюма-сын, несмотря на успех своего романа, очень нуждавшийся в деньгах, в конце концов согласился, хотя и не слишком охотно, собрать и обработать для отца кое-какие исторические материалы.
Дюма-отец – Дюма-сыну:
«Посылаю тебе пятьсот франков. Постарайся закончить третий том к концу месяца. Это даст тебе две тысячи франков…»
Иногда Дюма-сын под натиском какой-нибудь красотки обращался за помощью к Ипполиту Остену, оборотистому молодому человеку, которого Дюма-отец сделал директором Исторического театра:
«Мой дорогой Остен! Бедней церковной мыши
Покорный ваш слуга. Увы, с трудом он дышит:
Ему фиакр не по карману, а Дюлон
Сам без гроша сидит. (Так утверждает он.)
Порше, как я узнал, в таком же положенье
И денег мне не даст… Так вот об одолженье
Хочу вас попросить: могли бы вы сейчас
Мне триста франков дать? Не разорю я вас,
А мне окажете услугу вы… Засим
Жду с нетерпением ответа.
Дюма-сын».
Но и этот жалкий источник вскоре иссякнет.
Глава третья
РАЗОРЕНИЕ МОНТЕ-КРИСТО
Дырявая корзина, говорите вы? Это
правда, но не я проделал в ней дыры.
Александр Дюма
Первый сезон в Историческом театре был очень удачным: сборы дали 707905 франков. Второй открылся триумфом Дюма – Маке – «Шевалье де Мезон-Руж», драмой, в которой трогательная любовная история развертывается на фоне великих событий революции. Пьеса кончается последним пиршеством жирондистов и песней «Умереть за родину»… 7 февраля 1848 года Исторический театр ввел смелое новшество: драма «Монте-Кристо» должна была идти два вечера кряду. Первая часть, кончавшаяся побегом Эдмона Дантеса, длилась с шести часов вечера до полуночи.
«Все расходились, – писал Готье, – с твердым намерением вернуться завтра. Ночь и следующий день казались всего-навсего досадно затянувшимся антрактом. На втором вечере зрители уже здоровались, знакомились, вступали в разговоры… Каждый старался устроиться поудобнее, расположиться с комфортом – словом, чувствовал себя жильцом, а не зрителем… Когда занавес упал в последний раз, из груди всех присутствующих единодушно вырвался вздох сожаления: „Как, уже? Расстаться так скоро, пробыв вместе всего два дня? Неужели великий Александр Дюма и неутомимый Маке так мало верят в нас?.. Да мы бы отдали им всю неделю…“
Но 24 февраля разразилась революция 48-го года. Восстания гибельны для театров, и залы опустели. Только Рашель удавалось еще делать аншлаги в Комеди Франсез, декламируя Марсельезу в антракте между четвертым и пятым актом трагедии Корнеля или Расина. Читала она превосходно, голос ее звучал гордо и непреклонно. Однако, несмотря на всю свою преданность республике, Дюма предпочел бы немного меньше гимнов и побольше зрителей. И хотя он нисколько не жалел о Луи-Филиппе, который всегда относился к нему плохо, в молодых принцах он терял ценных покровителей. Вполне вероятно, что он, как и Виктор Гюго, приветствовал бы регентство герцогини Орлеанской. Но поскольку на это не было никакой надежды, он решил стать на сторону нового режима и выдвинуть свою кандидатуру в депутаты.
«Революционная буря вместе с коронованным старцем унесла и скорбную мать и хилого ребенка. Франция в эти дни бедствий, – писал Дюма, – обращается к своим лучшим сыновьям… Мне кажется, я имею право быть в числе тех достойных мужей, которых она призвала на помощь…» Это означало, что он, как Ламартин и Гюго, был намерен заняться политикой.
Осталось только выбрать департамент, чтобы выставить свою кандидатуру. У Гюго не было никаких сомнений на этот счет: башни Собора Парижской Богоматери образуют «H» – инициал его фамилии – Hugo; Париж принадлежит ему, парижане относятся к нему серьезно. Но парижане никогда бы не выбрали Дюма: они считали его большим шутником и не принимали всерьез. Может быть, попытать счастья в департаменте Эн, где он родился? Он боялся, что там его считают большим республиканцем, чем сама республика. В департаменте Сены и Уазы, где у него собственность – замок «Монте-Кристо» – и где он командует батальоном национальной гвардии в Сен-Жермен-ан-Лэ? Увы, в те три дня, когда решалась судьба революции 48-го года, он предложил повести своих людей на Париж, и они не простили ему «легкомыслия, с которым он готов был рисковать их жизнью». Эти защитники нации, конечно, хотели защищать нацию, но только на своей территории, и они потребовали отставки своего не в меру воинственного командира.
Молодой человек, которому Дюма оказал кое-какие услуги, убедил его, что его очень любят в департаменте Ионн и что он непременно пройдет на выборах. Дюма и сам был уверен, что в департаменте Ионн ан так же популярен, как и в любом другом департаменте Франции, и что ни один кандидат не устоит против него. Но он забыл, что французская провинция всегда отдает предпочтение землякам. «Кто он такой, этот Дюма? – спрашивали ионнцы. – Он из здешних? У него есть виноградники? Или, может, он виноторговец? Нет?.. – Так, значит, это тот политикан, да к тому же друг герцогов Орлеанских, сторонник регентства? – говорили одни. – Аристократишка, маркиз!» – подхватывали другие. Дюма только что основал газету «Ле Муа» (под скромным девизом «Господь диктует, и я пишу»), там он выступил с требованием водворить статую герцога Орлеанского на ее прежнее место в Луврском дворце. Избиратели упрекали его за верность герцогу. Дюма ответил им великолепной речью. Он говорил о дружбе я признательности, напоминал о том горе, которое причинила трагическая гибель юного принца, заставил плакать одну половину зала, аплодировать другую и – провалился на выборах.
Однако в Париже он все же посадил перед Историческим театром дерево свободы, сказав директору: «Остен, сохраним любовь народа. Принцы исчезнут, а великий французский народ останется». Когда на одном из избирательных митингов в департаменте Ионн какой-то рабочий грубо прервал Дюма криками: «Эй ты, маркиз, эй ты, негр!» – он ответил ему так, как ответил бы генерал Дюма – или Портос. Он схватил крикуна за штаны и поднял над парапетом: «Проси прощения, не то я кину тебя в воду!» Крикун принес извинения. Дюма сказал: «Ладно. Я только хотел тебе доказать, что руки, написавшие за двадцать лет четыреста романов и тридцать пять драм, – это руки рабочего…» Одно время он носился с мыслью выставить свою кандидатуру на Антильских островах: «Я пошлю им прядь волос, и они увидят, что я свой». Но и от этого намерения ему тоже пришлось отказаться, и так как он не имел возможности творить историю, он снова стал сочинять истории.
Но сколько б драм и романов он ни писал, никаких гонораров не хватало, чтобы остановить надвигающуюся лавину его долгов. Исторический театр делал ничтожные сборы. Пьеса Бальзака «Мачеха» (25 мая 1848 года) с треском провалилась. Несмотря на возобновление «Нельской башни», театр стоял на пороге банкротства. С первых же недель совместной работы Дюма напугал своей расточительностью Остена, с которым, по отзыву Марселины Деборд-Вальмор, «ладить было далеко не так легко, как с нашим поэтом, этим большим ребенком, которого мы все так любим». А бедный большой ребенок обещал все и всем. Он раздавал ангажементы направо и налево: «Актеры стекались к нему, но всех приводила в ужас неустойчивость его положения и та чудовищная роскошь, в которой он жил. Говорили, что он сможет свести концы с концами, только если будет беречь каждый грош, как Бокаж, и поручит за этим следить господину Остену…» Но даже Остен вскоре отказался быть «здравым смыслом Дюма». В декабре 1849 года он подал в отставку. Его преемники преуспели в этом не больше, чем он. Ненасытный Исторический театр пожирал одну пьесу за другой и почти не давал денег. Дюма со всех сторон осаждали кредиторы. На «Монте-Кристо» был наложен арест, и сумма залога, отягощавшая недвижимость, поднялась до 232469 франков и 6 сантимов.
Ида Ферье, или, вернее, маркиза Дави де ля Пайетри, как она величала себя в Италии, привилегированная кредиторша, которой Дюма задолжал сто двадцать тысяч франков ее приданого плюс проценты на них, плюс назначенное ей содержание, боролась за то, чтобы взыскать свой долг, но при этом оставалась в тени. С августа 1847 года она поручила вести свои дела адвокату, мэтру Лакану, но написала ему, что не решается начать тяжбу с Дюма.
Неаполь, 1 августа 1847 года.
«Что может сделать женщина, одинокая бедная, чья единственная сила в истине, к которой она вынуждена взывать издалека, что может она сделать против коварных измышлений и искусной лжи человека, словам которого придает такой вес известность его таланта? Мы можем сколько угодно осуждать его частную жизнь, но как писатель он обладает обаянием, которому трудно противиться. Этот ум, столь неистощимый в поэтических и забавных выдумках, так же неутомим в борьбе с теми, кого он ненавидит. Господин Дюма не остановится перед самой черной ложью, если с ее помощью можно раздавить меня и обелить себя. И как бы я ни была права, я вынуждена буду отступить, или, в лучшем случае, его вероломство и ложь нанесут мне такой урон, что я не захочу продолжать этой борьбы. Именно на это он всегда рассчитывал, именно потому он надеялся удержать меня от обращения к правосудию… Он знает, насколько я боюсь скандалов и какие жертвы я принесла, чтобы сохранить положение в свете, которого он всеми силами пытался меня лишить. Мы по-разному смотрим на вещи: он считает, что скандалы лишь удваивают популярность его книг, и поэтому ищет их так же усердно, как я пытаюсь их избежать. Я настоятельно прошу вас сударь сообщить мне, какие неприятные последствия такого рода может повлечь за собой моя просьба об алиментах. Мне и моим близким было бы очень тяжело выносить нищету, но не менее ужасно было бы видеть, как меня обливают грязью, а я из-за своего отсутствия даже не имею возможности защищаться. Вот уже несколько лет, как я живу среди избранного общества этой страны и должна строго соблюдать приличия, а вы сами, сударь, знаете, сколь чувствителен к подобным вещам свет, законы которого Дюма решается нарушать тем более дерзко, что сам он к нему не принадлежит…»
В лагере сторонников маркизы Иды была ее падчерица Мари, очень привязанная к мачехе и осуждавшая отца за расточительность, и, разумеется, ее собственная мать, вдова Ферран, которой Дюма в свое время обещал пенсию и ни разу ее не выплатил. И мамаша и Мари мечтали съехаться с Идой и жить с ней в Неаполе или во Флоренции, где ее содержали «друзья».
Ида Дюма – мэтру Лакану:
«Мои друзья во Флоренции, так же как и я, считают, что мне невозможно дольше оставаться в городе, где у меня нет никаких средств к существованию и где мое положение в свете, в котором я вращалась столько лет, обязывает меня соблюдать внешние приличия, слишком для меня разорительные. Они были так добры, что пошли на дальнейшие жертвы и устроили мне заем под гарантию, благодаря чему я смогла переехать в Неаполь, куда меня уже давно призывала забота о моем здоровье. Здесь мне на помощь пришли другие люди, иначе я не смогла бы даже дождаться решения по тому иску, который мы подадим сейчас, – решения, которого я жду, чтобы вернуться во Флоренцию и выписать к себе мать и падчерицу.
Я надеюсь, сударь, суд учтет, что я должна содержать еще двух человек и что алименты, о которых я хлопочу, нужны не только мне. Восемнадцать тысяч франков на жену, тещу и дочь – не так уж много, особенно если сравнить эту сумму с теми гонорарами, которые получает господин Дюма, гонорарами, которые, как он неоднократно признавался, в частности во время процесса против одной из газет, названия ее я не помню (это было зимой 1845 года), превышают двести тысяч франков в год! Впрочем, его заработки известны буквально всем…»
Мари Дюма согласилась подтвердить эти факты и выступить свидетельницей против отца. Она назвала Иду «дорогой и нежно любимой маменькой» и жаловалась на то, что ей, девице шестнадцати лет, приходится быть свидетельницей разгула, царящего в «Монте-Кристо».
Мари Дюма – мачехе, Париж, 28 августа, 1847 года:
«К тому же, дорогая и милая маменька, моя жизнь здесь стала совершенно невыносимой. Прибавьте к этому печаль, которую я непрестанно испытываю от разлуки с той, кого люблю больше всего на свете. Немалое горе также причиняют мне и требования отца – он хочет заставить меня жить с ним. Ах, моя дорогая, и это в его положении!.. Я никак не могу на это согласиться, меня до глубины души оскорбило, что он не постыдился вынудить меня подать руку дурной женщине. Он не краснел, принуждая меня находиться в обществе женщины, которую – имей он отцовские чувства – он должен был бы изгнать из „Монте-Кристо“ в тот же день, как я туда приехала, женщины, имени которой не следовало бы даже упоминать в моем присутствии!.. Я клянусь гобой, которая мне дороже всего на свете, что только силой меня смогут заставить быть в подобном обществе…»
Ида вполне искренне хотела взять на себя воспитание Мари.
Ида Дюма – мэтру Лакану, Флоренция, 1 февраля 1848 года:
«Я еще раз прошу вас добиться того, чтобы мне вернули мою падчерицу. Я прекрасно понимаю, что директриса ее пансиона по корыстным соображениям изо всех сил будет препятствовать этому. Она имела беседу по этому поводу с господином Ножаном де Сен-Лоран. Я умоляю вас, сударь, рассказать ему о подлинном положении девушки, к которой я отношусь, как к дочери. Всем известно, что дела ее отца настолько плохи, что он никогда не сможет дать ей ни одного су. То немногое, на что она может надеяться, она получит от меня. Молодой девушке придется безвыездно оставаться в Париже, где она ни на один день не сможет покинуть пансион, так как у нее нет ни матери, ни семьи, ни хоть сколько-нибудь подходящего для нее окружения и, что всего важнее, никакого будущего. Возвратившись ко мне, она освободит отца от тяжелой обязанности платить за ее обучение, что для него отнюдь не последнее соображение. Я позабочусь о том, чтобы она могла завершить свое образование… Мари будет вращаться здесь в обществе гораздо более высокопоставленном, чем то, которое она могла видеть в Париже. Если думать о ее устройстве в жизни, надо сказать, что во Флоренции ей в этом смысле будет гораздо лучше, чем в любом другом месте. Удерживая силой это несчастное дитя в Париже, они не только разбивают ее сердце, но и губят ее будущее…»
Мэтру Лакану в конце концов удалось выхлопотать небольшую пенсию для вдовы Ферран, но Ида утверждала, что господин Дюма дает обязательства лишь в тех случаях, когда имеется возможность от них увильнуть. Единственной гарантией для трех женщин был «Монте-Кристо». Маркиза де ля Пайетри была уверена, что рано или поздно Дюма каким-либо ловким маневром ухитрится передать дом подставному лицу. Она не ошиблась. И все же справедливости ради следует добавить, что Дюма не мог жалеть женщину, которая, как он знал, находится на содержании у богатого итальянца, и, помимо всего прочего, сокрытие наличности представлялось ему вполне похвальным делом, так как всякого кредитора он считал своим врагом. Разве Портос платил когда-нибудь долги?
10 февраля 1848 года суд департамента Сены объявил о разделе имущества супругов в пользу супруги и приговорил Дюма: во-первых, возвратить жене растраченное им приданое в сто двадцать тысяч франков; во-вторых, платить алименты (в размере шести тысяч в год), обеспеченные недвижимым имуществом. Потерпев поражение в первой инстанции, Дюма обжаловал решение суда. Революция, разорив его, усугубила и его семейные неурядицы. «Монте-Кристо» и вся обстановка виллы должны были пойти с молотка, но Дюма предпринял меры к тому, чтобы продажа была фиктивной.
Александр Дюма – Огюсту Маке:
«Мне необходима ваша помощь в той мере, в какой вы сможете мне ее оказать. Чтобы урегулировать дела с госпожой Дюма, я вынужден продать обстановку моего дома, но собираюсь выкупить все, что смогу. Можете ли вы выручить ваши тысячу франков в „Ле Сьекль“ и занять еще тысячу у вашего отца или у Коппа и купить на две тысячи франков те предметы, которые я вам укажу? Затем, поскольку все эти вещи следует увезти из „Монте-Кристо“, вы переправите их в Буживаль[30], откуда я их заберу… Сегодня я буду целый день дома. Приходите. Я хочу видеть вас еще до вечера…»
«Замок» «Монте-Кристо» был продан по приказу суда за смехотворно малую сумму в 30100 франков Жаку-Антуану Дуайену, который, несомненно, был подставным лицом Дюма, потому что он так никогда и не вступил во владение домом. 28 июля 1848 года судебная палата (суд второй инстанции) подтвердила решение гражданского суда. Ида одерживала одну победу в суде за другой, но денег у нее от этого не прибавлялось.
Ида Дюма – мэтру Лакану, Флоренция, 9 сентября 1848 года:
«Все наши усилия могут оказаться бесполезными и ни к чему не приведут благодаря уверткам господина Дюма, с помощью которых он обходит закон. Но что бы ни произошло и каковы бы ни были результаты процесса, моя благодарность вам остается неизменной… Если бы не ваша энергичная помощь, если бы не доброта и преданность моих друзей во Флоренции, я не нашла бы в себе сил дождаться исхода моего дела. Моя мать говорит, что пройдет еще немало времени, прежде чем станет ясно, сможем ли мы получить что-нибудь от продажи „Монте-Кристо“. Она не в состоянии добиться даже выплаты пенсии и живет на одолженные деньги, ожидая, пока решится моя судьба.
Моя падчерица живет, увы, с отцом, и то роковое влияние на эту столь юную головку и сердце, которого я так опасалась, уже дает себя знать. Я предвижу, что все усилия, которые я прилагала, чтобы спасти ее от этой ужасной участи, обречены на провал. Но, как я вам уже говорила, сударь, я не перестаю уповать на вас и на божественный промысел… Моя мать (а она немного разбирается в этих вещах) пыталась мне объяснить, как обстоят наши дела. Она говорит о «необходимой отсрочке в три года», после которой мы сможем вчинить новый иск против этого господина Дуайена. Но на каком основании? Вот этого я совсем не поняла… Я очень опасаюсь, как бы отчуждение (sic!) имущества господина Дюма не разрушило ту последнюю надежду, которая у нас еще оставалась. Да будь мы тысячу раз правы в глазах закона, если господин Дюма не будет владеть никаким осязаемым имуществом, мы никогда не сдвинемся с мертвой точки…»
Дюма, который и впрямь не обладал более никаким осязаемым имуществом, обладал даром проматывать неосязаемое. Кредиторы понапрасну преследовали его. Сапожник, которому он был должен двести пятьдесят франков, приехал в Сен-Жермен, надеясь заставить Дюма заплатить по счету. Обедневший владелец «замка» принял его крайне любезно:
– Ах, это ты, мой друг, как хорошо, что ты приехал: мне нужны лакированные башмаки и сапоги для охоты.
– Господин Дюма, я привез вам небольшой счетец.
– Конечно, конечно… Мы займемся им после обеда… Но сначала ты должен у меня отобедать…
После обильной трапезы оробевший сапожник снова предъявил счет.
– Сейчас не время говорить о делах… Пищеварение прежде всего… Я прикажу заложить карету, чтобы тебя отвезли на вокзал… Держи, вот двадцать франков на билет.
Эта сцена, как будто взятая из комедии Мольера, повторялась каждую неделю. В конце концов сапожник перебрал у Дюма около шестисот франков и не меньше тридцати раз обедал за его счет. Потом приходил садовник Мишель.
– Должен вам сообщить, сударь, что у нас вышло все вино для прислуги; необходимо сделать новые запасы, в погребе остались только иоганнесбергер и шампанское.
– У меня нет денег. Пусть для разнообразия пьют шампанское.
Вскоре судебные исполнители перешли в наступление. Из «замка» увезли мебель, картины, кареты, книги и даже зверей! Один из исполнителей оставил такую записку: «Получен один гриф. Оценен в пятнадцать франков». Это был знаменитый Югурта-Диоген.
Но вот настал день, когда Дюма пришлось, наконец, покинуть свой «замок»; на прощание он протянул приятелю тарелочку, на которой лежали две сливы. Приятель взял одну из них и съел.
– Ты только что съел сто тысяч франков, – сказал Дюма.
– Сто тысяч франков?
– Ну конечно, эти две сливы – все, что у меня осталось от «Монте-Кристо»… А ведь он обошелся мне в двести тысяч франков…
Бальзак – Еве Ганской:
«Я прочел в газетах, что в воскресенье все движимое имущество „Монте-Кристо“ пойдет с торгов; сам дом продан или будет продан в ближайшем будущем. Эта новость повергла меня в ужас, и я решил работать денно и нощно, чтобы избежать подобной участи. Впрочем, во всех случаях я не допущу такого: лучше уеду в Соединенные Штаты и буду довольствоваться сельскими радостями, как господин Бокарме».
Одна из прекрасных черт характера Дюма заключалась в том, что даже в крайней бедности он оставался для всех, за исключением своей супруги и кредиторов, самым щедрым из людей. Он, как мог, поддерживал великих актеров романтического театра, которые приближались к печальной старости. Мадемуазель Жорж, чья толщина приобрела угрожающие размеры, играла в Батиньоле и была так бедна, что у нее часто не хватало двадцати пяти су на фиакр. Бокаж, став директором Одеона, с головой ушел в интриги и административные дела. Только Фредерик Леметр не сдался и, подобно Кину, шокировал публику, обращаясь к ней с подмостков:
– Граждане, сейчас, как никогда, время провозгласить: «Да здравствует республика!»
– Говори свой текст, фигляр! – обрывал его Мюссе.
Леметр играл в пьесе Огюста Вакери «Tragaldabas»[31] – последней романтической драме чистых кровей. Увы, «рапсодия часто оборачивается пародией». Трех десятилетий, за которые драма проделала путь от «Христины» и «Эрнани» до «Tragaldabas», было достаточно, чтобы загубить жанр. Еще не оправившись после смерти своего горячо любимого внука Жоржа, бедная Мари Дорваль была вынуждена снова зарабатывать себе на хлеб тяжким ремеслом бродячей актрисы. Но в Канне она слегла, не в силах продолжать дальнейшую борьбу. У нее нашли болезнь печени. Когда умирающую Мари привезли домой, она послала за Жюлем Сандо, своим бывшим любовником (остепенившийся Сандо струсил и отказался прийти) и за своим «славным псом» Дюма, который тут же примчался. «Та, которая в „Антони“ столько раз шептала: „Но я погибла, погибла“, – чувствовала, что обречена. Родственники ее были слишком бедны, чтобы купить место на кладбище, и она очень боялась, что ее тело бросят в общую могилу. Дюма поклялся, что не допустит такого позора…» Он достанет деньги.
Когда Дорваль умерла, Дюма отправился к графу Фаллу, министру народного просвещения, и обратился к нему за помощью. Но министр как официальное лицо не мог ничем ему помочь: фонда, предназначенного для вспомоществования драматическим артистам, не существовало, и он дал сто франков от своего имени. Однако Дюма во что бы то ни стало хотел сдержать обещание, данное умирающей, и, «так как его душевная доброта могла сравниться только с его беспечностью в денежных делах, он кинулся в ломбард, заложил свои награды и добыл таким образом двести франков на похороны». Жертва поистине героическая, потому что добродушный великан обожал свои усыпанные драгоценными камнями кресты и ордена. Затем он написал брошюру «Последний год Мари Дорваль», которую продавали «по пятьдесят сантимов, с тем чтобы собрать деньги на надгробие», и открыл подписку, чтобы выкупить из заклада драгоценности актрисы и передать их ее внукам. «Артистическая подписка» дала 190 франков 50 сантимов. 20 франков добавил от себя Понсар.
Несчастья не умерили предприимчивости Дюма. И он вместе с Арсеном Гуссе, тогдашним директором Комеди Франсез, затеял любопытный эксперимент. Он решил, что до сих пор никто еще не писал комедий о закулисных нравах времен Мольера, и взялся за эту тему. Инженю, разучивающие роли, маркизы, дающие им советы, кокетки, флиртующие под прикрытием вееров, ламповщик, отпускающий шутки, – из всего этого можно было сделать очаровательный спектакль и сыграть его 15 января – на мольеровские торжества. Дюма предложил сочинить «Три антракта к „Любви-целительнице“ и побился об заклад, что напишет их за одну ночь.
Он выиграл пари, и «Антракты» оказались более длинными, чем сама комедия. К сожалению, они были намного хуже ее и настолько запутаны, что публика в них ничего не поняла. Услышав слово «Антракт», публика решила: «Пора прогуляться по фойе». Поэтому после первого акта настоящей «Любви-целительницы» все зрители покинули зал, говоря друг другу: «Недурную комедию написал Дюма, но он явно подражает Мольеру…» Когда поднялся занавес и начался первый акт «Антрактов» Дюма, все, за исключением нескольких самых сообразительных, решили, что это продолжение предыдущей пьесы. Однако между обоими актами не было никакой связи: уж не превратилась ли Комеди Франсез в вавилонскую башню? Некоторое время публика недоумевала, чья же эта пьеса – Дюма или Мольера. Принц-президент, присутствовавший на спектакле, послал за администратором. Луи-Наполеон Бонапарт понял не больше, чем простые смертные. Лишь актеры и критики знали, в чем дело, и немало потешались; но и они возмущались Дюма: «Посягнуть на Мольера! Какая профанация! Какое святотатство!» Зрители освистали второй акт «Любви-целительницы», как будто Мольер был начинающим автором. Они считали, что освистывают Дюма.
Госпожа Арсен Гуссе дала обед, чтобы «вознаградить за все неприятности этого славного Александра Дюма, которого я люблю всем сердцем. Он так старался и был так остроумен… Мадемуазель Рашель была на обеде». Это происходило накануне возобновления «Мадемуазель де Бель-Иль» с участием Рашели. Неистовая Гермиона хотела доказать, что под оболочкой трагической актрисы в ней живет женщина. Она превзошла свои самые дерзкие надежды.
«По окончании пьесы Дюма заключил мадемуазель Рашель в объятия, поднял ее, поцеловал и сказал:
– Вы женщина всех веков, вам по плечу любые шедевры. Вы смогли бы играть всех моих героинь как в драмах, так и в комедиях.
– Нет, не всех, – возразила, смеясь, Рашель. – Мне бы вовсе не хотелось, чтобы меня убил Антони.
– Но Антони никогда не стал бы вас убивать!
– Однако какое самомнение! – сказала Рашель. – Антони – это вы; значит, вы думаете, я не устояла бы перед Антони?
– Никогда, – сказал Дюма, – если бы сейчас был 1831 год… Но эти прекрасные дни миновали…»
Прекрасные дни и в самом деле миновали. Старый певец Беранже морализировал: «Мой сын Дюма так же расточал свой талант, как некоторые женщины – свою красоту, и я очень опасаюсь, как бы господину Дюма, подобно этим легкомысленным созданьям, не пришлось кончить свои дни в нищете». Беранже, скрывавший свою натуру под личиной смирения и сердечности, был опасным другом, не упускавшим случая позлословить о своих близких. Он очень легко сносил чужие несчастья.
Глава четвертая
ДАМА С ЖЕМЧУГАМИ
В мужчинах, известных своими победами, есть
нечто волнующее и привлекающее женщин.
Бальзак
В 1850 году Дюма-отец, за которым гналась по пятам свора кредиторов, жил довольно скромно. Он продолжал издавать газету «Ле Муа», в которой нападал на крайности демагогов и на гонения со стороны правительства. Он представил на рассмотрение правительства грандиозный проект объединения под его руководством трех «пришедших в упадок театров»: Порт-Сен-Мартен, Амбигю и Исторического театра. Дюма хотел, чтобы его назначили суперинтендантом всех драматических театров: у этих театров будут общие декорации, одна труппа и одна администрация, что, по его мнению, должно было дать большую экономию. Он обязывался следить за тем, чтобы «все театры придерживались одного направления во всем, что касается истории, морали и религии, целиком соответствующего пожеланиям правительства». Однако эта программа коллективного конформизма не осуществилась.
Дюма-сын разъехался с отцом. Они любили друг друга, часто ссорились и быстро мирились. Сын осуждал отца за то, что он берет себе в любовницы все более и более молодых женщин. Последней фавориткой Дюма была двадцатилетняя актриса Изабелла Констан, хрупкая, бледная и белокожая девица, – приемная дочь парикмахера, чью фамилию она взяла своим сценическим псевдонимом. С незабвенных времен Мелани Вальдор Дюма ни разу не впадал в такую сентиментальность.
Дюма-отец – Изабелле Констан: «Любовь моя… Ты заставляешь меня вновь переживать самые сладостные дни моей юности. И пусть тебя не удивляет, что мое перо так помолодело – ведь моему сердцу сейчас двадцать пять лет. Я люблю тебя, мой ангел. За свою жизнь человек, увы, переживает лишь две настоящих любви: первую, которая умирает своей смертью, и вторую, от которой он умирает. К несчастью, я люблю тебя последней любовью…
Ты ревнуешь меня, мое дорогое дитя (sic!), – человека, который в три раза старше тебя. Посуди сама, как тогда должен ревновать я, по целым дням не видя тебя. Вот, например, вчера я чуть было не сошел с ума, не мог работать и бесцельно ходил из угла в угол… Нет, мой драгоценный ангел, так я не могу любить – я не могу обладать тобой лишь наполовину. Я не говорю о физическом обладании, в моем чувстве к тебе сочетается страсть любовника и привязанность отца. Но именно поэтому я не могу обойтись без тебя… Еще раз повторяю тебе, задумайся над этим, потому что сейчас решается наше будущее, задумайся, если ты хоть немного хочешь связать свою судьбу со мной. Мне необходимо быть рядом с тобой, чтобы принадлежать тебе, даже если ты не можешь принадлежать мне.
Есть и еще одна вещь, которую ты, мой ангел, в своей чистоте и целомудрии не можешь понять: в Париже сотни красивых молодых женщин, которые ради своей карьеры ждут не того, чтобы я пришел к ним, а чтобы я позволил им прийти ко мне. Итак, мой ангел, я отдаю себя в твои руки. Охраняй меня. Простри надо мной твои белые крылья. Огради меня своим присутствием от тех ошибок, которые я могу совершить и неоднократно совершал в минуты безумия или отчаяния и которые отравляют жизнь человека на долгие годы.
Если ты не можешь уступить моим мольбам из любви, склонись на них хотя бы из честолюбия. Ты любишь свое искусство, люби его сильнее меня, это единственный соперник, с которым я готов мириться. И никогда еще честолюбие ни одной королевы не было удовлетворено так полно, как будет твое. Ни одна женщина – даже мадемуазель Марс – не имела таких ролей, какие я дам тебе в ближайшие три года…»
Влияние старости (о приближении которой свидетельствовала лишь седеющая шевелюра), странное сочетание отцовской нежности с любовным пылом, хрупкое здоровье молодой девушки объясняют этот умиленный стиль письма. «Жеронт при новой Изабелле», Дюма с удовольствием играл в семейную жизнь, приходил к ней стряпать обеды, водил ее как супругу в гости к друзьям, что, впрочем, отнюдь не мешало ему иметь в то же самое время еще десяток интрижек с молодыми дамами, более пылкими и доступными.
Сын метил гораздо выше. Успех «Дамы с камелиями» способствовал его престижу. Его светло-голубые глаза производили неотразимое впечатление на женщин. В те времена любой художник казался светским женщинам невероятно привлекательным и вместе с тем демонически страшным. Иногда они пытались привязать художника к себе, ничего ему не позволяя, как, например, поступила маркиза де Кастри с Бальзаком. Дюма-сын, тогда еще молодой годами и сердцем, смотрел на «знатных дам» с наивным восхищением. Его по-прежнему печалила и волновала судьба Мари Дюплесси.
«Заблудшие создания, которых я так хорошо знал, которые одним продавали наслаждение, а другим дарили его и которые готовили себе лишь верное бесчестье, неизбежный позор и маловероятное богатство, в глубине души вызывали у меня желание плакать, а не смеяться, и я начал задаваться вопросом, почему возможны подобные вещи».
Как-то после обеда у одной особы легкого поведения граф Ги де ля Тур дю Пэн сказал ему:
– Дружеское расположение к вам и мой возраст – я лет на пятнадцать старше вас – позволяют мне дать вам один совет… Мы только что отобедали у этой прелестной и остроумной девицы. У нее бывают самые разные люди, вы можете изучать тут нравы. Изучайте, но, когда вам исполнится двадцать пять лет, постарайтесь, чтобы вас больше не встречали в этом доме…
В 1849 году ему исполнилось двадцать пять лет, и он решил последовать этому совету. Любовницей его в ту пору была дама по фамилии Давен (или Дальвен), особа с весьма неблаговидным прошлым, однако он вращался в обществе если не в более нравственном, то во всяком случае более блестящем.
Русская аристократия представляла тогда в Париже нечто вроде неофициального посольства красавиц. Молодые женщины – Мария Калергис, ее родственница графиня Лидия Нессельроде, их подруга княгиня Надежда Нарышкина – собирали в своих салонах государственных деятелей, писателей и артистов. В России царь, мужья, семьи обязывали их соблюдать определенную осторожность. В Париже они вели себя, словно сорвались с цепи.
В 1850 году в доме Марии Калергис Дюма познакомился с Лидией Закревской, которая уже три года была замужем за графом Дмитрием Нессельроде. Эта очаровательная женщина, очень остроумная, очень богатая, не любила своего мужа, который был на семнадцать лет старше ее. Отец Дмитрия – канцлер граф Карл Нессельроде, министр иностранных дел, благодаря уму и ловкости сумел продержаться на своем посту при трех российских императорах. В январе 1847 года Дмитрия отозвали из Константинополя, где он служил секретарем посольства, чтобы женить его на юной наследнице с приданым в триста тысяч рублей, отец которой, граф Закревский, был генерал-губернатором Москвы и пользовался всеобщим уважением. Большой дипломат и многоопытный человек, Дмитрий считал, что ему легко удастся подчинить себе девочку-жену, которую два могущественных семейства бросили в его постель.
Но брак этот оказался весьма неудачным со всех точек зрения. Молодая графиня начала ездить на воды, лечить слабые нервы. Ее видели в Бадене, в Эмсе, в Спа, в Брайтоне и, наконец, в Париже, который стал для нее самым действенным и в то же время самым опасным из всех лекарств. Муж не смог увезти ее из этого города соблазнов и был вынужден отбыть в Россию один. Мария Калергис давно рассталась со своим мужем греком и отдала дочь на воспитание в католический монастырь, благодаря чему могла, не нарушая приличий, поселиться в доме N8 по улице Анжу. Она обещала Дмитрию неусыпно следить за Лидией. Вместе с Надеждой Нарышкиной они образовали ослепительное трио славянских красавиц. Лидия то и дело ездила из Парижа в Берлин, Дрезден, Санкт-Петербург, но тут же возвращалась обратно. Графиню Нессельроде тревожила семейная жизнь ее сына.
17 июня 1847 года:
«Дмитрий писал мне из Берлина всего один раз, – он, как всегда, не балует меня письмами. С тех пор я от него ничего не получала. Он очень меня беспокоит. Сможет ли он вести себя с достаточным тактом во время этого длительного пребывания вдвоем?.. Ведь их взгляды и понятия несхожи. Ему выпала нелегкая задача, а он полагал, что все будет очень просто. Он не учел, сколько понадобится терпения, чтобы удерживать в равновесии эту хорошенькую, но сумасбродную головку. Если он не будет смягчать свои отказы, если устанет доказывать и убеждать, это приведет к охлаждению, чего я весьма опасаюсь. Повторяю, их отношения очень беспокоят меня. Я пишу ему об этом, но это все равно, что бросать слова на ветер».
Прозорливостью, столь естественной у свекрови, не были обделены и золовки Лидии, но они относились к ней еще более враждебно. Елена Хрептович и Мария фон Зеебах, урожденные Нессельроде, ненавидели Марию Калергис и обвиняли ее (не без оснований) в том, что она играет по отношению к канцлеру, которого она называла не иначе, как «обожаемым дяденькой», ту же роль, что герцогиня Дино, другая заблудшая племянница, играла при престарелом Талейране. Мария Калергис, эта «снежная фея», слишком живо интересовалась поэтами и пианистами; кузины ее относились к ней подозрительно и предостерегали Дмитрия против ее пагубного влияния.
В феврале 1850 года Лидия, к великой радости могущественных семейств, родила сына Анатолия, которого звали Толли. Но Франция обладала неодолимой притягательной силой для прелестной и сумасбродной графини, и она вновь уехала в Париж. Она оказалась чудовищной мотовкой. Лишь на цветы для одного бала, данного ею в ее парижском особняке, она потратила восемьдесят тысяч франков. Она шила только у Пальмиры, каждое платье обходилось ей в полторы тысячи франков, и, отправляясь к портнихе, она заказывала всякий раз не меньше дюжины. Она приобрела превосходные жемчуга длиною в семь метров. К красному платью она носила убранство из рубинов (диадему, ожерелье, браслеты, серьги), к туалету из голубого бархата – убранство из сапфиров. Это, конечно, приводило к несметным долгам.
Сначала Лидии Нессельроде взбрело в голову познакомиться с автором «Дамы с камелиями»; потом стать его любовницей. Дюма-сын не столько завоеватель, сколь завоеванный, потерял голову. Да и кто бы устоял?
Двадцатилетняя красавица, невестка премьер-министра России, беспощадная кокетка, женщина тонкая и образованная, кидается на шею бедному начинающему писателю. Мог ли Александр сомневаться, что встретил истинную любовь?
Дюма-отец рассказывает в своих «Беседах» о том, как сын привел его «в один из тех элегантных парижских особняков, которые сдают вместе с мебелью иностранцам», и представил молодой женщине, «в пеньюаре из вышитого муслина, в чулках розового шелка и казанских домашних туфлях». Ее распущенные роскошные черные волосы ниспадали до колен. Она «раскинулась на кушетке, крытой бледно-желтым Дамаском. По ее гибким движениям было ясно, что ее стан не стянут корсетом… Ее шею обвивали три ряда жемчугов. Жемчуга мерцали на запястьях и в волосах…»
– Знаешь, как я ее называю? – спросил Александр.
– Нет. Как?
– Дама с жемчугами.
Графиня попросила сына прочитать отцу стихи, которые он написал для нее накануне.
– Я не люблю читать стихи в присутствии отца, я стесняюсь.
– Ваш отец пьет чай и не будет на вас смотреть.
Александр начал слегка дрожащим голосом:
- Мы ехали вчера в карете и сжимали
- В объятьях пламенных друг друга: словно мгла
- Нас разлучить могла. Печальны были дали,
- Но вечная весна, весна любви цвела.
Затем в поэме описывалась прогулка в парке Сен-Клу, молодая женщина, придерживающая шелковое платье, длинные аллеи, мраморные богини, лебедь, имя и дата, начертанные на пьедестале одной из статуй:
- Распустятся цветы – и в сад приду я снова,
- Я в летний сад приду взглянуть на пьедестал:
- Начертано на нем магическое слово –
- То имя нежное, чьим пленником я стал.
- Скиталица моя, где будете тогда вы?
- Покинете меня? Вновь разлучимся мы?
- О, неужели вы хотите для забавы
- Средь лета погрузить меня в кошмар зимы?
- Зима – не только снег, не только мрак и стужа,
- Зима – когда в душе свет радости погас,
- И в сердце песен нет, и мысль бесцельно кружит,
- Зима – когда со мной не будет рядом вас.
Дюма, снисходительный отец, заключал: «Я покинул этих прелестных и беспечных детей в два часа ночи, моля Бога влюбленных позаботиться о них». Надо сказать, что Бог влюбленных плохо заботился о своих подопечных. Вьель-Кастель 29 марта 1851 года записал в своем дневнике следующую сплетню, которую, как он говорил, передают под большим секретом: три знатные иностранки, среди них Мария Калергис и графиня Нессельроде, будто бы «основали общество по разврату на паях» и вербовали для этой цели «героев-любовников из числа самых бесстыдных литераторов. Нессельроде взяла себе в наставники Дюма-сына, Калергис поступила под опеку Альфреда де Мюссе. Дюма-сын обрел в Нессельроде самую послушную ученицу. Но приказ из Петербурга, призывающий графиню вернуться на родину, положил этому конец…»
Вьель-Кастель охотно раздувал слухи о скандалах, но требование мужа и приказание царя действительно имели место. В марте 1851 года Дмитрий Нессельроде «похитил» свою жену и увез ее из Парижа, чтобы положить конец ее безрассудствам. И все же marito[32] не хотел поверить, что падение свершилось. Он защищал Лидию, «это неопытное и очаровательное дитя», от клеветы: «Один наглый французишко осмелился компрометировать ее своими ухаживаниями, но его призвали к порядку».
В лагере Дюма эту историю представляли, естественно, в ином свете. Дюма-отец рассказывает, как мартовским утром сын пришел к нему и спросил:
– У тебя есть деньги?
– Должно быть триста или четыреста франков; открой ящик и сам посмотри.
Молодой Александр открыл шкаф.
– Триста двадцать франков… С тем, что есть у меня, это составит шестьсот франков. Этого с лихвой хватит на отъезд. Ты не можешь дать мне заемное письмо в Германию?
– Если хочешь, тысячу франков на Брюссель, на Мелина и Кана. Они мои друзья и не оставят тебя в нужде.
– Хорошо. Да и потом, если понадобится, ты перешлешь мне деньги в Германию. Я тебе напишу оттуда, как только прибуду на место.
– Итак, ты едешь…
– Я расскажу тебе все по возвращении.
Александр Дюма пробыл в отъезде почти год. Он проехал через всю Бельгию и Германию, следуя по пятам за своей любовницей. Из Брюсселя он написал своей приятельнице Элизе Ботте, которая была родом из Кореи (местечко неподалеку от Вилле-Коттре) и именовала себя Элизой де Кореи. Тайная полиция перехватила письмо.
Александр Дюма – Элизе Ботте де Кореи, 21 марта 1851 года:
«Дорогой друг, мы прибыли в Брюссель. Бог знает куда она повлечет меня теперь. Сегодня вечером я три или четыре раза видел ее, она казалась бледной и печальной, глаза у нее были заплаканные. Вы огорчились бы, увидев ее. Словом, я влюблен – и этим все сказано!..»
После Бельгии погоня привела его в Германию. Из Дрездена и из Бреслау он вновь и вновь обращался к отцу и наперснику с просьбами о деньгах; отец, сочувствовавший любой авантюре, посылал ему все, что мог.
Дюма-отец – Дюма-сыну:
«Мой дорогой друг, Вьейо обращался ко всем, кого ты указывал но никто не захотел дать ни одного су. Так что рассчитывай только на меня, но рассчитывай твердо. Ты правильно сделал, что остался. Раз дело зашло так далеко, надо довести его до конца. Берегись русской полиции, которая дьявольски жестока и может, несмотря на покровительство наших прекрасных полек, а может быть, и благодаря ему, живо домчать тебя до границы… Вчера я отправил двадцать франков твоей матери. Будь осторожен. Я посылаю тебе все, что могу; через две недели вышлю пятьсот франков, которые ты просил. Обнимаю тебя… Ты вырос на сто голов в глазах Изабеллы…»
От станции к станции, от гостиницы к гостинице гнался Дюма за четой Нессельроде, но, прибыв на границу с русской Польшей, в Мысловиц, обнаружил, что граница для него «закрыта, да еще на засов». Таможенники получили инструкцию не пропускать Александра Дюма в Россию. Отец и сын Нессельроде отдали приказ отказывать в проезде «наглому французишке». Дюма-сын в мае 1851 года провел две недели на деревенском постоялом дворе, за пятьсот лье от своей родины. Единственным развлечением его было чтение в подлиннике писем Жорж Санд к Фредерику Шопену.
Дюма-сын – Дюма-отцу:
«В то время, дорогой отец, как ты обедал с мадам Санд, я тоже занимался ею… Представь себе, что у меня здесь оказалась в руках вся ее десятилетняя переписка с Шопеном. К несчастью, эти письма мне дали только на время. Вы спросите, откуда здесь, в Мысловице, в глуши Силезии, переписка, родившаяся в центре Берри? Объясняется это очень просто: Шопен, как тебе известно, а может быть, и не известно, был поляком. Его сестра после его смерти нашла в его бумагах эти письма, бережно хранившиеся в конвертах с отметкой о дне получения, что свидетельствует о самой почтительной и беззаветной любви. Она взяла их себе, но перед тем, как въехать в Польшу, где полиция бесцеремонно прочла бы все, что она везет с собой, оставила их у друзей, живущих в Мысловице. И все же профанация свершилась, так как и я приобщился к тайне… Нет ничего более грустного и более трогательного, чем эти письма с выцветшими чернилами, которых касался и которые с такой радостью получал человек, ныне мертвый!.. На какой-то миг я даже пожелал смерти хранителю писем, между прочим, моему приятелю, чтобы стать обладателем этого сокровища и иметь возможность преподнести его госпоже Санд, которая, возможно, будет рада снова пережить эти давно ушедшие дни. Но презренный (мой приятель), увы, пользуется завидным здоровьем, и, полагая, что уеду отсюда 15-го, я вернул ему переписку, которую у него недостало даже любопытства прочесть. Чтобы тебе стало понятно подобное безразличие, следует сообщить, что он младший компаньон в одной экспортной фирме».
«Дюма-сын – Жорж Санд, Мысловиц, 3 июня 1851 года:
«Сударыня, я все еще нахожусь в Силезии и счастлив этим: ибо смогу быть хоть в какой-то мере полезным вам. Через несколько дней я буду во Франции и привезу вам лично, разрешит ли мне госпожа Едржеевич или нет, те письма, которые вы хотите получить. Бывают поступки столь неоспоримо справедливые, что на них не должно и спрашивать ничьего разрешения. Счастливым результатом всех этих неделикатных поступков будет то, что вы получите ваши письма. Но поверьте мне, сударыня, что в этом не было профанации: сердце, которое из такого далека, презрев скромность, стало поверенным вашего сердца, уже давно принадлежит вам, и восхищение, которое я к вам питаю, по силе и давности ничем не уступает чувствам, порожденным самыми старыми привязанностями. Постарайтесь поверить мне и простить…»
Так Жорж Санд получила свои любовные письма к Шопену и сожгла их. Так завязалась дружба Дюма-сына с владетельницей Ноана, которая началась с переписки и продолжалась всю жизнь.
Однажды в июне в кабинет Дюма-отца вошел бородатый молодой человек и сказал:
– Как, ты меня не узнаешь?.. Я так скучал в Мысловице, что решил для развлечения отпустить усы и бороду. Здравствуй, папа!
30 декабря он совершил паломничество в парк Сен-Клу и, вернувшись оттуда, протянул отцу лист бумаги:
– Держи! Вот продолжение стихов, которые я читал тебе год назад.
Дюма-отец прочел:
- Год миновал с тех пор, как в ясный день с тобою
- Гуляли мы в лесу и были там одни.
- Увы! Предвидел я, что решено судьбою
- Нам болью отплатить за радостные дни.
- Расцвета летнего любовь не увидала:
- Едва зажегся луч, согревший нам сердца,
- Как разлучили нас. Печально и устало
- Мы будем врозь идти, быть может, до конца.
- В далекой стороне, весну встречая снова,
- Лишен я был друзей, надежды, красоты,
- И устремлял я взор на горизонт суровый,
- И ждал, что ты придешь, как обещала ты.
- Но уходили дни дорогами глухими.
- Ни слова от тебя. Ни звука. Все мертво.
- Закрылся горизонт, чтоб дорогое имя
- Не смело донестись до слуха моего.
- Один бумажный лист – не так уж это много.
- Две-три строки на нем – не очень тяжкий труд.
- Не можешь написать? Так выйди на дорогу:
- Идет она в поля, и там цветы растут.
- Один цветок сорвать не трудно. И в конверте
- Отправить лепестки не трудно. А тому,
- Кто жил в изгнании, такой привет, поверьте,
- Покажется лучом, вдруг озарившим тьму.
- Уж целый год прошел, и время возвратило
- Тот месяц и число, что ровно год назад
- Встречали вместе мы, и ты мне говорила
- Об истинной любви, которой нет преград.
Александр хотел написать свое «Горе Олимпио». Он не обладал талантом Виктора Гюго, но чувство его было сильным и искренним. В его любви к прекрасной иностранке сочетались страсть и гордыня: в двадцать пять лет такая любовь может захватить человека целиком. Можно понять, как он был поражен и обеспокоен тем, что Лидия не подает никаких признаков жизни: ну, пусть прислала хотя бы записку без подписи, несколько засушенных лепестков или жемчужину!
Каким бы опытным и развращенным он ни казался, в глубине души он был сентиментален и не представлял, сколько холодного цинизма может таиться в двадцатилетней кокетке. Пока он предавался отчаянию в Польше, в семействе Нессельроде происходили странные события. Дмитрию, раненному в руку при таинственных обстоятельствах (дуэль? попытка к самоубийству?), грозила ампутация, которой он чудом избежал. Лидия бросила мужа и уехала в Москву, где снисходительные родители укрыли взбалмошную и бессердечную беглянку.
Канцлер Нессельроде – своей дочери Елене Хрептович, 1 июня 1851 года:
«Дмитрия лечили четыре лучших хирурга города, трое из них настаивали на ампутации, четвертый был против, и благодаря ему твой брат сохранил руку… Он был готов к худшему и попросил отсрочку на 48 часов, чтобы причаститься и написать завещание. Он вел себя необычайно мужественно… В разгар этих ужасных испытаний здесь появились Лидия и ее мать, чем я был пренеприятно удивлен: они прибыли сюда, как только прослышали о несчастном случае, разыграли драму и пытались достигнуть примирения. Но все их старания были напрасны, и они отбыли, так и не повидав твоего брата… Но я не счел возможным отказать им в удовольствии видеть ребенка и посылал его к ним каждый день…»
Канцлер, «фаталист, наделенный неистощимой терпимостью», ни словом не обмолвился о скандале. Он терпеть не мог семейных сцен. Да и потом, государственному деятелю, находящемуся у кормила власти, не пристало ссориться с несметно богатым губернатором Москвы, тем более что его собственный внук являлся наследником этого губернатора. И он посоветовал сыну достигнуть соглашения, но не идти на примирение, потому что прекрасная Лидия только и делала, что меняла любовников: за Воронцовым последовал Барятинский, за Барятинским – Рыбкин, за ним Друцкой-Соколинский. Дюма-сын никогда больше ее не видел. Узнав, что Лидия порвала с мужем и путешествует по Саксонии, он посылал в Дрезден, потратив на это много денег, Элизу де Кореи, но все было напрасно.
Дюма-сын – Элизе де Кореи, Брюссель, 12, декабря 1851 года: «Дорогая Элиза, пишу вам из Брюсселя, где живу вместе с отцом.
Он проиграл процесс, и ему придется, возможно, выложить из своего кармана двести тысяч франков, так что, пока это дело не уладится, ему лучше находиться подальше от Парижа… Я только что отправил письмо графине. Я сообщил ей, что нахожусь в Бельгии… Напоминаю о вашем обещании писать мне правду, всю правду… Красный воск – для ваших, воск другого цвета – для ее писем».
26 декабря 1851 года: «Постарайтесь увидеть графиню, это самое главное…»
Но связаться с графиней оказалось невозможно. Для нее роман с ним был давно забытым приключением. Дюма, наверное, долго и горестно размышлял об испорченности и лживости этого юного существа, которое когда-то казалось ему столь нежным. Эта встреча имела влияние на всю его жизнь. Всю жизнь ему будут нравиться жестокие кокетки и никогда – искренне любящие женщины, на чувства которых он мог бы положиться. На всю жизнь он сохранит отвращение к адюльтеру и его последствиям. И лишь в 1852 году другая славянская красавица, княгиня Надежда Нарышкина, наперсница и соучастница Лидии Нессельроде, на словах передаст ему весть о разрыве. Как вестница заняла место той, которая ее послала, мы узнаем в свое время.
Связь с Мари Дюплесси смягчила сердце Дюма-сына; связь с Лидией Нессельроде иссушила его. Неосторожное слово – и ребенок взрослеет, обманутая любовь – и человек ожесточается.
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ОТЕЦ И СЫН






