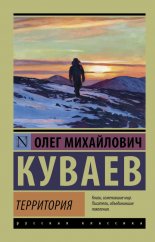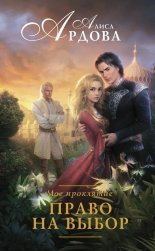Плексус Миллер Генри

– Поспеши, Джордж, иначе они ускачут.
С быстротой молнии Джордж схватил свой кнут и выскочил на улицу.
– Изыди, Иезавель! – воззвал он. – Изыди!
И с тем же проворством, как исчез, вновь появился на пороге, протягивая нам корзину с яблоками и несколько кочанов цветной капусты.
– Примите благословение Господне, – изрек он. – Мир вам! Аминь, брат! Возрадуйся, сестра! Слава Господу на небеси!
Затем он вернулся к своей повозке, стегнул лошадей и, на все стороны раздавая благословения, исчез из поля зрения.
Лишь несколько позже обнаружил я забытую им на столе Библию – потрепанную, замусоленную, сплошь испещренную пометками, без переплета, с оторванными уголками траниц, с выпадающими листами. Но как бы то ни было, возжаждав Слова Божия, я обрел Его. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам»[21]. Я и сам понемногу заражался безумием Джорджа. Писание ударяет в голову сильнее самых крепких вин. Открыв Библию наугад, я тут же набрел на одно из своих любимых мест:
«И на челе ее написано имя: ТАЙНА, ВАВИЛОН ВЕЛИКИЙ, МАТЬ БЛУДНИЦАМ И МЕРЗОСТЯМ ЗЕМНЫМ.
Я видел, что жена упоена была кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим.
И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов.
Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится»[22].
Не знаю почему, но всякий раз, пообщавшись с адептами веры, я немедленно начинаю испытывать обостренный голод и жажду – проще говоря, стремление проглотить и выпить все на свете, что того заслуживает. Должно быть, насыщенный идеями дух инстинктивно сообщает аналогичную потребность всем членам и частям моего тела. Не успел Джордж исчезнуть за поворотом, как я принялся раздумывать о том, есть ли в нашем треклятом аристократическом квартале булочная, откуда можно было бы принести прилично изготовленный штрудель, пончики или на славу пропеченный кекс с корицей, который так и тает во рту. А опрокинув еще пару бокалов портвейна, стал грезить о яствах более калорийных – вроде картофельных клецек, плавающих в темном соусе с пряностями, или нежной лопатки молочного поросенка, фаршированной отварными яблоками, каковую можно было предварить копченой грудинкой и патиссонами; или блинов, пеканов и бразильских орешков, или русской шарлотки – такой, какую готовят только в Луизиане. Короче говоря, в данный момент меня устроило бы любое блюдо, лишь бы оно было сочно, питательно и вкусно. Скоромной пищи – вот чего я жаждал всем своим существом. Скоромной пищи и вина, бодрящего дух и тело. А также рюмки отборного кюммеля, дабы достойно завершить трапезу.
Я пораскинул мозгами, к кому из знакомых можно было бы заглянуть в надежде на сытный ужин. (Большинство их, к сожалению, не имели привычки питаться дома.) На память пришли несколько, но одни слишком далеко жили, а с другими отношения сложились так, что сваливаться им на голову без предварительной договоренности было просто неловко. Мона, разумеется, решительно выступала за то, чтобы пойти в какой-нибудь шикарный ресторан, наесться до отвала, а затем… затем мне предстояло тихо посидеть за столом, дожидаясь, пока она не отыщет там кого-либо из своих поклонников, который почел бы за одолжение заплатить по счету. Мне эта идея отнюдь не импонировала. Такое мы уже проделывали, и не раз. Помню даже, как мне случилось чуть ли не до рассвета просидеть за ресторанным столиком в надежде, что покажется человек с туго набитым кошельком. Нет уж, благодарю покорно. Коль скоро мы собираемся нажраться в собственное удовольствие, платить я намерен из собственного кармана.
– Кстати, сколько у нас денег? – осведомился я. – Ты везде пошарила?
Наскрести удалось не больше семидесяти двух центов. До получки оставалось целых шесть дней. И я был слишком утомлен (и голоден), чтобы ради нескольких долларов одно за другим объезжать региональные отделения компании, где служили знакомые.
– Давай сходим в шотландскую булочную, – предложила Мона. – Там кормят очень незатейливо, но сытно. И дешево.
Шотландская булочная – унылого вида заведение с отделанными мрамором столиками и полом, усеянным опилками, – помещалась по соседству с городской управой. Владели ею угрюмые пресвитериане, выходцы из глухой провинции. Их выговор неприятно напомнил мне речь родителей Макгрегора. В каждом слоге, срывавшемся с их губ, явственно слышалось позвякиванье разменной монеты. Вдобавок к очевидной прижимистости их отличало какое-то странное высокомерие, складывалось впечатление, что от вас ожидают безмерной признательности в ответ на элементарную вежливость и более чем ординарное обслуживание.
Нам подали нечто трудноопределимое с кусками жилистой конины, плавающими в жирной овсянке, и ячменными лепешками, намазанными маслом; тонкий лист незрелого латука, судя по всему, призван был исполнить функцию гарнира. Вкуса у данного блюда не было решительно никакого; готовила его старая дева с постной физиономией, похоже ни разу в жизни не улыбнувшаяся свету дня. По мне, лучше уж сожрать целую кастрюлю перловой похлебки с гренками. Или пару горячих франкфуртеров с картофельной смесью, бессменно появлявшихся на столе в доме предков Эла Берджера.
Что и говорить, трапеза опустила нас на грешную землю. И все-таки объявшая меня эйфория не исчезла окончательно. Невесть откуда появилось чувство удивительной легкости и ясности, то неуловимо обострившееся ощущение всего происходящего вокруг, которое у меня обычно сопутствовало периоду длительного голодания. Каждый раз, как распахивалась дверь, в наши уши с улицы врывался оглушительный лязг и грохот. Булочная выходила фасадом на трамвайные пути; напротив нее помещались фотоателье и магазин радиотоваров, а ближайший перекресток был ареной нескончаемых автомобильных пробок. Смеркалось; когда мы поднялись и двинулись к выходу, в городе стали зажигаться уличные фонари. Заломив шляпу набекрень, лениво пожевывая зубочистку, я замедлил шаг на тротуаре, внезапно осознав, что вокруг чудесный теплый вечер, один из последних вечеров уходящего лета. В мозгу проносились бессвязные обрывки мыслей. К примеру, вновь и вновь вставал в памяти день, когда, чуть ли не пятнадцать лет назад, на том самом месте, где сейчас царил подлинный бедлам, вскакивал я на трамвайную подножку вместе с моим закадычным другом Макгрегором. Трамвай был открытый, а направлялись мы в Шипсхед-Бей[23]. Под мышкой я держал роман «Санин»[24]. Едва дочитав, я собирался предложить его Макгрегору. Вспоминая приятное потрясение, какое произвела во мне эта ныне забытая книжка, я вдруг услышал до боли знакомую мелодию, лившуюся из громкоговорителя в магазине радиотоваров. Кантор Сирота исполнял один из старых молитвенных гимнов. Я сразу узнал его голос, ибо слышал этот гимн десятки раз. В свое время я незамедлительно приобщал к своей коллекции каждую новую его пластинку. Несмотря на то что стоили они недешево…
Я искоса взглянул на Мону: мне хотелось узнать, как действует на нее эта мелодия. Ее глаза увлажнились, лицо напряглось. Без слов я взял ее за руку и мягко сжал в своей. Так мы простояли несколько минут, пока музыка не смолкла.
– Узнаёшь? – негромко проговорил я.
Она молчала. Губы ее дрожали. По щеке скатилась слеза.
– Мона, милая Мона, какой смысл это скрывать? Я все знаю, все давно знаю… Неужели ты думала, что я начну сторониться тебя?
– Нет, Вэл, нет. Я просто не могла заставить себя тебе открыться. Не знаю почему.
– Но, Мона, дорогая, неужели тебе не приходило в голову, что ты только еще дороже мне оттого, что ты – еврейка? Я тоже не знаю почему, но это так. Ты напоминаешь мне женщин, о которых я мечтал еще мальчишкой, – героинь Ветхого Завета. Руфь, Ноеминь, Эсфирь, Рахиль, Ревекка… Незабываемые имена. В детстве меня часто удивляло, почему их не носит никто из моих знакомых.
Я обнял ее за талию. Теперь она тихонько всхлипывала.
– Подожди. Мне надо еще кое-что тебе сказать. И имей в виду: это не каприз, не минутное настроение. Я хочу, чтоб ты знала: я говорю от души. Я долго вынашивал это в себе.
– Не надо, Вэл. Пожалуйста, не надо. – Протянув руку она накрыла мне рот пальцами.
Я выждал несколько мгновений, потом мягко разомкнул их.
– Дай мне сказать, – попросил я. – Я не сделаю тебе больно. Разве смог бы я причинить тебе боль сейчас?
– Но я знаю, что ты хочешь сказать. И я… я не стою этого.
– Ерунда! Ну послушай… Понишь тот день, когда мы поженились… там, в Хобокене? Помнишь эту мерзкую церемонию? Я ее никогда не забуду. Да, так вот о чем я подумал… Что, если мне перейти в иудаизм?.. Не смейся, я серьезно. И что, собственно, в этом странного? Переходят же люди в католичество или магометанство. Ну а я перейду в иудаизм. И по самой веской причине на свете.
– По какой же? – В полном недоумении она подняла на меня взгляд.
– Потому что ты еврейка, а я люблю тебя – разве этого мало? Я люблю в тебе все… так почему бы мне не полюбить твою религию, твой народ, твои обычаи и традиции? Ты ведь знаешь, я не христианин. Я так, неизвестно что. Даже не гой. Слушай, давай пойдем к раввину и попросим, чтобы нас сочетали браком по всей форме?
Она внезапно разразилась смехом, да так, что едва устояла на ногах. Порядком обескураженный, я съязвил:
– Ну да, для этой роли я недостаточно хорош, не так ли?
– Да перестань! – перебила она. – Ты дурак, ты шут, и я – я люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты делался евреем… да из тебя еврея и не получится. В тебе слишком… слишком много всего намешано. И кто бы что ни говорил, мой дорогой Вэл, знай: у меня тоже нет ни малейшего желания быть еврейкой. И слышать об этом не хочу. Прошу тебя, не надо больше об этом. Я не еврейка. Я не шикса. Я просто женщина – и ко всем чертям раввина! Ну хватит, пошли домой…
Мы возвращались в гробовом молчании – молчании не враждебном, но горестном. Широкая ухоженная улица, на которую мы вышли, предстала более чопорной и респектабельной, чем когда бы то ни было; на такой строгой, прямой, законченно буржуазной улице могли жить только протестанты. Массивные фасады из бурого камня, одни – с тяжелыми гранитными балюстрадами, другие – с бронзовыми перилами тонкой работы, придавали особнякам торжественно-неприступный вид.
Когда мы достигли нашего любовного гнездышка, я весь ушел в свои мысли. Рахиль, Эсфирь, Руфь, Ноеминь – эти чудесные библейские имена, тесня друг друга, роились у меня в голове. Где-то у основания черепа, силясь облечь себя в слова, смутно брезжило давнее воспоминание… «Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом»[25]. Возникнув невесть откуда, эти слова неумолчно отдавались в моих ушах. Есть в Ветхом Завете какой-то неповторимый ритм, какое-то ощущение вечного повтора, неотразимое для уха англосакса.
И вновь из ниоткуда всплыла еще одна фраза: «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?»[26]
Выводя губами эти завораживающие строки, я снова вижу себя – вижу маленьким мальчиком, сидящим на детском стульчике у окна в нашем квартале. Помню, раз я заболел и с трудом выздоравливал. Кто-то из родственников принес мне большую тонкую книжку с цветными картинками. Она называлась «Библейские истории». Одну из них я перечитывал без конца: она повествовала о пророке Данииле, брошенном в ров со львами.
И вот я снова вижу себя – постарше, но еще в коротких штанишках. Я сижу на передней скамье в пресвитерианской церкви. Проповедник – дряхлый старик; его именуют преподобным доктором Доусоном. Он родом из Шотландии, но, не в пример своим соплеменникам, человек мягкий, отзывчивый, душевно привязанный к своей пастве. Прежде чем начать проповедь, он зачитывает прихожанам пространные фрагменты Писания. Испытывает терпение собравшихся, шумно сморкаясь, не спеша пряча носовой платок в задний карман брюк, отпивая большой глоток воды из стоящего на кафедре стакана, затем звучно прочищая горло и устремляя очи горе, и так до бесконечности. Он уже далеко не такой вдохновенный оратор, как во время оно. Доктор Доусон стареет и то и дело растекается мыслью по древу. Порой, потеряв нить, он вновь раскрывает Библию и зачитывает вслух один или два стиха, дабы вдохнуть новую энергию в слабеющую память. Мне больно и неловко становиться свидетелем этих приступов старческой немощи; когда он забывает текст, я вздрагиваю и беспокойно ерзаю на скамье. Безмолвно болея за него всей юной душой.
И только сейчас, в ласковой полутьме нашего безупречно убранного любовного гнездышка, начинаю понимать, где берут начало эти магические речения, готовые сами собою слететь с моих губ. Направляюсь к книжному шкафу и достаю оттуда потрепанную Библию, забытую в моих пенатах Безумным Джорджем. Рассеянно перелистываю страницы, с теплотой вспоминая о старике Доусоне, о моем сверстнике Джеке Лоусоне, умершем таким молодым и такой страшной смертью, о гулком подвале старой пресвитерианской церкви, где мы каждый вечер поднимали облака пыли, маршируя взводами и батальонами, щеголяя друг перед другом нашивками и шевронами, эполетами и рейтузами, размахивая игрушечными саблями и флажками под оглушительный бой барабанов и пронзительный визг горнов, не щадивший наши барабанные перепонки. Эти воспоминания ожившими картинками сменяют одно другое перед моим мысленным взором, а в ушах неумолчно звучат, набегая волнами прибоя, стихи священной книги, которые преподобный отец Доусон разворачивал перед нами, как механик в кинематографе – катушку восьмимиллиметровой пленки.
И вот эта книга раскрыта у меня на столе; и раскрыта она, стоит отметить, на главе, носящей имя Руфь. «КНИГА РУФЬ», – написано вверху крупным шрифтом. А еще выше на той же странице запечатлен 25-й, завершающий стих Книги Судей Израилевых, стих поистине незабываемый, уходящий так далеко за грань детства, в темный лабиринт минувшего, что для смертных истоки его непостижимы; им остается лишь молча благоговеть перед чудом этого стиха:
«В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым»[27].
«В какие дни?» – спрашиваю себя. Когда расцвела прекрасная эпоха и отчего она предана забвению? «В те дни не было царя у Израиля». Нет, это не глава из истории еврейского народа; это глава из истории рода человеческого. Так она начиналась – в достатке, достоинстве, мудрости и чести. «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Таков в немногих словах ключ к подлинно счастливому сосуществованию людей. Эту безоблачную пору некогда знали евреи. И древние китайцы, и люди минойской эры, и индусы, и жители Полинезии, и обитатели Африки, и эскимосы.
Я начинал перечитывать Книгу Руфь – то место, где говорится о Ноемини и людях племени Моавитского. 20-й стих пробудил во мне странное чувство: «Она сказала им: не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою; потому что Вседержитель послал мне великую горесть»[28]. А 21-й и подавно вверг меня в транс: «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками…»[29]
Я позвал Мону, которая некогда была Марой, но не услышал ответа. Поискал ее, но не нашел… Снова уселся за стол, затуманенными от слез глазами глядя на ветхие, замусоленные страницы. Итак, ни связующего моста, ни божественной благодати молитвенного гимна, ни даже ефы ячменя[30] не припасено для нас на этой грешной земле. «Не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою!» И покинула Мара народ свой, и отреклась от самого имени, каким ее звали. Имя то было исполнено горечи, но смысл его был ей неведом. «Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом»[31]. Отторгла она лоно соплеменников своих, и Господь покарал ее.
Я встал и зашагал по комнате. Наше прибежище дышало простотой, изяществом, безмятежностью. Глубоко взволнованный, я, однако, не ощущал ни малейшей грусти. Я чувствовал себя кораблем, сбившимся с курса и прокладывающим путь в песчаных дюнах времени. Полностью раздвинул двери, отделяющие нашу квартиру от той, что пустовала в глубине дома. Зажег свечи в ее дальнем углу. В дымчатых витражах окон забрезжил загадочный свет. Перестав сопротивляться свободному парению мысли, я расхаживал в полумраке по всему этажу. Все-таки куда она подевалась? Но в глубине души я был спокоен: скоро Мара вернется и придет в себя. И чем черт не шутит, принесет с собой что-нибудь пожевать. Я опять был не прочь преломить корку хлеба и отхлебнуть глоток вина. Именно в таком настроении, размышлял я про себя, и нужно садиться писать: бодрым, открытым всем ветрам, легким, непринужденным. Я воочию убедился, как это просто – из мелкого служащего, подневольного поденщика, раба наемного труда превратиться в художника. Что за радость побыть одному, без остатка погрузившись в мир собственных мыслей и чувств. И в голову не приходило, что мне придется писать о чем-то: все, в чем я был уверен, – это что однажды, в таком же настроении сяду писать. Отныне самое главное – не потерять высоту, которую я наконец обрел, не перестать чувствовать все, что я сейчас чувствую, писать ноты в воздухе. Сидеть не шевелясь и писать ноты в воздухе; с детства это было моей заветной мечтой. Но чтобы писать ноты в воздухе – осознание этого пришло не сразу, – нужно сперва самому превратиться в тонкий, чувствительный музыкальный инструмент. Перестать суетиться и вдохнуть полной грудью. Сбросить все обременительные узы и оковы. Расторгнуть все связи с окружающим миром. Дабы обрести способность общаться с ним без свидетелей – нет, с одним лишь свидетелем – Господом Богом. Именно. Так и не иначе. Внезапно я обрел непоколебимую уверенность в истинности того, что мне безмолвно раскрылось – раскрылось в миг озарения… «Ибо Господь Бог твой – ревнивый Бог…»[32]
Странно, подумал я, большинство знающих меня людей не сомневаются, что я – писатель, хотя, со своей стороны, я мало что сделал, чтобы укрепить их в этом мнении. Считать меня таковым, надо думать, их побуждают не только странности моего поведения, но и моя неизбывная, неистребимая страсть к слову. Я и книга – эти понятия стали нераздельны с той самой минуты, как я выучился читать. Первый, кому я отважился читать вслух, был мой дед: он шил костюмы, а я присаживался на краешек скамьи, на которой он работал. Дед гордился мной, но что-то во мне его тревожило. Помню, он даже наказывал моей матери, что лучше убрать от меня подальше все книги… Прошло несколько лет, и моей внимательной аудиторией стали сверстники Джоуи и Тони, которых я навещал в деревне. Порой вокруг меня собиралось с десяток или больше маленьких слушателей. Я читал и читал, пока всех их не смаривал сон. Садясь на трамвай или в поезд подземки, я читал не прерываясь. И не переставал читать, выйдя на поверхность: вчитывался в лица, жесты, шаги идущих рядом, в фасады домов, лабиринты улиц, страстей, преступлений. Все, решительно все вокруг беря на заметку, классифицируя, сопоставляя, описывая впрок. Все это было материалом, каковому, обрастая прилагательными, наречиями, предлогами, скобками и тому подобным, надлежало составить корпус книги, которую я еще напишу. Еще до того, как я набросал ее план, в моей голове угнездились, тесня друг друга, сотни персонажей. Я сам был не чем иным, как движущейся, говорящей книгой, ходячей энциклопедией, неостановимо разраставшейся, подобно злокачественной опухоли. Я не переставал писать, набредая на друга, знакомого или просто прохожего. Завести с ним разговор, направить его в требуемое русло, пригвоздить мою жертву к месту немигающим взглядом и затем осыпать нескончаемым потоком словес было для меня делом нескольких секунд. С женщинами такая линия поведения оказывалась практически беспроигрышной; они вообще реагируют на слово несравненно лучше мужчин, не раз замечал я. Но всего вернее срабатывало это с иностранцами. У них мои слова немедленно вызывали живой отклик: во-первых, потому, что я старался говорить с ними просто и ясно, во-вторых, потому, что их инстинктивная внимательность и участливость побуждали меня выкладываться без остатка. С иностранцами я разговаривал так, будто был осведомлен об обычаях и нравах их родных краев; у них возникало ощущение, что эти обычаи и нравы я ставлю неизмеримо выше, нежели те, что отличают мое отечество; и нет необходимости добавлять, что чаще всего так и бывало. Говоря с иммигрантом, я всегда старался заронить в его душу стремление глубже освоить английский – не потому, что считал его лучшим языком под луной, но потому, что никто из тех, с кем мне доводилось общаться, не пользовался им так бережно и выразительно, как он того заслуживал.
Читая книгу и наталкиваясь на особенно сильное место, я захлопывал ее и шел прогуляться по улицам. Мне ненавистна была мысль, что хорошая книга кончится. Я растягивал процесс чтения как мог, стремясь отдалить неотвратимое. Но всегда, встречая действительно яркую, блестящую страницу или строку, делал паузу. Выходя из дому в дождь, в снег, в град, чтобы вновь стать самим собой. Ибо подчас так сильно проникаешься духом другого, что можно попросту лопнуть. Думаю, каждому знакомо это ощущение. «Дух другого», рискну заметить, не что иное, как ваше собственное alter ego. Суть дела не в том, чтобы распознать родственную душу; суть дела в том, чтобы распознать самого себя. Внезапно оказаться лицом к лицу с самим собой. Какой блаженный миг! Закрывая книгу, продолжаешь творить. И этот процесс – точнее сказать, этот ритуал – всегда один и тот же: усвоив его исходные правила, вступаешь в общение со всем миром на равных. Нет больше никаких препятствий, никаких опосредований. Одинокий, как никогда, ты в то же время теснее, чем когда-либо, связан со всем окружающим. Полноправно воплощен в нем. И тут тебе внезапно открывается, что Господь Бог, создав мир, отнюдь не ушел из него, дабы в отдалении, из некоего лимба, взирать на дело рук своих. Господь создал мир и остался в нем: в этом смысл творчества.
2
Короткие месяцы счастья, отпущенные нам в нашем японском любовном гнездышке, пронеслись как одно мгновенье. Раз в неделю я навещал Мод и ребенка – отдать алименты, погулять по парку. Мона работала в театре и на свои заработки содержала мать и двух великовозрастных братцев. Примерно раз в десять дней я завтракал во франко-итальянском кафетерии, как правило в одиночестве, потому что Мона была уже в театре. Изредка заглядывал к Ульрику поиграть в шахматы. Обычно наши встречи заканчивались диспутами о живописи: о тех или иных художниках, о манере их письма. Вечерами, повинуясь случайному капризу, я отправлялся бродить по незнакомым улочкам. В основном же сидел дома с книжкой или слушал музыку. Мона возвращалась к полуночи, мы наскоро ужинали, вели бесконечный треп и шли спать. Подниматься по утрам становилось все тяжелее. Прощание заканчивалось шутливой возней, которая обычно затягивалась надолго.
Кончилось тем, что в один прекрасный день – нет, три прекрасных дня кряду – я так и не появился на работе. Тем самым перечеркнув возможность возвращения в контору. Три бесподобных дня и ночи: делай что хочешь, ешь, спи сколько влезет, наслаждайся каждым мгновением, прислушиваясь к зову необъятных глубин и просторов таящейся в тебе энергии, радуясь полному отсутствию потребности отвоевывать для себя место под солнцем и, напротив, испытывая неодолимое желание быть самому себе хозяином, жить надеждой на завтрашний день, разделаться с прошлым… В общем, о том, чтобы вновь впрягаться в трудовую лямку, не могло быть и речи. Конечно, я понимал, что оказываю Клэнси медвежью услугу. По-хорошему я должен был бы загодя предупредить его, сказать, что мне обрыдла эта работа. Ведь шеф вечно выгораживал меня перед своим начальством – всемогущим мистером Твиллигером. Как бы то ни было, Спивак, постоянно висевший у меня на хвосте, добился бы своего. В последнее время он зачастил в Бруклин, торча как раз неподалеку от моего дома. Хватит. Пора завязывать.
На четвертый день я рано поднялся, как бы собираясь идти на службу. Меня распирало от желания поделиться с Моной своими намерениями, но я крепился до последней минуты, когда пора было выходить. От моей идеи она пришла в такой восторг, что начала упрашивать меня сразу же положить на стол заявление об уходе и вернуться домой к обеду. Я тоже считал, что чем быстрее разделаюсь со всем этим, тем лучше. Спивак без труда вмиг подыщет на мое место нового управляющего по кадрам.
Когда я появился в конторе, то обнаружил, что ко мне выстроилась непривычно длинная очередь посетителей. Хайми был у себя, его ухо будто намертво приклеилось к телефонной трубке, он, как всегда, что-то ожесточенно доказывал невидимому собеседнику, вися на коммутаторе. Похоже, объявилось такое количество новых свободных мест, что, будь у него хоть армия желающих, заполнить все вакансии казалось безнадежным делом. Я собрал со стола свои вещи, сложил их в портфель и поманил к себе Хайми:
– Послушай, я решил уйти. Будь другом, придумай, как преподнести это боссам.
Хайми посмотрел на меня так, словно я спятил. После секундного замешательства он с деланым безразличием напомнил, что мне надо получить расчет.
– Да черт с ним, – беспечно отозвался я.
– Что? – взвизгнул он, окончательно уверившись, что имеет дело с сумасшедшим.
– Видишь ли, поскольку я сматываюсь, никого не предупредив, у меня язык не повернется поднимать этот разговор. Жаль, конечно, что я посадил тебя в калошу. Но ведь, насколько я понимаю, ты тоже не собираешься тут задерживаться.
Обменявшись незначащими репликами, я оставил эти стены. Лишь на секунду задержавшись у окна, дабы в последний раз взглянуть на мельтешащую толпу томившихся клиентов. Отныне меня это не касается. Отрезано. Хирургическим путем. Страшно подумать: неужто я угробил пять лет своей жизни на бессмысленное прозябание в этом бесчеловечном учреждении? Я начал понимать, что чувствует солдат, увольняющийся из армии.
Свободен! Свободен! Свободен!
Вместо того чтобы нырнуть в метро, я отправился на Бродвей, мне хотелось ощутить всей кожей, каково быть самому себе хозяином, когда все вокруг спешат на работу. Мне было от души жаль бедолаг, чей угрюмый вид и затравленный взгляд я знал так хорошо. Они торопливо шаркали по асфальту, заранее готовые выполнять чужие приказы, спозаранку предвкушая, что вот-вот будут всучать кому-то страховой полис, размещать чье-то объявление. Какая бессмыслица! Какая мышиная возня! Меня всегда возмущал ее идиотизм. Но сейчас во сто крат сильнее.
Видел бы меня сейчас Спивак! Вот бы он спросил, что это я тут болтаюсь!
Я слонялся по городу, наслаждаясь новообретенной свободой. Оставаясь в стороне и с извращенным удовольствием следя, как рабы наматывают положенные им круги. Впереди у меня вся жизнь. Через несколько месяцев мне стукнет тридцать три года, я сам себе господин. Я зарекся работать на чужого дядю, плясать под чужую дудку. Это не для меня. Увольте. У меня есть талант, и его надо пестовать. Либо я стану писателем, либо сдохну от голода.
По дороге я зашел в музыкальный магазин и купил набор пластинок – квартет Бетховена, если мне не изменяет память. В Бруклине прихватил букет цветов и выклянчил у знакомого итальянца бутылку кьянти из его личных запасов. Пусть новая жизнь начнется с хорошего обеда и – музыки. Понадобится немало времени, чтобы стерлись без следа воспоминания о днях, месяцах, годах, бездарно потраченных на лихорадочное кружение в Космодемонической карусели. Вдосталь насладиться бездельем, ленивым течением дней и часов – вот оно, блаженство!
На дворе стоял восхитительный сентябрь. Разноцветные листья, кружась, падали на землю, в воздухе плыл дымный аромат. Было тепло и прохладно одновременно. Можно было даже пойти на берег и искупаться. Хотелось столько всего сделать сразу, что я готов был разорваться на тысячу маленьких Миллеров. Первым делом надо вновь начать играть. Значит, нужно пианино. А как насчет занятий живописью? В чехарде мыслей вдруг выкристаллизовался любимейший образ. Велосипед! Внезапно мне отчаянно захотелось услышать шуршание бешено крутящихся шин. Года два назад я продал свой кузену, который жил по соседству. Может, удастся выкупить? Это был не простой велосипед, мне подарил его один немец в конце шестидневной гонки. Скоростная модель, изготовленная в Хемнице, в Богемии. Боже, сколько времени пролетело с тех пор, как я последний раз колесил по Кони-Айленду. Осенние дни! Они словно специально созданы для таких поездок. Только бы мой бестолковый родственничек не сменил мое фирменное бруксовское седло: оно было отлично подогнано. (А цепи на педалях! Только бы он их не выбросил.) Ставишь ногу на педаль и… Меня захлестнула волна сладостных воспоминаний. Едешь по хрустящему гравию, над головой от Проспект-парка до самого Кони-Айленда тянется бесконечная арка деревьев, ты и велосипед – неразрывное целое, в ушах свистит ветер, в голове пленительная пустота, рассекаешь пространство, повинуясь внутреннему ритму. Картинки по сторонам сменяют друг друга, как листки календаря. Ни мыслей, ни переживаний! Только непрерывное движение, только ты и твой железный конь… Решено! Буду кататься каждое утро, это поможет встряхнуться. С ветерком до Кони-Айленда и обратно, затем душ, вкусный завтрак и за стол – за работу. Да нет, не за работу, за игру! Впереди ведь целая жизнь, только пиши себе и пиши. Прекрасно! Казалось, нужно только выдернуть пробку и все само собой выплеснется на бумагу. Уж если я мог строчить письма по двадцать – тридцать страниц без передышки, почему бы и книги не писать с той же легкостью. Все считали меня писателем: от меня требовалось только подтвердить это.
У самого входа краем глаза я заметил мелькнувшее внутри кимоно Моны. Окно с каменным карнизом было распахнуто настежь. Я вскочил на подоконник и оказался дома.
– Получилось! – воскликнул я, вручая Моне цветы, вино, пластинки. – Да здравствует новая жизнь! Не знаю, на что мы будем жить, но жить мы будем, даю слово! Как там моя пишущая машинка? А что на обед? Может, Ульрика позвать? Сегодня во мне столько сил, что мне нипочем огонь, вода и медные трубы. Вот сяду и буду на тебя смотреть. Не обращай на меня внимания. Хочу просто посидеть и почувствовать, как это – ничего не делать. – Я перевел дыхание, это дало Моне возможность слегка оправиться от моего натиска. Потом начал снова: – Признайся, ты ведь не верила, что я смогу? И не смог бы, если б не ты. Знаешь, это ведь совсем не трудно – каждый день ходить на работу. Сложнее – оставаться свободным. Теперь я все могу, я ничем не связан, цепи сброшены. Теперь я хочу творить. Целых пять лет я жил как замороженный.
Мона негромко рассмеялась.
– Творить? – откликнулась она. – Вэл, ты неисправим! Неуемный ты мой! Нет, дружок, забудь пока о своем творчестве, сначала тебе надо хорошенько отдохнуть. И пожалуйста, не волнуйся о деньгах. Предоставь это мне. Если уж я могу прокормить своих дармоедов, то нас с тобой и подавно. По крайней мере, до поры до времени. Кстати, в «Паласе» сейчас прекрасная программа, – добавила она. – Выступает Рой Барнс[33]. Ты его вроде любишь? И еще тот комик, который всегда выступает в бурлеске, – не могу вспомнить его имя. Ну как, идет?
Я сидел совершенно обалдевший, даже шляпу забыл снять. Все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я чувствовал себя как царь Соломон. Даже лучше, ведь у меня не было никаких обязанностей. Двинуть в театр? Отлично! Что может быть лучше дневного спектакля? Попозже звякну Ульрику, чтобы приходил к нам обедать. С кем, как не с лучшим другом, отметить такое знаменательное событие? (Конечно, я предвидел его реакцию: «А может, было бы лучше?.. Ох, что это я?.. Тебе, конечно, виднее…» И так до бесконечности.) От Ульрика я готов выслушивать и больше. Его мнительность, нерешительность – все это нормально. Я был убежден, что перед уходом он скажет: «Сдаюсь». Конечно, это не значит, что он на самом деле признает себя побежденным, но он всегда подыгрывает мне, чтобы сделать приятное. Тем самым показывая, что уж коли он, Ульрик, величайший зануда на свете, порой испытывает такие соблазны, то его другу Генри Вэлу Миллеру сам бог велел поддаться им.
– Как ты думаешь, сможем мы выкупить мой велосипед? – вдруг выпалил я.
– Само собой, сможем, – не колеблясь ответила Мона.
– Тебе смешно? Знаешь, мне безумно хочется начать кататься. Последний раз я ездил на велосипеде еще до нашего знакомства.
И в этом Мона не видела ничего противоестественного.
– Ты еще совсем мальчишка, – рассмеялась она.
– Точно! Но лучше мальчишка, чем зомби, а?
Через несколько секунд я опять заговорил:
– Знаешь что? Тут у меня утром возникла еще одна мысль…
– Какая же?
– Пианино. Хочу снова играть.
– Здорово! Возьмем напрокат, недорого и в хорошем состоянии. Хочешь опять брать уроки?
– Да нет же. Хочу играть для себя, только и всего.
– Заодно, может, и меня научишь?
– Запросто! Если ты и в самом деле захочешь учиться.
– Это никогда не помешает, особенно в театре.
– Нет ничего проще. Осталось только достать инструмент.
Я встал, разминая затекшие конечности, и вдруг страшно развеселился.
– А ты, чего ты хочешь от этой новой жизни?
– Ты знаешь, чего я хочу, – ответила она.
– Нет, не знаю. Итак?
Она подошла и обвила меня руками за шею.
– Я хочу, чтобы ты стал тем, кем хочешь стать, – писателем. Великим писателем.
– И это все, чего бы ты хотела?
– Да, Вэл, это все, поверь мне.
– А как же театр? Неужто ты не хочешь когда-нибудь стать великой актрисой?
– Нет, Вэл, я знаю, что никогда ею не стану. У меня нет ни тщеславия, ни честолюбия. Я пошла в театр, чтобы угодить тебе. Мне совершенно все равно, чем заниматься, – лишь бы ты был счастлив.
– М-да, с таким настроем хорошей актрисой не станешь, – огорчился я. – И вообще, ты должна думать о себе. Делать то, что тебе нравится, независимо от моих желаний. Я был уверен, что ты без ума от театра.
– Я без ума только от одного – от тебя.
– Вот теперь ты играешь.
– Если бы! Тогда все было бы намного проще.
Я потрепал ее по подбородку.
– Ну ладно, – медленно растягивая слова, произнес я, – теперь ты меня заполучила всего с потрохами. Посмотрим, как ты запоешь через месяц. Еще озвереешь оттого, что я постоянно болтаюсь под ногами. А то и раньше.
– Только не я. Я мечтала об этом с того дня, как встретила тебя. Видишь ли, я тебя ревную к тебе самому. Я хочу видеть каждое твое движение. – Она приблизилась ко мне вплотную и легонько шлепнула меня по лбу. – Порой мне хочется влезть в твои мозги и узнать, о чем ты думаешь. Иногда ты кажешься таким далеким. Особенно когда молчишь. А знаешь, к тому, что ты напишешь, я тоже буду ревновать, ведь в это время ты будешь думать не обо мне.
– Ну все, попался, – со смехом отозвался я. – Послушай, о чем мы говорим? Время идет, день кончается. Надо праздновать, а не пытаться заглядывать в будущее. Отметим событие… Где, спрашивается, обещанные гастрономические еврейские изыски? Пожалуй, схожу на угол, куплю черного хлеба, оливок, сыра, немного бастурмы, осетрины, если будет, – я ничего не забыл? У нас есть потрясающее вино – к нему нужна хорошая закуска. Ах да, и чего-нибудь сладкого к чаю. Как насчет яблочного пирога? Кстати, у тебя есть деньги? А то у меня ничего не осталось. Отлично. Пять долларов? Надеюсь, не последние? Завтра обо всем подумаем, ладно? Я хочу сказать, о деньгах.
Она прикрыла мне рот ладонью:
– Прошу тебя, Вэл, не надо об этом. Даже в шутку. Тебе не придется думать о деньгах никогда, ясно?
У американского анархиста Бенджамина Р. Такера есть любопытная книжка. Она называется «Вместо книги. Написано человеком, слишком занятым, чтобы писать книгу». Это заглавие как нельзя лучше подходит к ситуации, в которой я тогда оказался. Вырвавшись на волю, моя творческая энергия буквально разрывала меня на части. Вместо того чтобы писать книгу, первое, что я сделал, – это сочинил стихи в прозе о задворках Бруклина. Сама мысль о том, что я – писатель, настолько переполняла меня радостью, что почти лишала возможности писать. Ощущая небывалый прилив сил, я изнурял себя постоянным предвкушением того, что вот-вот сяду работать. Я не мог ни минуты усидеть на месте: все внутри у меня пело и плясало. Хотелось одновременно и писать об этом мире, и жить в нем. Мне и в голову не приходило, что, регулярно работая по два-три часа в день, можно написать самую толстую книгу на свете. Я был уверен, что писать можно, лишь приклеившись к стулу, по восемь-десять часов кряду. И так – пока не рухнешь без сил. Именно так представлял я себе писательский труд. Тогда мне ничего не было известно о рабочем расписании, какое поведал миру Сандрар в одной из своих книг. Два часа в сутки – предрассветных – посвящать письму, все остальное – самому себе. А какое богатство книг подарил миру Сандрар! Все en marge[34]. Следуя тому же методу – по два-три часа ежедневно и так на протяжении всей жизни, – Реми де Гурмон, замечает Сандрар, продемонстрировал, что человек способен перечитать фактически все действительно заслуживающее внимания из созданного человечеством за века.
Увы! Я был страшно неорганизован, недисциплинирован, не умел поставить перед собой конкретную цель. Я пребывал в плену своих порывов, прихотей, желаний. Движимый стремлением во что бы то ни стало прожить жизнь писателя, я игнорировал огромные пласты материала, копившегося годами вплоть до сегодняшнего дня. Какая-то сила толкала меня писать о сиюминутном, о том, что происходит в данный момент за моим порогом. Я горел желанием поведать миру о чем-то новом, о чем прежде никто не писал. Иначе и быть не могло: слишком уж измочалено, истрепано, избито было все, что собиралось годами разочарований, сомнений, отчаяния к моменту, когда оно отложилось в моей голове, чтобы выплеснуться на бумагу. Добавим к этому, что я чувствовал себя как борец или боксер, готовящийся к решающему матчу. Мне требовалась разминка. Первые пробы пера, эти фантазии и фантазмы, эти стихи в прозе и разного рода эксперименты со словом были чем-то вроде настройки инструмента перед концертом. Я тешил свое тщеславие (а оно было непомерно!), разбрасывая хлопушки, взрывая плюющиеся петарды, устраивая словесные фейерверки. Приберегая самые красочные на праздничный вечер 4 Июля. Наступило утро – тягучее, ленивое утро бессрочных каникул. Я вытащил билет в рай. С открытой датой. Я мог делать все, что мне заблагорассудится, как угодно распоряжаться своим временем, царственно лениться, имея в запасе неограниченные часы свободы, пребывая частицей этого мира и его бессмысленного однообразия. Чтобы в свой срок, заняв уготованное мне место в раю, примкнуть к сонму ангелов, поющих нескончаемую оду радости.
Я и прежде смотрел на мир глазами писателя, сейчас я всматривался в него с удвоенной пристальностью. Ничто, даже самая малость, не могло ускользнуть от моего внимания. Выходя из дому – надо заметить, я вечно норовил улизнуть под любым предлогом, чтобы побродить по городу, так сказать, «обследовать местность», – я мечтал о том, чтобы превратиться в один огромный глаз. Во всеохватное око, которое видит в новом свете обычное, бытовое, повседневное. Наш привычный, будничный мир, видевшийся мне сквозь призму нового зрения, не переставал изумлять меня. Если долго разглядывать стебелек травы, то в какой-то момент чувствуешь, как эта травинка разрастается, становясь внушающим трепет, таинственным, непостижимым миром в себе. Чтобы поймать эти бесценные промельки озарения, писатель, словно охотник, готов часами сидеть в засаде. Подобно хищнику, он набрасывается на эту ускользающую, почти несуществующую видимость. Этот миг пробуждения, единения, растворения не терпит торопливости и насилия. Нередко мы совершаем ошибку – я бы даже сказал, грех, – пытаясь остановить его, безжалостно пришпиливая словами к листу бумаги. Мне потребовались десятилетия, чтобы понять, почему, приложив столько усилий, дабы вызвать эти мгновенья взлета и освобождения, я оказался бессилен выразить их. Мне не приходило в голову, что такое мгновенье – само по себе цель и причина, что пережить миг высочайшего осознания – значит испытать все и быть всем.
За какими миражами я только не гнался! Постоянно перегоняя самого себя. Чем чаще я сталкивался с реальностью, тем больнее отбрасывало меня назад – в иллюзорный мир, имя которому – наша жизнь. «Опыта! Больше опыта!» – взывал я. Тщетно стремясь привнести в свои мысли хотя бы некое подобие порядка, составить хотя бы примерный распорядок действий, я долгими часами сидел за столом, вычерчивая в уме контуры еще не созданного произведения. Изящество и скрупулезность, с которыми архитекторы и инженеры справлялись со своими задачами, всегда восхищали меня, но, увы, никогда не удавались. Зато я ясно видел воплощение своих замыслов, так сказать, в космогонических масштабах. Я не умел выстроить фабулу, но ухитрялся расставить и уравновесить противоборствующие силы, характеры, события, мог разложить их по полочкам, причем не как попало, а в строгом порядке, всегда оставляя между ними свободное пространство, зная, что оно еще понадобится во множестве, неизменно памятуя о том, что во Вселенной нет ничего конечного, есть лишь миры внутри миров – и так ad infinitum[35], и что, выходя за пределы одного, тем самым создаешь другой – цельный, законченный, завершенный.
Как хорошо тренированный спортсмен, я ощущал уверенность и тревогу одновременно, испытывал смешанное чувство спокойствия и нервозности. Уверенный в конечном исходе, волновался, дергался, мельтешил, суетился. И в итоге, выпустив несколько пробных залпов, стал думать о своем писательстве, как думает о собственном ремесле стрелок орудийного расчета. Чтобы поразить цель, к ней надо пристреляться. Выстраивал в шеренги мозаичные обрывки своих мыслей. Если я хочу быть услышанным, то надо дать людям возможность меня услышать, рассуждал я. Значит, надо как-то заявить о себе – в газете, журнале, где угодно. Какова моя огневая мощь, какова дальность? Хотя я был не из тех, кто донимает друзей просьбами выслушивать свою писанину, однако порой в момент разнузданного прилива энтузиазма этот грех бывал не чужд и мне. Когда мне выпадал такой счастливый случай, то результат этих «публичных чтений» превосходил все мои ожидания. Оговорюсь: мало кого из моих друзей эти словесные упражнения приводили в неописуемый восторг. Но я убежден, что их красноречивое молчание стоит несравненно больше, нежели злобные нападки платных писак. То, что они не заходились смехом в нужный, как мне казалось, момент, сдержанное молчание, с которым дослушивали заключительную фразу, – все это значило для меня больше, чем лавина бесполезных слов. Порой я успокаивал уязвленное авторское самолюбие мыслью, что эти тугодумы просто не доросли до грандиозности моих рассуждений, закоснели в своей консервативности и вообще не семи пядей во лбу. Справедливости ради надо сказать, я редко опускался до подобных мыслей. С особым трепетом я относился к мнению Ульрика. Возможно, с моей стороны было нелепо придавать его отзывам такое значение: ведь наши литературные вкусы сильно различались; но он был самым близким из моих друзей, именно ему надо было доказывать, на что я способен. Между тем ублажить его, моего Ульрика, было нелегко. Больше всего ему нравились мои перлы, иными словами, непривычные слова, броские сравнения, причудливые словесные узоры, сетования на все на свете – и ни на что в частности. Нередко, прощаясь, он благодарил меня за то, что я обогатил его лексикон вереницей новых слов. Подчас мы проводили целые вечера, разыскивая их в словаре. И не находили – я их просто выдумал.
Однако вернусь к плану кампании… Поскольку я, по собственному глубокому убеждению, могу писать обо всем на свете, наиболее разумное – составить примерный перечень тем и разослать его по редакциям журналов, дабы они могли выбрать самое для себя подходящее. Полетят десятки и десятки писем. Длинных, зачастую бессодержательных. Придется завести картотеку, чтобы как-то сориентироваться в дурацких правилах и положениях, принятых в каждой отдельно взятой редакции. Начнутся споры и столкновения, бесплодная беготня по издательствам, крючкотворство, мне будут ставить палки в колеса, трепать нервы, появятся злость, ожесточение, скука. Да, совсем забыл про почтовые марки! В результате после всей круговерти однажды придет письмо от некоего редактора с уведомлением, что он готов снизойти до того, чтобы ознакомиться с моей статьей при условии… нет, при тысяче и одном условии. Не давая себя обескуражить бессчетными «если» и «но», я приму такого рода послание как bona fide[36] знак согласия. Отлично! Итак, мне предложено написать нечто, скажем, о зимнем Кони-Айленде. Если их удовлетворит то, что я напишу, то статью напечатают, подпишут моим именем, и я смогу показывать ее друзьям, таскать с собой, класть на ночь под подушку, читать и без конца перечитывать, ибо, впервые увидев себя в печати, можно положительно лопнуть от гордости. Ибо теперь мир знает, что ты писатель. Доказать это миру, хотя бы раз в жизни, необходимо. Поскольку пока об этом знаешь только ты сам, можно однажды сойти с катушек.
Итак, меня ждет заснеженный Кони-Айленд. Разумеется, пойду я туда один. Не хватало еще, чтобы мое раздумчивое созерцание нарушал надоедливый треп какого-нибудь пустозвона. Не забыть сунуть в карман блокнот и отточенный карандаш.
Добираться до Кони-Айленда в середине зимы – дело долгое и отчаянно скучное. Здесь бродят только больные, пошедшие на поправку, инвалиды да чокнутые. Мне вдруг показалось, что я и сам – один из последних. Чокнутый. Кому охота читать про Кони-Айленд, где все заколочено, забрано деревянными ставнями, застыло в ожидании будущего купального сезона? Наверное, у меня от возбуждения помутилось в голове; иначе как мне могло прийти в голову, что ничто так не вдохновляет, как вид тотального запустения?