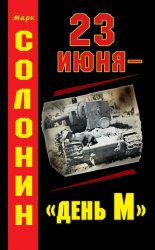Музыкофилия Сакс Оливер

Ни Роуз, ни моя мать не использовали при этом слово «галлюцинация». Возможно, они все же понимали, что у их музыки нет внешнего источника. Вероятно, для них это были не галлюцинаторные, а просто живые и насильственные, очень яркие и поразившие их музыкальные образы. Кроме того, эти ощущения были преходящими.
Несколько лет спустя я описал двух пациенток из дома инвалидов – миссис О’К. и миссис О’М., страдавших поразительными музыкальными галлюцинациями[16]. Миссис О’М. «слышала» три песни в быстрой последовательности: «Пасхальный парад», «Боевой гимн Республики» и «Доброй ночи, Иисусе».
– Я их возненавидела, – говорила больная. – У меня такое впечатление, что сумасшедший сосед беспрерывно ставит на проигрыватель одни и те же пластинки.
У миссис О’К., страдавшей в свои восемьдесят восемь лет умеренной тугоухостью, однажды возникло сновидение с ирландскими песнями. Когда больная проснулась, музыка продолжала звучать так отчетливо и громко, что миссис О’К. подумала, что забыла вечером выключить радио. Песни беспрерывно звучали в течение трех суток, затем стали ослабевать, а через пару недель исчезли вовсе.
Мое сообщение об этих двух пациентках, опубликованное в 1985 году, вызвало большой резонанс, и многие, прочитав статью, написали в популярную в то время газетную рубрику «Дорогая Эбби» о том, что и у них тоже случаются музыкальные галлюцинации. «Эбби» обратилась ко мне с просьбой прокомментировать это состояние, что я и сделал в 1986 году. В комментарии я подчеркнул, что состояние это вполне доброкачественное и не имеет ничего общего с психозом. Я был удивлен шквалом обрушившихся на меня писем. Мне написали десятки людей, многие из которых детально описали свои музыкальные галлюцинации. Этот поток заставил меня переосмыслить ситуацию – по-видимому, эти галлюцинации встречаются намного чаще, чем я думал. В течение последних двадцати лет я продолжал получать такие письма и сам наблюдал эти симптомы у ряда моих пациентов.
Еще в 1894 году врач У. С. Колмен описал результаты своих наблюдений в статье «Галлюцинации у психически здоровых людей, обусловленные локальными органическими расстройствами органов чувств и т. д.», напечатанной в «Британском медицинском журнале». Но, несмотря на эту и похожие публикации, музыкальные галлюцинации считались большой редкостью и на них практически не обращали внимания приблизительно до 1975 года[17].
В конце пятидесятых – начале шестидесятых Уайлдер Пенфилд и его коллеги из Монреальского Неврологического института опубликовали свои знаменитые работы о «припадках прошлого опыта», где писали, что больные с височной эпилепсией могут слышать старые песни и мелодии (хотя эти музыкальные приступы носили пароксизмальный, а не хронический характер и часто сопровождались зрительными и иными галлюцинациями). Работы Пенфилда и соавторов оказали большое влияние на неврологов моего поколения, и, когда я писал о миссис О’К. и миссис О’М., я расценивал их фантомную музыку как своего рода судорожную активность.
Но к 1986 году поток полученных мною писем показал, что височная эпилепсия была далеко не единственной причиной музыкальных галлюцинаций, причем причиной весьма редкой.
Существует множество различных факторов, которые могут сделать человека предрасположенным к музыкальным галлюцинациям, но суть этих факторов удивляет своей неизменностью. Хотя провоцирующие факторы могут быть периферическими (например, поражение слуха) или центральными (например, судорожные припадки или инсульты), конечный путь возникновения галлюцинаций является однотипным, а его мозговые механизмы – одинаковыми. Большинство моих пациентов и корреспондентов подчеркивали: поначалу им казалось, что музыка, которую они слышат, исходит из внешних источников – из радиоприемника или телевизора, из соседней квартиры; многие думали, что на улице играет оркестр – и только после того, как им не удавалось обнаружить источник музыки, они начинали осознавать, что она звучит у них в голове. Никто из моих корреспондентов не говорил, что «воображает» себе музыку; все в один голос говорили о странном автономном механизме, включившемся в голове. Пациенты говорят о «пленках», «контурах», «радио» или о «записях», звучащих в голове, а один назвал это «внутричерепным музыкальным автоматом».
Галлюцинации эти подчас отличаются большой интенсивностью. «Это расстройство такое сильное, что коверкает мне жизнь», – писала одна больная. Хотя многие корреспонденты очень неохотно признаются в своих музыкальных галлюцинациях, опасаясь, что их сочтут сумасшедшими. «Я не могу никому об этом рассказать, потому что бог знает что обо мне могут подумать», – писал один пациент. «Я никогда никому об этом не рассказывал, – писал другой, – из опасений, что меня запрут в лечебницу для душевнобольных». Другие, признавая наличие у себя подобных переживаний, стесняются использовать слово «галлюцинация» и говорят, что им было бы легче признаться в своих ощущениях, если бы их можно было описать каким-нибудь другим словом[18].
И несмотря на то что все музыкальные галлюцинации обладают определенными общими чертами – очевидным звучанием как бы извне, длительностью и непрерывностью, фрагментарностью и повторами, непроизвольностью и навязчивостью, – их частные проявления могут широко варьировать. То же самое относится к влиянию галлюцинаций на качество жизни больных – музыкальные галлюцинации либо становятся важной составной частью личности больного, либо остаются чуждыми, фрагментарными и бессмысленными. Каждый человек, вольно или невольно, находит свой способ реакции на это ментальное вторжение.
Гордон Б., семидесятидевятилетний австралийский скрипач, в детстве перенес разрыв барабанной перепонки правого уха, а затем, вследствие перенесенной в зрелом возрасте свинки, начал терять слух. Вот что Гордон писал мне о своих музыкальных галлюцинациях:
«Приблизительно в 1980 году я отметил первые признаки шума в ушах. Этот шум проявлялся одной постоянно звучавшей нотой фа. В течение нескольких последующих лет шум несколько раз менял высоту звучания, кроме того, шум стал сильно меня беспокоить. В то время я страдал также прогрессирующим снижением слуха и нарушением восприятия звуков правым ухом. В ноябре 2001 года, во время двухчасовой поездки по железной дороге, шум дизельного двигателя отдавался в моей голове мучительным скрежетом. Этот звук продолжал преследовать меня в течение нескольких часов после того, как я сошел с поезда, и потом я периодически слышал его в течение нескольких недель»[19].
«На следующий день, – писал далее Гордон Б., – скрежет сменился звуками музыки, которая с тех пор преследует меня двадцать четыре часа в сутки, как бесконечно звучащий компакт-диск… Все другие звуки – скрежет и шум в ушах – исчезли»[20].
По большей части эти галлюцинации – «музыкальные обои, бессмысленные музыкальные фразы и обрывки». Но иногда галлюцинации имеют непосредственное отношение к музыке, которой Гордон занят в данный момент. Например, в ушах у него начинает звучать скрипичное соло Баха, над которым он работает. Скрипичная музыка преображается в звучание слаженного оркестра, который начинает играть вариации на тему. Музыкальные галлюцинации, подчеркивает Гордон Б., «охватывают целую гамму настроений и эмоций… ритмический рисунок зависит от состояния моего духа. Если я спокоен, то музыка умиротворяющая и неброская. В течение дня музыка может стать громче, тогда она звучит беспощадно и часто сопровождается раздающимся, словно из-под земли, ритмичным барабанным боем».
На качество музыкальных галлюцинаций могут влиять немузыкальные шумы: «Например, когда я кошу газон, в моей голове начинает звучать мотив, который возникает всегда, как только я включаю газонокосилку. Очевидно, она стимулирует мой мозг и побуждает его выбрать именно эту, а не какую-то другую мелодию». Иногда одно только прочтение названия песни вызывает ее галлюцинаторное звучание.
В другом письме Гордон рассказывает: «Мой мозг создает звуковые рисунки, которые беспрестанно звучат у меня в ушах с утра до вечера. Эти звуки преследуют меня даже тогда, когда я играю на скрипке». Эта фраза сильно меня заинтриговала, это был поразительный пример того, что два совершенно разных процесса – осознанное воспроизведение музыки и самостоятельная и автономная музыкальная галлюцинация – могут происходить одновременно. Это было торжество воли и сосредоточенности – умение Гордона играть на сцене для публики в таком состоянии, причем играть так, что, как он пишет, его жена – виолончелистка – не чувствует, что с ним происходит что-то неладное. «Возможно, – пишет он дальше, – моя сосредоточенность на том, что я в данный момент исполняю, заглушает галлюцинацию». Но когда Гордон присутствует на концертах, где играют другие музыканты, он обнаруживает, что музыка в его голове звучит почти так же громко, как и музыка со сцены. Это отвратило его от посещений концертов.
Так же, как и некоторые другие страдающие галлюцинациями больные, Гордон находит, что, хотя галлюцинацию невозможно прекратить, ее можно изменить:
«Я могу по собственной воле сменить музыку, просто подумав о теме другого музыкального произведения. Потом в моей голове мелькают несколько тем, прежде чем избранная музыка остается единственной».
Эти галлюцинаторные концерты, замечал он, «всегда совершенны по исполнению и звучанию и никогда не страдают искажениями, к которым так предрасположено теперь мое слуховое восприятие»[21].
Гордон, стараясь дать отчет о своих галлюцинациях, писал, что перед концертом всегда мысленно репетировал пассажи, которые ему предстояло играть, пытаясь найти лучшее положение для пальцев и лучшие движения смычком. Эта воображаемая музыка по многу раз повторялась у него в голове. Больной спрашивал, не явились ли эти мысленные репетиции причиной его предрасположенности к музыкальным галлюцинациям. Правда, он сам ощущал коренную разницу между воображаемыми репетициями и непроизвольными музыкальными галлюцинациями.
Гордон Б. консультировался у нескольких неврологов. Ему сделали МРТ и КТ головного мозга, записали суточную ЭЭГ. Никакой патологии выявлено не было. Ношение слухового аппарата не помогло справиться с галлюцинациями (правда, со слуховым аппаратом больной стал нормально слышать). Не помогли Гордону и такие лекарства, как клоназепам, рисперидон и стелазин. От музыкальных галлюцинаций больной просыпался по ночам. «Нет ли у вас каких-нибудь иных идей относительно лечения?» – спрашивал он в письмах. Я предложил ему обсудить с лечащим врачом возможность назначения кветиапина, который в свое время помог некоторым больным. Буквально через несколько дней я получил новое письмо от Гордона Б.:
«Хочу сообщить Вам, что на четвертые сутки после начала приема этого лекарства я, проснувшись около трех часов ночи, два часа лежал в полной тишине. Это было невероятно, впервые за четыре года болезнь дала мне отдохнуть! На следующий день музыка вернулась, но звучала гораздо тише. Лечение выглядит многообещающим».
Спустя год Гордон написал, что продолжает принимать малые дозы кветиапина перед сном. Лекарство подавляет галлюцинации, и теперь он может спокойно спать. Гордон не принимает кветиапин днем, так как лекарство вызывает у него сильную сонливость. Гордон по-прежнему играет на скрипке, побеждая галлюцинации. «Можно сказать, – подытоживает он, – что я некоторым образом научился с ними жить».
Большинство моих пациентов и корреспондентов с музыкальными галлюцинациями страдают снижением слуха, во многих случаях тяжелым. У многих, хотя и далеко не у всех, отмечается в той или иной степени «шум в ушах» – рокочущий, шипящий или другого характера, или, наоборот, аномальное «усиление» – ненормальное и часто неприятное повышение громкости определенных голосов или шумов. Иногда преодолению критического порога способствуют дополнительные факторы – сопутствующее заболевание, хирургическая операция или прогрессирующее снижение слуха.
При этом приблизительно у пятой части моих корреспондентов нет нарушений слуха, и только у двух процентов больных со снижением слуха развиваются музыкальные галлюцинации (но, учитывая, что к старости у людей, как правило, падает слух, следует ожидать, что количество людей, страдающих музыкальными галлюцинациями, может исчисляться сотнями тысяч). Поскольку ни старение, ни снижение слуха сами по себе не приводят к появлению слуховых галлюцинаций, было бы логично предположить, что сочетание этих двух или еще каких-то факторов нарушает хрупкое равновесие между торможением и возбуждением и сдвигает его в сторону патологической активации слуховых и музыкальных центров головного мозга.
Правда, некоторые мои корреспонденты не являются ни пожилыми, ни тугоухими. Один из них – мальчик девяти лет.
Сообщений о документированных случаях музыкальных галлюцинаций у детей очень мало – хотя и неясно, действительно ли это расстройство редко встречается у детей, или это связано с тем, что дети не могут или не хотят рассказывать о своем состоянии. Но у Майкла Б. были самые настоящие музыкальные галлюцинации. Родители говорили, что они были «неотступными и продолжались с утра до ночи. Он слышит одну песню за другой. Если мальчик устал или чем-то расстроен, то музыка становится более громкой и беспокойной». Впервые Майкл пожаловался на это, когда ему было семь лет: «Я слышал музыку в голове. Мне даже пришлось посмотреть, не включено ли радио». Но вполне вероятно, что галлюцинации начались еще раньше, потому что однажды, когда ему было пять лет, семья ехала в машине, и он вдруг заткнул пальцами уши, заплакал и попросил приглушить приемник, хотя радио в машине было выключено.
Майкл не может изменять свои галлюцинации, но может в какой-то степени подавлять или вытеснять их, слушая или играя знакомую музыку или используя генератор белого шума – особенно по ночам. Но как только он просыпается утром, говорит мальчик, музыка включается снова. Если ребенок чем-то угнетен, музыка может стать невыносимо громкой, и в таких случаях Майкл кричит. Его мать называет это «акустическими мучениями». Майкл кричит: «Уберите ее из моей головы! Уберите ее!» (Это напомнило мне воспроизведенный Робером Журденом рассказ о том, что однажды в детстве Чайковский, лежа ночью в кроватке, кричал: «Эта музыка! Она здесь, в моей голове. Спасите меня от нее!»)
Майкл слышит музыку постоянно, беспрерывно, подчеркивает его мать. «Он не может порадоваться тихому закату, пройтись в тишине по лесу, спокойно подумать или почитать книжку, не слыша постоянно грохочущего в ушах оркестра».
Недавно мальчик начал принимать лекарство, уменьшающее корковую и музыкальную возбудимость, и, кажется, оно действует, хотя музыка пока по-прежнему захлестывает Майкла. Его мать написала мне: «Вчера вечером Майкл был счастлив, потому что его внутренняя музыка прекратилась на целых пятнадцать секунд. Такого еще не было»[22].
Помимо людей, для которых громкая навязчивая музыка – настоящая пытка, есть и другие, музыкальные галлюцинации которых такие тихие, что на них можно не обращать внимания. Эти люди обычно не обращаются к врачам, так как не испытывают потребности в лечении. Таким был случай Джозефа Д., восьмидесяти двух лет, в прошлом – врача-ортопеда. Несколько лет назад страдающий умеренной тугоухостью мистер Д. перестал играть на своем «Стейнвее», так как в слуховом аппарате звук казался ему «металлически резким», а без аппарата – размытым и нечетким. Кроме того, из-за глухоты он слишком сильно бил по клавишам. «Ты сломаешь пианино», – кричала жена. Шум в ушах – «шипение, как будто спускают пар» – появился за два года до того, как доктор Д. обратился ко мне. За шипением последовало жужжание – «как будто работает холодильник или еще какой-нибудь кухонный аппарат».
Приблизительно через год больной начал слышать «собрание нот, скользивших вверх и вниз, при этом две или три ноты вертелись и менялись местами». Эти слуховые приступы наступали внезапно, повторялись в течение нескольких часов, а потом так же внезапно прекращались. Спустя несколько недель Джозеф стал слышать бесконечно повторяющиеся музыкальные пассажи (больной узнал в них темы из бетховенского скрипичного концерта). Мистеру Д. так и не удалось услышать весь концерт целиком – лишь мешанину из разных тем. Он не мог определить – слышит ли он звуки фортепьяно или целого оркестра. «Это была чистая мелодия». Больной не мог прекратить звучание усилием воли, но звук был такой тихий, что на него можно было просто не обращать внимания; к тому же он легко перекрывался более громкими внешними шумами. Если больной занимался физической или умственной работой, музыка стихала.
Больше всего доктор Д. был поражен тем фактом, что, хотя его восприятие реальной музыки было искаженным и приглушенным из-за тугоухости, галлюцинации были живыми, отчетливыми и неискаженными (больной даже проверил себя, напевая мелодию вслед за галлюцинацией и записывая свой голос на магнитофон; потом, сравнив свою запись с исходной, он обнаружил полное совпадение в тональности и темпе). Напевание мелодии само по себе порождало своего рода эхо, повторение в мозгу.
Я спросил доктора Д., получает ли он удовольствие от своих музыкальных галлюцинаций, и он решительно ответил: «Нет».
Доктор Д. привык к галлюцинациям, благо они были тихими и не слишком беспокоили его. «Сначала я думал, что это разрушение, распад, – говорил он, – но теперь я смотрю на них как на багаж. Становясь старше, накапливаешь багаж». Правда, доктор Д. несказанно рад, что его багажом стали одни лишь сравнительно безобидные галлюцинации.
Когда несколько лет назад, выступая перед аудиторией из двадцати студентов колледжа, я спросил, не испытывал ли кто-нибудь из них музыкальные галлюцинации, я был поражен тем, что три человека ответили на мой вопрос утвердительно. Двое из них рассказали весьма схожие истории о том, как, занимаясь спортом, получали травмы и теряли сознание, а потом, придя в себя, в течение одной-двух минут «слышали музыку», звучавшую из внешних, как им казалось, источников: один студент слышал ее из мегафона, а второму казалось, что она льется из радиоприемника. Третий студент рассказал, что во время соревнований по карате соперник слишком сильно захватил его за шею. Студент потерял сознание, и на фоне беспамятства у него случился судорожный припадок, по окончании которого он в течение двух минут слышал «сладкую музыку», звучавшую откуда-то извне.
Несколько корреспондентов сообщили о музыкальных галлюцинациях, которые возникают только в определенном положении, например, в положении лежа. Один из них – девяностолетний мужчина, которого лечащий врач описывает как здорового человека с «блестящей» памятью. После того как присутствовавшие на девяностолетнем юбилее гости спели «Happy Birthday to You» (гости пели по-английски, хотя они сами и юбиляр – немцы), больной начал постоянно слышать эту мелодию – но только в положении лежа. Песенка звучала в течение трех-четырех минут, потом умолкала, а потом все начиналось сначала. Больной не мог ни остановить песню, ни спровоцировать ее звучание по собственному усмотрению, но он никогда не слышал ее в положении сидя или стоя. Врач был страшно удивлен одним изменением в активности правой височной доли на ЭЭГ больного, которое появлялось только в положении лежа.
Один тридцатитрехлетний мужчина тоже страдал музыкальными галлюцинациями исключительно в положении лежа. «Они запускаются уже самим движением, когда я укладываюсь в постель – в долю секунды в ушах начинает звучать музыка. …Но стоит мне сесть, встать или даже просто слегка приподнять голову, как музыка исчезает». В галлюцинациях звучали только песни, исполняемые разными голосами, а иногда хором. Больной называл их «мое маленькое радио». Этот корреспондент в конце письма пишет, что знает о случае Шостаковича, но к нему это не имеет никакого отношения, так как у него нет осколка в голове[23].
Известными причинами музыкальных галлюцинаций могут быть инсульты, преходящие нарушения мозгового кровообращения или врожденные аневризмы и аномалии строения головного мозга, но такие галлюцинации проходят по мере выздоровления или после удаления патологического очага, в то время как в подавляющем большинстве случаев музыкальные галлюцинации бывают очень упорными и длятся по много лет[24].
Преходящие музыкальные галлюцинации могут провоцироваться приемом целого ряда лекарств, действующих как непосредственно на слух – например, аспирин и хинин, – так и на центральную нервную систему – пропранолол и имипрамин. Случаются музыкальные галлюцинации и на фоне некоторых метаболических нарушений, эпилепсии или во время мигренозных аур[25].
Для большинства случаев музыкальных галлюцинаций характерно внезапное возникновение симптомов, а затем происходит расширение галлюцинаторного репертуара; музыка становится более громкой, упорной, навязчивой. Мало того, галлюцинации могут продолжаться даже после того, как устраняется предрасполагающая к ним причина. Галлюцинации обретают самостоятельность, автономность, они становятся самоподдерживающимися. На этой стадии их практически невозможно прекратить или подавить, хотя многим больным удается менять мелодии или темы в своей «музыкальной шкатулке», но это при условии, что слышимые звуки обладают вполне определенной мелодией или музыкальной темой. На фоне такой навязчивости, как правило, возникает повышенная чувствительность к реальной музыке. Всякая услышанная мелодия немедленно начинает заново проигрываться в голове. Воспроизведение такого рода несколько напоминает нашу реакцию на навязчивые мелодии, но галлюцинации отличаются тем, что музыка воспринимается человеком не как плод его воображения, а как слышимая наяву «реальная» музыка.
Эти свойства – внезапное наступление и самоподдержание – напоминают свойства эпилепсии (хотя такие же физиологические характеристики типичны для мигрени и синдрома Туретта)[26]. Представляется, что мы имеем дело с упорным, неконтролируемым распространением волн электрического возбуждения по «музыкальным» нейронным сетям головного мозга. Возможно, совершенно неслучайной является наблюдаемая иногда эффективность таких лекарств, как габапентин (разработанного для лечения эпилепсии), и в случаях музыкальных галлюцинаций.
Галлюцинации разных типов, включая и музыкальные, могут возникать также в тех случаях, когда сенсорные системы головного мозга получают недостаточную стимуляцию. Обстоятельства должны быть экстремальными – необходимая сенсорная депривация крайне редко встречается в обыденной жизни – для возникновения галлюцинаций надо, чтобы человек целыми днями пребывал в тишине и покое.
Дэвид Оппенгейм, профессиональный кларнетист, возглавлял университетский факультет, когда написал мне в 1988 году письмо. В то время ему было шестьдесят шесть лет и он страдал снижением восприятия звуков высоких частот. Несколько лет назад, писал он, ему довелось провести неделю в отдаленном лесном монастыре, где он принимал участие в медитациях, продолжавшихся по девять и более часов в сутки. Через два-три дня он начал слышать тихую музыку и решил, что слышит пение людей, собравшихся вокруг вечернего костра на поляне. На следующий год он снова приехал в тот же монастырь и снова услышал знакомое пение, но на этот раз оно оказалось громче; кроме того, Оппенгейм начал слышать и более дифференцированную музыку. «На пике звучания музыка становится довольно громкой, – писал он. – Мелодии повторяются; я отчетливо слышу играющий оркестр. Это всегда были медленные пассажи из Дворжака и Вагнера. …Эти музыкальные фразы делали невозможной медитацию».
«Если я не медитирую, то могу мысленно вспомнить мелодии Дворжака, Вагнера и любого другого из известных мне композиторов, но те мелодии я не «слышу». …Во время медитаций я слышу музыку так, словно она реальна.
В течение нескольких дней подряд я, как одержимый, слышу повторение одного и того же музыкального материала. …Эту внутреннюю музыку нельзя ни прекратить, ни подавить. Мой внутренний музыкант играет беспрерывно, хотя им можно управлять и манипулировать. …Так, например, мне удалось избавиться от хора пилигримов из «Тангейзера» и заменить его медленной мелодией моей любимой Двадцать девятой симфонии ля мажор Моцарта, так как для начала этих произведений характерны одинаковые музыкальные интервалы».
Не все галлюцинации Дэвида представляли собой знакомые произведения, некоторые галлюцинации он «сочинял» сам. «Я никогда в жизни не сочинял музыку, – рассказывал Дэвид. – Я использую это слово, чтобы подчеркнуть, что некоторые звучавшие в моей голове произведения не принадлежали ни Дворжаку, ни Вагнеру; это была новая музыка, которую я сам не знаю, как сумел сотворить».
Подобные истории я слышал от некоторых своих друзей. Джером Брунер рассказывает мне, что во время одиночного плавания через Атлантику под парусом, в спокойные дни, когда дел было мало, он «слышал» классическую музыку, «кравшуюся над водой».
Майкл Сандью, ботаник, недавно написал мне о своем путешествии на парусном судне:
«В двадцать четыре года мне довелось стать членом экипажа, нанятого для перегона парусного судна. В море мы находились двадцать два дня. Это было невероятно скучно. Уже через три дня я прочитал все книги. Делать было абсолютно нечего – оставалось глазеть на облака и спать. Дни шли за днями, ветра не было, и время от времени, когда паруса окончательно обвисали, нам приходилось включать двигатель, чтобы продолжать движение дальше хотя бы на нескольких узлах. Обычно я валялся на палубе или в каюте и смотрел в иллюминатор. Именно тогда у меня случилось несколько музыкальных галлюцинаций.
Две такие галлюцинации начались с монотонных звуков, которые издавало само судно – жужжание маленького холодильника и скрип корабельного такелажа. Все эти звуки преобразились в нескончаемые мелодии солирующих музыкальных инструментов. Я забыл об изначальных источниках этой музыки, подолгу лежал, находясь в полусонном состоянии, и слушал то, что казалось мне изумительной и чарующей музыкой. Только насладившись мелодиями, я начинал понимать, откуда звучит музыка. Звучание инструментов было интересным в том отношении, что для развлечения я обычно слушал совсем другую музыку. Жужжащий звук холодильника превращался в виртуозное соло электрогитары, искажающий усилитель придавал металлический оттенок высоким нотам. Свист ветра в оснастке становился заунывным звуком шотландской волынки. Музыка обоих типов мне хорошо знакома, но дома я ее никогда не слушаю.
В это же время я также начал слышать голос отца, который звал меня по имени. (Были у меня и зрительные галлюцинации – я явственно видел акулий плавник в волнах.) Мои спутники тут же развеяли мои впечатления и подняли меня на смех. По их реакции я понял, что акулий плавник над водой – самое частое видение, преследующее начинающих мореходов».
Несмотря на то что Колмен еще в 1894 году писал о галлюцинациях у здоровых людей с небольшими органическими поражениями сенсорных органов, среди широкой публики и даже среди врачей господствовало убеждение, что «галлюцинации» – это всегда психоз или тяжелое органическое поражение головного мозга[27]. Нежелание видеть в галлюцинациях распространенный среди психически здоровых людей феномен продолжалось до семидесятых годов двадцатого века и было, вероятно, обусловлено отсутствием теории о том, как, собственно, возникают галлюцинации. Это положение сохранялось до 1967 года, когда Ежи Конорский, польский нейрофизиолог, посвятил несколько страниц своей книги «Интегративная активность головного мозга» «физиологическим основам галлюцинаций». Конорский по-новому поставил старый вопрос «почему возникают галлюцинации?», спросив вместо этого: «Почему галлюцинации не преследуют нас все время? Что их сдерживает?» Ученый постулировал существование динамической системы, которая «может порождать образы и галлюцинации… механизм порождения галлюцинаций встроен в наш мозг, но действовать этот механизм начинает только в исключительных условиях». Конорский собрал доказательства – слабые в шестидесятые годы, но ставшие в наше время весьма убедительными – того, что существуют не только афферентные связи, соединяющие органы чувств с мозгом, но и связи, идущие в противоположном направлении. Такие обратные связи очень слабы по сравнению с афферентными связями и, как правило, не проявляют активности в обычных условиях. Но Конорский предположил, что именно эти связи являются теми анатомическими и физиологическими средствами, с помощью которых возникают галлюцинации. Но что – в обычных условиях – препятствует появлению галлюцинаций? Решающим фактором, считал Конорский, является сенсорный вход, связывающий периферические органы чувств – глаза, уши и другие – с головным мозгом. Этот поток входящей информации подавляет обратный поток, направленный от мозга к периферии. Но если имеет место дефицит входящих стимулов от органов чувств, обратный поток облегчается и порождаются галлюцинации, физиологически и субъективно не отличимые от реального восприятия.
Теория Конорского давала простое и изящное объяснение тому, что было названо галлюцинациями «освобождения», сочетающимися с «деафферентацией». Такое объяснение кажется сейчас очевидным и даже тривиальным – но в шестидесятые годы оно требовало оригинальности мышления и смелости.
В настоящее время теорию Конорского можно убедительно подтвердить результатами исследований мозга современными методами визуализации. В 2000 году Тимоти Гриффитс опубликовал первое подробное сообщение о неврологических основах музыкальных галлюцинаций. Гриффитс смог, используя позитронную эмиссионную томографию, показать, что музыкальные галлюцинации сочетаются с обширной активацией тех же нейронных сетей, которые в норме активируются при восприятии реальной музыки.
В 1995 году я получил очень живое письмо от Джуны Б., очаровательной творческой женщины семидесяти лет, которая рассказала в нем о своих музыкальных галлюцинациях:
«Впервые они появились в ноябре прошлого года, когда я пришла в гости к своей сестре и ее мужу. Мы выключили телевизор, и я уже собралась уходить, когда мне послышалось звучание песни «Божья Благодать». Ее пел хор, снова и снова. Я поинтересовалась у сестры, не слушают ли они по телевизору церковную службу, но оказалось, что по понедельникам они смотрят футбол. Я вышла из их каюты и поднялась на палубу. Я смотрела на воду, а музыка продолжала звучать у меня в ушах. Я посмотрела в сторону берега, увидела несколько домов со светящимися окнами и поняла, что звуки доносились не извне. Они рождались в моей голове».
К письму миссис Б. приложила «репертуар», включавший «Чудную милость», «Боевой гимн Республики», «Оду к радости» Бетховена, «Застольную» из «Травиаты», «Э-тискет, э-таскет» и очень унылую версию «Мы, три восточных царя».
«Однажды вечером, – писала миссис Б., – я услышала превосходное сольное исполнение «Была у старика Макдональда ферма», сопровождавшееся неистовыми аплодисментами. Тут я окончательно поняла, что у меня съехала крыша и что мне стоит обратиться к врачу».
Миссис Б. писала, что прошла обследование на предмет болезни Лайма (она где-то читала, что эта болезнь может сопровождаться музыкальными галлюцинациями), потом ей сделали аудиометрию с вызванными в стволе мозга потенциалами, сделали ЭЭГ и МРТ. Во время регистрации ЭЭГ она слышала «Звон колоколов Святой Марии», но никаких отклонений на ЭЭГ не оказалось. У миссис Б. не было никаких симптомов снижения слуха.
Музыкальные галлюцинации возникали по большей части в покое, особенно во время отхода ко сну. «Я не могу по желанию включить или выключить эту музыку, но иногда могу сменить мелодию – не на всякую, а только из списка запрограммированных. Иногда песни перекрываются, и тогда я теряю терпение, включаю свою любимую радиостанцию и ложусь спать под настоящую музыку»[28].
«Мне повезло, – писала в конце миссис Б., – что моя музыка не очень громкая. …Если бы она была громче, я просто сошла бы с ума. А так она берет свое только в определенные моменты. Любое звуковое отвлечение – беседа, радио, телевизор – мгновенно подавляет любую галлюцинацию. Вы пишете, что я смогла «подружиться» с новыми ощущениями. Ну да, я научилась справляться с ними, но иногда музыка сильно меня раздражает. …Например, когда я просыпаюсь в пять утра и не могу снова уснуть, потому что слушаю хор, напоминающий мне о том, что «старая пегая кляча никогда не станет такой, как прежде». Это не шутка. Это действительно произошло, и было бы очень забавным, если бы припев не повторялся бесконечно, как на старой треснутой пластинке».
Я лично встретился с миссис Б. через десять лет и спросил, не стали ли за прошедшие годы музыкальные галлюцинации «важной» частью ее жизни, и если стали, то в каком смысле – положительном или отрицательном. «Если бы они вдруг исчезли, – спросил я, – то вы бы радовались или скучали?» – «Я бы скучала, – без промедления ответила миссис Б., – я бы скучала по музыке. Знаете, она стала частью моего существа».
Итак, нет никаких сомнений в наличии физиологической основы музыкальных галлюцинаций, но мы вправе поставить вопрос о том, в какой мере другие факторы (назовем и их «физиологическими») могут участвовать в «отборе» галлюцинаций, в их эволюции и роли. Я задался этим вопросом в 1985 году, когда писал о миссис О'К и миссис О'М. Уайлдер Пенфилд тоже интересовался, есть ли смысл и значение в песнях или сценах, возникающих во время «чувственных припадков», и пришел к выводу, что такого смысла нет. Отбор галлюцинаторной музыки, сделал он вывод, происходит совершенно случайно, если не считать того, что при этом вырабатывается нечто вроде коркового условного рефлекса. Родольфо Льинас писал нечто похожее о непрерывной активности в ядрах базальных ганглиев и о том, что они, «как представляется, действуют словно генератор случайного шума». Если время от времени какой-нибудь фрагмент или несколько нот прорываются в сознание, полагал Льинас, то происходит это совершенно абстрактно, вне зависимости от эмоционального состояния субъекта. Но дело в том, что иногда какой-то феномен начинается как нечто случайное – например, тик, вырывающийся из перевозбужденного базального ганглия, – а затем обрастает ассоциациями и приобретает смысл.
Можно с полным правом использовать слово «случайность» в отношении последствий нарушений низшего уровня в базальных ганглиях – например, в непроизвольных движениях, возникающих при заболевании, называемом хореей. В хорее нет ничего личностного – это чистый автоматизм, который в большинстве случаев не осознает даже сам больной, и окружающие видят ее лучше. Но следует сотню раз подумать, прежде чем применить слово «случайность» в отношении переживания – не важно, является ли оно чувственным, воображаемым или галлюцинаторным. Музыкальные галлюцинации связаны с музыкальным опытом и памятью всей жизни, и главную роль здесь играет важность, которой обладает для индивида та или иная конкретная музыка. Влияние экспозиции к музыке тоже имеет большое значение. Постоянно лезущая в уши музыка может даже пересилить личные пристрастия человека, страдающего музыкальными галлюцинациями. В подавляющем большинстве случаев музыкальные галлюцинации принимают форму популярных и тематических песен и мелодий (а у предыдущего поколения – гимнов и патриотических песен). Такое имеет место даже у профессиональных музыкантов и самых искушенных слушателей[29]. Музыкальные галлюцинации отражают вкусы времени больше, чем личные вкусы пораженных ими индивидов.
Некоторые люди – и таких очень немного – получают удовольствие от своих музыкальных галлюцинаций; многие испытывают от них страдания, но подавляющее большинство привыкает к галлюцинациям и, так сказать, находит с ними общий язык. Иногда такое взаимопонимание принимает форму непосредственного взаимодействия, как в одной истории, превосходно описанной Тимоти Миллером и Т. В. Кросби. Их пациентка, пожилая глухая женщина, «проснувшись однажды утром, услышала, как духовный квартет исполняет старый гимн, который она помнила с детства». Убедившись, что музыка звучит не по радио и не по телевизору, женщина совершенно спокойно смирилась с тем фактом, что пение звучит в ее голове. Репертуар гимнов между тем пополнялся: «музыка в целом была очень приятной, и женщина подчас охотно подпевала квартету. …Она также обнаружила, что может учить квартет новым песням, добавляя в них несколько строчек, и квартет послушно исполнял пропущенные ранее слова и куплеты». Год спустя Миллер и Кросби наблюдали у больной те же галлюцинации, добавив, что за прошедшее время женщина «хорошо приспособилась и воспринимает их теперь как «крест», который она обязана нести». Надо заметить, что в данном случае выражение «нести крест» не имеет негативного оттенка – наоборот, это может быть знаком милости и избранности. Недавно мне довелось познакомиться с удивительной пожилой женщиной-пастором, у которой на фоне снижения слуха появились музыкальные галлюцинации, преимущественно в виде духовных гимнов. Сама больная посчитала эти галлюцинации «даром» и довела буквально до совершенства: она научилась слышать их только в церкви и во время молитвы. В остальное время, например, на время трапезы, музыка замолкает. Эта женщина сумела включить свои галлюцинации в глубоко прочувствованный религиозный контекст.
Такие личностные влияния возможны и даже необходимы, если принять теорию Конорского и модель Льинаса. Фрагментарные куски могут высвобождаться из базальных ганглиев в качестве «сырой» музыки, лишенной эмоциональной окраски или ассоциаций, то есть в каком-то смысле лишенной всякого содержания. Но эти музыкальные фрагменты передаются выше, в таламо-кортикальную систему, являющуюся основой сознания и ощущения самости, и там музыка приобретает смысл, к ней присоединяются всякого рода чувства и ассоциации.
Вероятно, самый глубокий анализ музыкальных галлюцинаций и их оформления личным опытом и чувствами, а также их взаимодействия с сознанием и личностью был проведен выдающимся психоаналитиком Лео Рэнджеллом. Для него музыкальные галлюцинации стали предметом углубленного самоанализа, который продолжался больше десяти лет.
В первый раз доктор Рэнджелл написал мне о своих музыкальных галлюцинациях в 1996 году[30]. В то время ему было восемьдесят два года. За два месяца до написания письма он перенес вторую операцию аортокоронарного шунтирования:
«Сразу после пробуждения в отделении интенсивной терапии я услышал пение и сказал своим детям: «Эге, да здесь поблизости находится школа раввинов». То, что я слышал, было похоже на урок духовного пения… Как будто старый раввин учит молодого петь их гимны». Я сказал, что раввин, должно быть, работает допоздна, даже в полночь, так как и в это время я слышу пение. Мои дети переглянулись и удивленно, но терпеливо объяснили мне, что поблизости нет ни одной школы раввинов.
Конечно, вскоре я понял, что все дело во мне самом. Это понимание принесло некоторое облегчение, но породило и озабоченность. Музыка, кажется, звучала беспрерывно, но я мог подолгу не обращать на нее внимания, попросту ее не замечать, особенно в суете больничной жизни. Когда через шесть дней я покинул клинику, «раввин» последовал за мной. Теперь он постоянно обитает за окнами моего дома, сопровождает меня во время прогулок по холмам. …Может быть, он живет в каньоне? Несколько недель назад я летел в самолете, и раввин летел вместе со мной».
Рэнджелл надеялся, что эти музыкальные галлюцинации – возможное следствие анестезии, как он думал, или наркотиков, которые вводили ему после операции, – со временем пройдут. Помимо этого, Рэнджелл страдал многочисленными когнитивными расстройствами, которые, как было ему известно, случаются у всех больных, перенесших шунтирование. Но эти нарушения быстро прошли[31].
Однако через полгода Рэнджелл стал опасаться, что галлюцинации являются необратимыми. Днем, занимаясь делами, ему удавалось избавиться от музыки, задвинув ее в дальний угол сознания, но по ночам музыкальные галлюцинации не давали ему спать. («Бессонница буквально измочалила меня», – писал он.)
Доктор Рэнджелл страдал значительным снижением слуха. «У меня была наследственная нервная глухота. Мне кажется, что музыкальный галлюциноз как-то связан с гиперакузией, характерной для больных со сниженным слухом. Внутренние, центральные слуховые пути избыточно возбуждаются и усиливают звук». Далее, рассуждал Рэнджелл, эта повышенная активность может быть основана на внешних ритмах – звуках ветра, шуме уличного движения, жужжании моторов – или на ритмах внутренних – ритмах сердечных сокращений или дыхания. «Сознание, которое превращает эти звуки в музыку или песни, начинает ими (звуками) управлять, трансформируя пассивность в активность».
Доктор Рэнджелл чувствовал, что его музыка есть отражение настроения и внешних обстоятельств. Сначала, в больнице, песни были разными – от похоронных, элегических и религиозных до веселых детских песенок (о-ля-ля, о-ля-ля чередовалось с ой-вей, ой-вей, вей, вей, вей; только по прошествии некоторого времени до Рэнджелла дошло, что все эти песни звучали на один и тот же мотив). Вернувшись домой из больницы, он начал слышать «Когда Джонни возвращается домой», а потом «лихие и веселые» на мотив «Жаворонок, милый жаворонок».
«Если в сознании не возникает какой-то известной, так сказать, официальной песни, – продолжал Рэнджелл, – мой мозг сочиняет ее сам: ритмическая речь, часто состоящая из бессмысленного набора слов, накладывается на музыку. Это могут быть слова, которые я только что услышал, прочитал или представил». Рэнджелл полагал, что этот феномен, так же, как и сновидения, имеет отношение к творчеству.
Наша переписка на этом не закончилась. В 2003 году он написал:
«Я живу с этим уже без малого восемь лет. Симптомы остаются прежними. Я слышу музыку 24 часа в сутки семь дней в неделю. Но говоря, что она всегда со мной, я не хочу сказать, что всегда ее осознаю – если бы это было так, я давно уже оказался бы в сумасшедшем доме. Музыка стала частью моего существования, она начинает звучать, стоит мне лишь подумать о ней. Слышу я ее и тогда, когда мой ум ничем не занят.
Но я могу включить мелодии без всяких усилий с моей стороны. Стоит мне представить хотя бы одну ноту музыки или одно слово текста, как все произведение звучит в голове от начала до конца. Это как надежный пульт дистанционного управления. Музыка звучит, сколько ей заблагорассудится, – или до тех пор, пока я это допускаю…
Все это похоже на радиоприемник, у которого есть только кнопка включения».
К настоящему времени Рэнджелл живет со своими галлюцинациями уже десять лет, и с каждым годом они кажутся ему все более и более осмысленными и менее случайными. Все песни, которые он слышит, знакомы ему с детства, и их можно разделить на «категории». Рэнджелл пишет:
«Бывают разные песни – романтические, печальные, трагические, праздничные, песни о любви или трогающие до слез. Все они пробуждают те или иные воспоминания. Многие напоминают мне о жене, умершей семь лет назад, через полтора года после того, как это началось…
По структуре звучащие во мне песни похожи на сновидения. У них есть разрешающий стимул, они связаны с аффектом, автоматически, помимо моего желания, навевают определенные мысли. Они когнитивные и обладают подструктурой, которую можно выявить при внимательном исследовании данного феномена…
Иногда, когда музыка заканчивается, я ловлю себя на том, что продолжаю мурлыкать мелодию, от которой всего секунду назад мечтал избавиться. Оказывается, я скучаю по своей музыке. Любой психоаналитик вам скажет, что за каждым симптомом (а это симптом), за каждой защитой стоит тяга к симптому. Песни, всплывающие в моем сознании, суть выражение моих потребностей, надежд, желаний – романтических, сексуальных, моральных, так же, как потребности в действии и совершенном овладении мастерством. Именно они придают моим музыкальным галлюцинациям окончательную форму, нейтрализуя и замещая исходный мешающий шум. Как бы я ни жаловался, эти песни желанны; по крайней мере отчасти».
Подытоживая опыт своих галлюцинаторных переживаний в длинной статье, опубликованной в сетевом издании «Хаффингтон Пост», доктор Рэнджелл пишет:
«Я смотрю на себя как на своего рода живую лабораторию, как на природный эксперимент, пропущенный сквозь слуховую призму. В жизни я дошел до края, но это своеобразный край – граница между мозгом и сознанием. Отсюда, с границы, во многих направлениях открывается вид на многие неизведанные области. Эти области, по которым блуждает мой опыт, включают в себя царства неврологии, отологии и психоанализа, сходящиеся в неповторимом сочетании симптомов, переживаемых не на кушетке психоаналитика, а в реальной жизни».
Часть II
Диапазон музыкальности
7
Чувство и чувствительность:
диапазон музыкальности
Мы часто говорим, что у одних людей есть хороший слух, а у других его нет. Хороший слух подразумевает способность точно воспринимать высоту звуков и ритм. Мы знаем, что у Моцарта был редчайший слух, и он, без сомнения, был великим музыкантом. Мы считаем само собой разумеющимся, что у всех хороших музыкантов должен быть и хороший слух, пусть даже не такой, как у Моцарта. Но достаточно ли одного только музыкального слуха?
Этот вопрос подробно разбирается в отчасти автобиографическом романе Ребекки Уэст «Переполненный фонтан» – истории жизни музыкальной семьи, где мать была профессиональным музыкантом (как мать Ребекки Уэст), отец – блистательным, но совершенно немузыкальным интеллектуалом, и двое из троих детей имели музыкальные способности. Но, как ни странно, наилучшим слухом обладала «немузыкальная» дочь – Корделия. Она, по словам сестры,
«имела отличный, даже абсолютный слух, какого не было ни у мамы, ни у Мэри, ни у меня, у нее были подвижные послушные пальцы. Она могла разогнуть кисть так, что пальцы касались запястий, и читала ноты с листа. Но мама сначала каждый раз хмурилась, а потом морщилась, словно от жалости, когда Корделия касалась смычком струн. Звукоизвлечение всегда было елейно-слащавым, а фразы звучали так, словно глупый взрослый человек что-то объясняет маленькому ребенку. Она, в отличие от нас, не умела отличить хорошую музыку от плохой.
В том, что Корделия не обладала музыкальностью, не было ее вины. Мама считала, что эту особенность она унаследовала от папы».
Противоположная ситуация описывается в рассказе Сомерсета Моэма «На чужом жнивье». Здесь элегантный молодой человек, отпрыск недавно получившей дворянский титул семьи, которому полагалось интересоваться охотой и стрельбой, вдруг, к негодованию и ужасу всего семейства, изъявил страстное желание стать пианистом. Семейный совет постановил: молодой человек отправится на два года в Германию обучаться музыке, а потом, вернувшись в Англию, покажет свое искусство профессиональному пианисту.
По истечении назначенного срока Джордж возвращается из Мюнхена. Родители приглашают на прослушивание знаменитую пианистку Лею Мэйкарт. Вокруг рояля собралась вся семья. Джордж с пылом окунается в музыку, с невероятной живостью играя Шопена. Но в игре явно чего-то недостает. Как замечает автор:
«Моего музыкального образования не хватит на то, чтобы дать исчерпывающее описание его игры. Она отличалась силой и юношеским задором, но я чувствовал, что ей недостает того, что для меня составляет главное очарование Шопена – нежности, нервической грусти, задумчивой радости и слегка увядшего романтизма, напоминающего о памятных подарках Викторианского времени. Я не мог избавиться от очень смутного, почти незаметного чувства, что руки касаются клавиш не вполне синхронно. Взглянув на Ферди, я заметил, что он удивленно переглянулся с сестрой. Мюриэл вначале пристально смотрела на пианиста, но потом опустила голову и до конца выступления не отрывала взгляд от пола. Отец Джорджа смотрел на сына немигающим взглядом, но, если не ошибаюсь, слегка побледнел. В глазах пожилого джентльмена было нечто похожее на неудовольствие и досаду. Музыка была у них в крови, они всю жизнь слушали игру величайших пианистов и умели судить о музыке с инстинктивной точностью. Единственным человеком, не выдавшим никаких эмоций, была Лея Мэйкарт. Она была бесстрастна, словно статуя».
Когда Джордж закончил игру, она высказала свое суждение:
«Если бы я увидела в вас задатки музыканта, то, не колеблясь ни секунды, заклинала бы бросить все ради искусства. В мире нет ничего выше искусства. В сравнении с ним богатство, положение, власть не стоят и медного гроша. …Разумеется, я вижу, как тяжко вы работали. Не думайте, что труд этот пропал даром. Вы всегда будете получать высочайшее наслаждение от игры на пианино и сможете судить об игре великих пианистов так, как не может судить простой смертный».
Но, говорит дальше Мэйкарт, у Джорджа нет руки и слуха для того, чтобы стать первоклассным пианистом «даже за тысячу лет».
Джордж и Корделия страдают неизлечимым дефицитом музыкальности, но страдают по-разному. У Джорджа есть настойчивость, энергия, самоотверженность, страстная тяга к музыке, но он лишен главной неврологической составляющей музыкальности – хорошего слуха, тогда как Корделия обладает идеальным музыкальным слухом, но человек, слушающий ее игру, не может отделаться от ощущения, что она так и останется невыносимо слащавой, никогда не научится «ловить» музыкальные фразы и отличать хорошую музыку от плохой, потому что ей катастрофически не хватает (хотя сама она этого не осознает) музыкальной чувствительности и вкуса.
Требует ли музыкальная чувствительность – «музыкальность» в общепринятом значении этого слова – какого-то особого неврологического аппарата? Большинство из нас смеет надеяться на известную гармонию, упорядоченность, связывающую наши желания со способностями и возможностями, но всегда будут находиться люди, как Джордж, способности которого не соответствуют его желаниям, и как Корделия, у которой есть все таланты, кроме самых важных: способности к суждению и вкуса. Ни один человек не может обладать всеми талантами сразу – ни когнитивными, ни эмоциональными. Даже Чайковский с горечью признавал, что его способность творить мелодии не соответствует способности схватывать структуру музыки. Однако Чайковский и не стремился стать мастером музыкальной архитектуры, каким был, например, Бетховен, и вполне осознанно остался мастером мелодии[32].
Многие люди, которых я описываю в этой книге, сознают свою музыкальную ущербность того или иного рода. Они не могут в полной мере распоряжаться «музыкальной» частью своего мозга, которая живет по своим собственным законам и подчиняется только собственной воле. Так происходит, например, при музыкальных галлюцинациях, которые возникают спонтанно, не спрашивая разрешения у жертвы, – в отличие от музыкальных образов и музыкального воображения, каковыми каждый волен распоряжаться по собственному усмотрению. Что же касается исполнения, то здесь стоит упомянуть о дистонии музыкантов, при которой пальцы отказываются подчиняться воле исполнителя, начинают заплетаться или своевольничать. В такой ситуации часть мозга вступает в конфликт с намерениями, с «я» музыканта.
Но даже в отсутствие такого значительного противоречия, когда сознание и мозг вступают в непримиримый конфликт друг с другом, музыкальность, как всякий дар, может создавать свои проблемы. Здесь я в первую очередь вспоминаю выдающегося композитора Тобиаса Пикера, который, кроме того, – так уж случилось – страдает синдромом Туретта. Вскоре после знакомства Пикер сказал мне, что у него есть одно «врожденное расстройство», которое преследует его всю жизнь. Я подумал, что он говорит о синдроме Туретта, но оказалось, что речь идет о его чрезмерной музыкальности. Он родился с ней; с первых лет жизни он распознавал и выстукивал мелодии, играть на пианино и сочинять музыку начал в четырехлетнем возрасте. К семи годам он мог с одного раза запомнить и воспроизвести длинное музыкальное произведение любой сложности. Его постоянно захлестывали музыкальные эмоции. С самого начала, говорит Пикер, родителям было ясно, что он станет музыкантом, что едва ли он будет способен заниматься чем-то другим, потому что музыкальность была всепожирающей. Мне подумалось, что действительно, по-другому и не могло быть, но он добавил, что иногда ему кажется, будто музыкальность буквально подчинила его себе. Многие художники и исполнители временами испытывают такое же чувство – но в музыке (так же, как в математике) такие способности просыпаются, как правило, очень рано и с самого начала определяют жизнь их обладателей.
Слушая музыку Пикера, наблюдая, как он музицирует или сочиняет, я всегда чувствую, что у него особый мозг, мозг музыканта, весьма отличный от моего. Этот мозг работает по-особенному, в нем есть связи и области, отсутствующие в моем мозгу. Трудно, правда, сказать, являются ли эти отличия врожденными или они появляются в результате постоянной тренировки. Это сложный вопрос, ибо Пикер, как и большинство музыкантов, приступил к музыкальному образованию в раннем детстве.
С развитием в девяностые годы методов визуализации мозга стало возможным визуализировать мозг музыкантов и сравнить его с мозгом людей, далеких от музыки. Используя магнитно-резонансную морфометрию, Готфрид Шлауг и его коллеги из Гарвардского университета выполнили тщательное сравнение размеров различных мозговых структур. В 1995 году Шлауг и др. опубликовали статью, в которой писали, что мозолистое тело, самая большая комиссура, связывающая полушария мозга, у профессиональных музыкантов увеличена и что слуховая зона височной области коры больших полушарий у музыкантов с абсолютным слухом асимметрично расширена. Кроме того, авторам удалось показать, что в двигательных, слуховых и зрительно-пространственных областях коры, а также в мозжечке имеет место увеличение объема серого вещества[33]. Сегодня анатомам трудно идентифицировать мозг живописца, писателя или математика, но мозг музыканта они теперь могут опознать, не колеблясь ни минуты.
Шлауг задался вопросом: насколько отличия являются отражением врожденной предрасположенности и насколько следствием раннего обучения музыке? Никто, естественно, не знает, чем отличается мозг четырехлетних детей до того, как они начинают заниматься музыкой, но влияние обучения, как показал Шлауг и соавторы, чрезвычайно велико. Степень наблюдаемых анатомических изменений строго коррелирует с началом музыкального образования и с интенсивностью практики и репетиций.
Альваро Паскуаль-Леоне из Гарвардского университета показал, как быстро реагирует головной мозг на занятия музыкой. Использовав в качестве теста фортепьянные упражнения для пяти пальцев, Паскуаль-Леоне доказал, что изменения в двигательной коре наступают в течение нескольких минут после начала упражнения. Измерения регионарного кровотока в других отделах мозга показали возрастание активности в базальных ганглиях и мозжечке, а также в различных отделах мозговой коры – причем эти изменения развиваются не только во время реальных упражнений, но и во время мысленных репетиций.
Конечно, природа одаряет людей музыкальным талантом в разной степени, но есть все основания предполагать, что врожденная музыкальность присуща каждому человеку. Особенно наглядно это продемонстрировал предложенный Судзуки метод обучения детей игре на скрипке – исключительно по слуху и путем имитации. Метод оказался эффективным практически у всех слышащих детей[34].
Уже давно известно, что даже непродолжительное прослушивание классической музыки может стимулировать и усиливать способности детей к математике, речи и пространственной ориентации. Это так называемый эффект Моцарта. Он обсуждался Шелленбергом и сотрудниками, но за рамками обсуждения остался вопрос о том, как влияет раннее интенсивное обучение музыке на юный пластичный мозг. Такако Фуджиока и ее коллеги, изучая магнитоэнцефалографическим методом вызванные потенциалы слуховой коры, показали, что наблюдаются разительные изменения в левом полушарии детей, занимающихся игрой на скрипке в течение всего лишь одного года, в сравнении с детьми, не занимающимися музыкой[35].
Можно ли считать музыкальную компетентность таким же универсальным человеческим потенциалом, как, скажем, компетентность языковую? Постоянный речевой контакт в каждой семье способствует тому, что практически все дети к четырех-пятилетнему возрасту овладевают речью, приобретая языковую компетентность (в терминологии Хомского)[36]. С музыкой дело обстоит по-другому, потому что в некоторых семьях практически не слушают музыку, а музыкальный потенциал так же, как и любой другой, требует постоянной стимуляции для своей реализации и развития. В отсутствие поощрения и стимуляции музыкальный талант может и не развиться. Но если в овладении языком существует определенный критический период в первые годы жизни, то в овладении музыкой такого критического периода, как кажется, нет. Если человек к шести-семилетнему возрасту не слышал человеческой речи, то для него это катастрофа, ибо он никогда уже не научится говорить (это относится чаще всего к глухим детям, которых не научили ни языку жестов, ни членораздельной речи). Но если человек в детстве не слышал музыку, это не значит, что он не сможет овладеть ею в будущем. Мой друг Джерри Маркс в детстве почти не слышал музыку. Родители никогда не ходили на концерты и очень редко слушали музыку по радио, в доме не было ни музыкальных инструментов, ни книг о музыке. Джерри приходил в недоумение, когда одноклассники заговаривали о музыке, так как не понимал, что интересного они в ней находят. «Мне же медведь на ухо наступил, – вспоминал Джерри. – Я не мог напеть ни одной мелодии, когда кто-то пел, я не понимал, фальшивит он или нет, и не отличал одну ноту от другой». Джерри, не по годам развитый ребенок, страстно мечтал стать астрономом, собираясь посвятить свою жизнь науке.
Когда Джерри было четырнадцать лет, он увлекся акустикой, в особенности физикой колебания струны. Он много читал об этом и ставил опыты в школьной лаборатории, и, мало того, ему страстно захотелось иметь какой-нибудь струнный инструмент. На день рождения (Джерри исполнилось пятнадцать) родители подарили сыну гитару, и вскоре он самостоятельно научился на ней играть. Звуки гитарной музыки и ощущение перебираемых струн приводили мальчика в восторг, и он учился очень быстро. В семнадцать он занял третье место на конкурсе самых музыкальных учеников школы. Заметим, что его друг Стивен Джей Гоулд, занимавшийся музыкой с раннего детства, занял на конкурсе второе место. Джерри продолжил свои музыкальные занятия в колледже. Во время учебы он подрабатывал уроками игры на гитаре и банджо. С тех пор музыка стала главной страстью его жизни.
Тем не менее существуют, конечно, пределы, обозначенные самой природой. Обладание абсолютным слухом зависит от раннего начала музыкальных занятий, но сами по себе эти занятия не гарантируют абсолютного слуха. Более того, случай Корделии показывает, что наличие абсолютного слуха не гарантирует наличия других, более возвышенных музыкальных дарований. Кора височной области у Корделии была, без сомнения, хорошо развита, но чего-то не хватало в префронтальной коре, отвечающей за способность к суждению. С другой стороны, Джордж, обладая превосходно развитыми участками мозга, отвечающими за эмоциональное восприятие музыки, страдал от дефицита в других «музыкальных» участках коры.
Случай Джорджа и Корделии определяет тему, которую я собираюсь исследовать на примере многих историй болезни, приведенных дальше в этой книге: то, что мы называем музыкальностью, включает в себя большой диапазон навыков и способностей к восприятию, от элементарного восприятия высоты звука и темпа до высочайших аспектов понимания и эмоционального ощущения музыки. В принципе, все эти навыки и способности не зависят друг от друга. Каждый из нас силен в одних аспектах музыкальности и слаб в других, то есть в каждом из нас есть что-то и от Корделии, и от Джорджа.