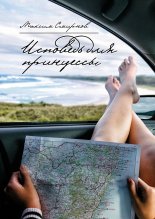Как дети добиваются успеха Таф Пол

Надин Берк-Харрис постоянно замечала у своих пациентов последствия этого «пожарного эффекта».
Однажды в клинике Bayview она познакомила меня с одним из таких случаев – с девочкой-подростком по имени Мониша Салливан, которая впервые пришла в клинику, когда ей было 16 лет. Она недавно стала матерью. Детство Мониши было настолько стрессовым, насколько можно себе представить: всего через несколько дней после рождения ее бросила мать, которая активно злоупотребляла крэком и другими наркотиками.
В детстве Мониша жила со своим отцом и старшим братом в районе Хантерс-Пойнт, печально известном активностью уличных банд, пока и ее отец тоже не стал жертвой наркотической зависимости.
Когда Монише было 10 лет, ее и брата изъяли из семьи сотрудники местного бюро по защите детей; их разлучили и передали под опеку разных приемных семей. С тех самых пор ее рикошетом носило по всей системе, она проводила когда неделю, когда месяц или год в приемной семье или коллективе, пока не накапливалось неизбежное напряжение по поводу питания, домашних обязанностей или телевизора, и тогда она убегала, или ее опекуны опускали руки. А потом приходила очередь других опекунов. За предшествующие шесть лет она сменила девять разных семей.
Когда я познакомился с Монишей осенью 2010 года, ей только-только исполнилось 18 лет, и тремя днями раньше она вышла из-под опеки системы, в которой провела почти всю свою жизнь. Самым мучительным днем в ее жизни, рассказала она мне, был тот, когда ее впервые отдали под опеку чужим людям. Без всякого предупреждения ее вызвали из класса прямо во время уроков, причем сделал это социальный работник, которого она никогда в жизни не видела, и отвез ее в незнакомый новый дом. Прошло несколько месяцев, прежде чем она смогла хоть как-то связаться с отцом.
– Я помню этот первый день так ярко, как будто все случилось вчера, – рассказывала она мне. – Помню каждую деталь. Мне он до сих пор снится. Эта травма останется со мной навсегда.
Пока мы сидели в комнате терапии в клинике, я попросил Монишу описать, как она ощущает эту травму. Она необыкновенно красноречива, когда речь идет о ее эмоциональном состоянии – если ею овладевает печаль или депрессия, она пишет стихи – и перечисляет свои симптомы с необыкновенной точностью.
Девушка страдает от бессонницы и ночных кошмаров, а временами в теле появляются необъяснимые боли. Иногда начинается неконтролируемое дрожание рук. Недавно у нее начали активно выпадать волосы, и ей пришлось носить головную повязку, чтобы прикрыть облысевшие места. А самое главное, ее терзает тревожность: тревога по поводу школьных занятий, тревога за свою младшую дочь, боязнь землетрясений.
– Я думаю о самых невероятных вещах, – говорила она. – Я думаю о конце света. Если надо мной пролетает самолет, мне кажется, что он вот-вот сбросит бомбу. Я думаю о том, что мой отец умирает. Не знаю, что я буду делать, если потеряю его!
Она тревожится даже по поводу собственной тревожности.
– Когда я пугаюсь, меня начинает трясти, – говорит Мониша. – У меня начинает сильно биться сердце. Я покрываюсь потом. Знаете, есть такое выражение «испугаться до смерти»? Я начинаю бояться, что в один прекрасный день со мной именно это и произойдет.
Сравнение с пожарной станцией поможет нам понять, что происходит с Монишей Салливан. Когда она была ребенком, ее тревожный колокол звонил, не переставая, на полной громкости: мама и мачеха дерутся! я никогда больше не увижу папу! дома нет никого, чтобы приготовить мне ужин! моя приемная семья не собирается обо мне заботиться!
Стоило только сработать пожарной сигнализации, и система реагирования на стрессы высылала все машины разом с ревущими сиренами. «Пожарники» разбивали в ее доме стекла и заливали пеной ковры, и к тому времени, как Монише исполнилось 18 лет, самой большой ее проблемой были не угрозы, с которыми она сталкивалась в окружающем мире, а вред, который нанесли сами «пожарные».
Когда Макъюэн впервые ввел в 1990-х годах понятие аллостатической нагрузки, он не думал о ней как о действительном числовом индексе. Но недавно он сам и другие исследователи, возглавляемые Терезой Симэн, геронтологом из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, попытались «операционализировать» аллостатическую нагрузку, чтобы выразить вред, нанесенный попытками справиться со стрессом в течение всей жизни, одним числом для каждого отдельного индивидуума.
Врачи сегодня постоянно пользуются похожими индикаторами биологического риска, наиболее очевидными из которых являются замеры кровяного давления. Эти числа обладают очевидной полезностью как предсказатели определенных медицинских состояний (именно поэтому врач снимает показания вашего кровяного давления всякий раз, как вы к нему приходите, вне зависимости от того, по поводу какого заболевания вы к нему обращаетесь).
Проблема же состоит в том, что сами по себе данные кровяного давления не являются точным мерилом будущих рисков для здоровья. Более точный индекс аллостатической нагрузки должен включать не только данные по кровяному давлению и сердцебиению, но и другие стрессочувствительные измерения: уровень холестерина и высокочувствительного С-реактивного протеина (это ведущий маркер сердечно-сосудистых заболеваний); уровень кортизола и других стрессовых гормонов в моче, содержание глюкозы, инсулина и липидов в кровотоке.
Симэн и Макъюэн доказали, что комплексный индекс, включающий все эти измерения, был бы гораздо более надежным индикатором будущих медицинских рисков, чем показатели кровяного давления или любые иные однофакторные показатели, которые применяются сегодня.
Детям, которые растут в стрессовой обстановке, как правило, труднее сконцентрироваться.
Какая увлекательная и захватывающая мысль – и даже слегка пугающая: одно-единственное число, которое может присвоить вам доктор, скажем, когда вам едва-едва исполнилось двадцать лет, будет отражать и тот стресс, который вы испытывали в жизни до этого момента, и медицинские риски, с которыми вам придется столкнуться потом в результате этого стресса!
В некотором отношении это была бы более утонченная версия балла по ACE. Но, в отличие от ACE, который опирается на ваши собственные рассказы о своем детстве, число аллостатической нагрузки отражало бы не что иное, как холодные, конкретные медицинские данные: реальные физические результаты неблагоприятного детства, запечатленные в вашем теле, глубоко под кожей.
6. Управляющие функции
Будучи практикующим врачом, Берк-Харрис поначалу заинтересовалась физиологическими последствиями ранней травмы и неизжитого стресса для своих пациентов: к примеру, трясущимися руками, выпадением волос и необъяснимыми болевыми синдромами Мониши. Но Берк-Харрис быстро осознала, что эти силы оказывают столь же серьезное воздействие и на другие аспекты жизни ее пациентов.
Воспользовавшись модифицированной версией опросника Фелитти – Анда по ACE в общении с более чем 700 пациентами своей клиники, она обнаружила тревожно-мощную корреляцию между баллами по ACE и проблемами в школе. Среди ее пациентов с ACE, равным нулю, только у 3 процентов были выявлены поведенческие или учебные проблемы. А среди пациентов с ACE, равным 4 баллам или выше, эта цифра составляла 51 процент.
Физиологи, изучающие стресс, нашли биологическое объяснение и для этого феномена. Стресс ранних лет жизни сильнее всего воздействует на область головного мозга, которая называется префронтальной корой, и эта область имеет решающее значение для саморегулирующей деятельности любого рода как эмоциональной, так и когнитивной.
В результате детям, которые растут в стрессовой обстановке, как правило, труднее сконцентрироваться, труднее сидеть спокойно, труднее оправляться от разочарований, труднее следовать указаниям. И это оказывает непосредственное воздействие на их успеваемость в школе. Когда тебя обуревают неконтролируемые импульсы и отвлекают негативные чувства, довольно трудно выучить алфавит.
И действительно, когда преподаватели детских садов пишут обзоры о своих учениках, они говорят, что самая большая проблема, с которой они сталкиваются, – это не те дети, которые плохо знают буквы или цифры; это те дети, которые не умеют совладать со своим темпераментом или успокоиться после провокации.
Во время одного национального опроса 46 процентов преподавателей детских садов заявили, что по меньшей мере половина детей в их классах имеет проблемы с выполнением указаний. В другом исследовании учителя, участвовавшие в программе «Рывок на старте» (Head Start), сообщали, что более четверти их учеников демонстрируют серьезные отрицательные привычки в поведении, связанные с проблемой самоконтроля, – такие как драки или запугивание других учеников, по крайней мере раз в неделю.
Некоторые воздействия стресса на префронтальную кору лучше всего поддаются категоризации как эмоциональные и психологические: это тревожность и депрессия всех возможных видов.
Я поддерживал контакт с Монишей несколько месяцев после нашей первой встречи и видел у нее проявления множества этих эмоциональных симптомов. Ее одолевали сомнения в себе – по поводу веса, родительских способностей, общих перспектив на будущее. Однажды ночью на нее напал бывший бойфренд, карикатурный персонаж, которого она пригласила к себе, несмотря на все свои сомнения, чтобы он развеял ее одиночество. И она постоянно и безуспешно пыталась справиться с паводком эмоций, которые, казалось, постоянно грозили утопить ее.
– Иногда я просто не в состоянии справиться с таким стрессом, – сказала Мониша мне однажды. – Не представляю, как с ним справляются другие люди.
Для Мониши главным результатом стресса, перегружающего ее префронтальную кору, были трудности, которые она испытывала, стараясь регулировать свои эмоции. Однако для многих других молодых людей главным эффектом стресса является то, что он вредит их способности управлять собственными мыслями.
Это связано с особым набором когнитивных навыков, которые базируются в префронтальной коре и известны как управляющие функции. В школах богатых районов сочетание «управляющие функции» стало новым образовательным мемом, их модно оценивать и диагностировать. Но для ученых, которые занимаются детьми, растущими в бедности, управляющие функции являются новой и привлекательной сферой по совершенно иной причине: их совершенствование кажется потенциально многообещающим инструментом для сужения той пропасти, которая разделяет бедных детей и детей среднего класса, когда речь идет об их достижениях.
Управляющие функции в том виде, как мы их сейчас понимаем, – это набор ментальных способностей высшего порядка. Джек Шонкофф, глава Центра развития ребенка Гарвардского университета, сравнил их с командой авиадиспетчеров, надзирающих за функциями мозга. В более широком понимании этот термин относится к способности справляться с ошеломляющими и непредсказуемыми ситуациями и информацией.
Управляющие функции – это контроль над когнитивными и эмоциональными импульсами, связанный со способностью справляться с непредсказуемыми ситуациями и информацией.
Один из знаменитых тестов на способности управляющих функций называется тестом Струпа. Вы видите перед собой слово «красный», написанное зелеными буквами, и экспериментатор спрашивает, какого цвета это слово. Требуется некоторое усилие, чтобы удержаться и не сказать «красное», и тот навык, на который вы опираетесь, сопротивляясь этому побуждению, и является управляющей функцией.
Особой ценностью эти навыки обладают при обучении. Мы постоянно требуем от детей умения справляться с противоречивой информацией. Сочетание звуков «ца» пишется как «ца» – за исключением тех случаев, когда оно пишется как «-тся» или «-ться». «Лук» и «луг» произносятся одинаково, но имеют разное значение. Цифра ноль в чистом виде обозначает одно количество, а когда перед ней стоит единица – совершенно другое.
Чтобы не терять нить этих разнообразных трюков, хитростей и исключений, требуется определенная доля контроля над когнитивными импульсами, и это навык, который неврологически связан с контролем над эмоциональными импульсами – над вашей способностью удержаться и не стукнуть ребенка, который только что схватил вашу любимую машинку.
И в тесте Струпа, и в инциденте с игрушечной машинкой вы используете префронтальную кору, чтобы преодолеть свой немедленный и инстинктивный набор реакций. И как бы вы ни использовали свой самоконтроль – в области эмоциональной или когнитивной, – эта способность имеет решающее значение в том, чтобы продержаться до конца учебного дня – в подготовительной группе детского сада, в старших классах или в университете.
7. Игра «Саймон»
Уже некоторое время известно, что способность к управляющим функциям стойко коррелирует с семейным доходом, но вплоть до недавнего времени не знали, почему это так.
В 2009 году два исследователя из Корнелльского университета, Гэри Эванс и Мишель Шемберг, разработали эксперимент, который впервые дал нам ясное понимание того, как бедность влияет на управляющие функции детей.
Конкретным навыком управляющих функций, который исследовался в этом эксперименте, была оперативная память, то есть способность одновременно удерживать в голове целый ворох фактов. Оперативная память сильно отличается от долговременной – умение помнить имя своей учительницы времен первого класса здесь ни при чем; речь о том, чтобы вспомнить все, что вы предполагали купить в супермаркете.
Инструмент, который Эванс и Шемберг избрали для измерения оперативной памяти, оказался довольно неожиданным – это была детская электронная игра «Саймон».
Если ваше детство пришлось на 1970-е годы, как у меня, может быть, вы помните эту игру: она представляет собой похожий на НЛО диск размером примерно с чайное блюдце, но потолще, с четырьмя панельками, которые загораются огоньками и издают звуки. Панельки загораются в разных последовательностях, создавая определенные рисунки, и вы должны запомнить порядок возникающих звуков и вспышек.
Эванс и Шемберг использовали игру «Саймон», чтобы протестировать оперативную память 195 семнадцатилетних участников эксперимента из сельской местности штата Нью-Йорк. Все они входили в группу, которую Эванс наблюдал с самого рождения. Примерно половина детей росла в семьях, живущих за чертой бедности, а другая половина – в семьях рабочего и среднего классов.
Первым открытием Эванса и Шемберг было то, что количество времени, которое дети провели в бедности, пока росли, могло предсказать, насколько хорошо они в среднем справятся с тестом «Саймон». Иными словами, дети, которые 10 лет росли в обстановке лишений, справлялись с ним хуже, чем дети, которых нужда касалась только 5 лет. Само по себе это было не слишком удивительно; исследователи и раньше обнаруживали корреляции между бедностью и оперативной памятью.
Детям из бедных семей вредит не нищета, им вредит стресс, сопровождающий бедность.
Но потом Эванс и Шемберг сделали нечто новое: они ввели биологические измерения стресса. Когда детям, участвовавшим в исследовании, исполнялось 9 лет, и еще раз – когда им было по 13 лет, исследователи под руководством Эванса снимали определенное количество физиологических показаний с каждого ребенка, в том числе показатели кровяного давления, индекс массы тела и уровни определенных стрессовых гормонов, включая кортизол.
Эванс и Шемберг объединили эти биологические данные, чтобы создать собственное измерение аллостатической нагрузки: физические результаты перенапряжения системы, реагирующей на стресс.
Когда после этого, собрав все данные, они начали сравнивать баллы каждого ребенка по «Саймону», «историю бедности» и показатели аллостатической нагрузки, обнаружилось, что все три измерения между собою коррелируют – большее время, проведенное в бедности, означало более высокие баллы аллостатической нагрузки и меньшие баллы по «Саймону». Но потом их ждал сюрприз: когда они воспользовались статистическими методами, чтобы «вынести за скобки» воздействие аллостатической нагрузки, «эффект бедности» полностью исчез. Вовсе не сама нищета вредила управляющим функциям бедных детей. Им вредил стресс, сопровождавший бедность.
Это было, по крайней мере в потенциале, большим шагом вперед в понимании бедности.
Представьте себе двух мальчиков, которые сидят вместе и впервые в жизни играют в «Саймона». Один из них – из семьи среднего класса, а другой – из семьи с низкими доходами. Ребенок из семьи среднего класса гораздо лучше справляется с запоминанием паттернов. Нас так и подмывает сделать вывод, что причина заключается в генетике, – может быть, дети из более богатых семей обладают неким «геном Саймона». А может быть, это как-то связано с материальными преимуществами семьи среднего класса, в которой растет ребенок, – там больше книг, больше игр, больше электронных игрушек. А может быть, в его школе лучше умеют учить навыкам оперативной памяти. А может быть, дело в какой-то комбинации всех трех факторов.
Но Эванс и Шемберг обнаружили, что гораздо более значимой проблемой, с которой сталкивается мальчик из семьи с низким доходом, является повышенная аллостатическая нагрузка. И если на его место придет другой мальчик из семьи с низким доходом, но с более низким уровнем аллостатической нагрузки – если по какой бы то ни было причине его детство было менее стрессовым, несмотря на нищету семьи – он, вероятнее всего, так же хорошо справится с тестом «Саймон», как и мальчик из богатой семьи.
Управляющие функции формируются гораздо легче, чем другие когнитивные навыки, и в течение всего детства и отрочества – вплоть до начала взрослой жизни. Следовательно, если изменить обстановку, в которой растет ребенок, его шансы на успешную жизнь существенно возрастают.
Почему же этот тест «Саймон» имеет такое значение? Потому что в старших классах школ, в колледже и на рабочем месте жизнь переполнена задачами, для успешного выполнения которых жизненно необходима оперативная память.
Причина, по которой исследователи, изучающие пропасть между богатыми и бедными, так носятся с управляющими функциями, заключается в том, что по этим навыкам можно не только с большой точностью предсказать степень успешности человека в жизни; они еще и легко формируются, гораздо легче, чем другие когнитивные навыки.
Префронтальная кора с гораздо большей готовностью реагирует на педагогическое вмешательство, чем другие части мозга, и остается пластичной все время отрочества и начала взрослой жизни. Следовательно, если бы мы смогли изменить обстановку, в которой растет ребенок – так чтобы это привело к лучшему действию управляющих функций, – мы могли бы чрезвычайно эффективно повысить его шансы на успешную жизнь.
8. Особенности подросткового мозга
Именно в раннем детстве наш мозг и тело чувствительнее всего к последствиям стресса и травмы. Но к самым серьезным и долгосрочным проблемам вред, нанесенный стрессом, приводит в подростковом возрасте.
Отчасти это неотъемлемая черта взросления. Когда вы с трудом контролируете свои импульсы в начальной школе, последствия этого сравнительно ограниченны: вас могут отослать в кабинет директора; вы можете поссориться с приятелем. Но тот род импульсивных решений, которые подростки склонны принимать в отрочестве, – садиться пьяными за руль, заниматься незащищенным сексом, бросать школу, совершать мелкие кражи, – часто имеют последствия, воздействующие на всю жизнь.
Более того, исследователи обнаружили, что в мозгу подростка имеет место совершенно уникальный случай разбалансирования, которое делает этот мозг особенно падким на скверные и импульсивные решения.
Лоуренс Стейнберг, психолог из университета Темпл, проанализировал две отдельные системы, которые развиваются в детстве и раннем отрочестве и совместно оказывают глубинное воздействие на жизни подростков.
Проблема состоит в том, что эти две системы не гармонируют между собой. Первая из них, называемая системой реакций на вознаграждение, заставляет человека больше стремиться к чувственным удовольствиям, делает его более эмоционально реактивным, внимательным к социальной информации (если вы когда-нибудь были подростком, эта картина покажется вам знакомой!).
Вторая, именуемая системой когнитивного контроля, позволяет человеку регулировать все эти побуждения. Причина, по которой годы отрочества всегда были таким опасным временем, говорит Стейнберг, заключается в том, что система реакций на вознаграждение достигает пика своего развития в раннем отрочестве, в то время как система когнитивного контроля достигнет зрелости не раньше, чем человеку исполнится 20 лет.
Так что в течение нескольких безумных лет мы заняты лихорадочной переработкой стимулов – при отсутствии соответствующей контрольной системы, которая могла бы держать в узде наше поведение. А если соединить это со стандартной проблемой «слетевшей с катушек» подростковой нейрохимии и перегруженной осью ГГН, то получится весьма взрывоопасная смесь.
Именно с комбинацией этих действующих сил во многих своих учениках не могла справиться Элизабет Дозье, когда руководила средней школой Fenger. После того как в октябре 2009 года в школе едва не вспыхнул бунт, она решила, что просто обязана исключить из школы некоторых учащихся навсегда. В верхней строке списка кандидатов на исключение был шестнадцатилетний парень по имени Томас Гастон, известный всем под кличкой Маш.
С точки зрения Дозье, Маш был заводилой, бандитским лидером довольно высокого ранга, который мог устроить массовые беспорядки в Fenger, бросив один-единственный взгляд на одного из своих «лейтенантов».
– Он представлял собой настоящую ходячую преисподнюю, – рассказывала мне Дозье. – Стоило ему войти в здание, и оно просто взрывалось. Он мог поставить всю школу на уши из-за какой-нибудь чепухи.
Я познакомился с Машем, поскольку он наряду с двумя десятками других учеников Fenger участвовал в интенсивной педагогической программе, оплаченной общественными школами Чикаго и руководимой некоммерческой организацией под названием «Молодежные адвокатские программы» (Youth Advocate Programs – YAP).
С осени 2010 года по весну 2011-го я провел много времени в Роузленде, общаясь с самыми разными адвокатами YAP и учащимися школ, в числе которых был и Маш. Роль моего главного «гида» по этой программе играл Стив Гейтс, директор программы в Чикаго, невозмутимый, крупный мужчина в возрасте под сорок, с короткими, туго заплетенными дредами, редкой бородкой и водянистыми, бледно-голубыми глазами.
Как и Маш, Гейтс жил в Роузленде, всего в нескольких кварталах от Fenger. Он вырос, в сущности, в тех же обстоятельствах и совершил немало таких же ошибок, какие Маш совершал теперь, двадцатью годами позже: водился с уличной бандой, носил с собой оружие, рисковал своей жизнью и будущим каждый день.
Бурное прошлое Гейтса обеспечило ему уникальное понимание стрессовой ситуации, в которую попал Маш, а также острое ощущение безотлагательности проблемы, когда он пытался направить Маша и других роузлендских тинейджеров, занятых в программе, к лучшему будущему.
YAP пришли в Чикаго по приглашению Рона Губермана, который сменил Эрни Дункана на посту генерального директора чикагской школьной системы в 2009 году. Назначая Губермана на этот пост, мэр Дейли был обеспокоен растущим уровнем вооруженного насилия среди молодежи города, и он дал Губерману необычное для директора школ задание: не дать учащимся убивать друг друга.
Губерман истово веровал в статистические данные; его первым местом после университета была работа в полицейском департаменте Чикаго, где его обучали принципам CompStat – высокотехнологичной системы анализа данных, введение которой, по общему мнению, привело к постепенному снижению преступности в Нью-Йорке в 1990-е годы.
Первое, что он сделал на посту генерального директора школ – нанял команду консультантов для выполнения похожего на CompStat анализа данных по семейному насилию и гибели от огнестрельного оружия среди учащихся Чикаго. Консультанты создали статистическую модель, которая, по их словам, давала возможность выявить тех учащихся в городе, которые в ближайшие два года имели наибольшие шансы стать жертвами вооруженного насилия.
Они обнаружили в Чикаго около 1200 учеников старших школ, которые, в соответствии с их моделью, имели один шанс из 13 быть застреленными до наступления лета 2011 года; внутри этой группы из 1200 учащихся были выявлены еще 200 в «группе ультрариска», шансы каждого из которых стать жертвой огнестрельного ранения возрастали до одного к пяти в течение следующих двух лет.
Именно этих учащихся передали на попечение YAP и назначили им юристов, которые по меньшей мере 12 часов в неделю занимались с ними и оказывали поддержку.
Маш был в этом списке, и поэтому осенью 2009 года Стив Гейтс отыскал его, чтобы вовлечь в программу YAP и назначить ему юриста. Однако в то же время Элизабет Дозье пыталась вышибить Маша из Fenger. Вскоре после того как он подписал договор с YAP, ей удалось временно исключить его из своей школы, изгнав на целый семестр в Vivian E. Summers Alternative High School, маленькое, унылое, похожее на тюрьму учебное заведение в восьми кварталах от Fenger.
Хотя Машу не нравилось в новой школе, в ту зиму и весну он, казалось, просто расцвел под бдительным оком наставников из YAP. Первый юрист Маша дал ему работу в местной автокузовной мастерской, где парень мог развивать художественную сторону своей натуры, осуществляя покраску автомобилей, и некоторое время казалось, что Маш покончил со своим бурным прошлым и начинает двигаться вперед, к более продуктивной жизни.
Но однажды поздним вечером в июне 2010 года юрист Маша подвез его домой и думал, что тот останется ночевать. Но Маш решил ускользнуть обратно на улицу. Спустя несколько часов он уже оказался в тюрьме графства Кук вместе со своим приятелем Буки, и их обвиняли в угоне с отягчающими обстоятельствами – это означало, что они угнали машину, угрожая водителю пистолетом.
И Машу, и Буки грозил потенциальный приговор к 21 году заключения, но поверенный YAP каким-то образом убедил судью приговорить каждого к 8 месяцам полевого лагеря. Это исправительное учреждение оказалось нелегким испытанием для Маша – полувоенный режим, отжимания и десятимильные пробежки на рассвете, но он развил в себе некую внутреннюю дисциплину, которой ему явно не хватало в Fenger, и успешно продержался до конца срока.
Когда я начал общаться с юристами YAP и их подопечными, Маш все еще был за решеткой, и задолго до того, как я встретил его самого, много о нем наслушался – от Гейтса, от Дозье, от его приятелей в YAP, даже от его мамы, к которой мы с Гейтсом заглянули однажды вечером, пока Маш был в лагере.
Дозье говорила о Маше с чувством, близким к благоговению, как будто он был неким преступным Свенгали[4]. Гейтс поведал мне, что даже взрослые мужчины боялись его до смерти. Его мама, разумеется, была не столь впечатлена его бандитской репутацией; зато получала огромное удовольствие, рассказывая мне, как она в детстве покупала ему нижнее белье с Артуром, мультяшным персонажем, чтобы отвадить своего сына от постоянной привычки стягивать брюки.
И все же, когда подошло время нашей встречи, я немного нервничал; ощущение было такое, будто мне предстоит познакомиться со знаменитостью. Однако при личной встрече Маш показался мне похожим на любого среднестатистического подростка-южанина, только помельче – не более 152 см ростом, худенький даже после 8 месяцев отжиманий, – и у него была почти чаплинская походочка на негнущихся ногах, с широко развернутыми носками. На шее он носил нитку четок, на лоб была низко надвинута бейсболка клуба «Янки», а большой не по росту пиджак мог с легкостью вместить двух или даже трех таких пацанов.
Мы отправились ужинать на Вестерн-авеню, ели яичницу, пили кофе и беседовали. Как и все его друзья, Маш рос в семье с матерью-одиночкой, женщиной, которую Гейтс описал мне как «прекрасного человека, но не слишком одаренного воспитательными навыками». В биографиях его родственников было немало насилия и проблем с законом, и Маш отбарабанил мне длинный послужной список своих братьев, сестер, кузенов, кузин и других родственников, которые уже погибли или сидели в тюрьме. Когда ему было 9 лет, сказал мне Маш, его дядя был застрелен в его собственном доме.
– Вот я страху-то натерпелся! – говорил он. – Это случилось прямо у меня на глазах.
Пока мы разговаривали, я обнаружил, что молча подсчитываю его индекс ACE, и каждая детская травма поднимала планку на один пункт выше.
Личная история Маша отличалась от истории Мониши Салливан только в деталях: в детстве он чаще бывал свидетелем насилия, чем она, зато семейные проблемы, с которыми сталкивалась девочка, были более глубинными – брошенная матерью, разлученная с отцом, проведшая все детство и отрочество в приемных семьях. Однако детство обоих было полно безжалостных стрессов, и каждый из них был травмирован этими стрессами глубоко и надолго.
Хотя ни один из них не имел возможности (или желания) поучаствовать в тех измерениях аллостатической нагрузки, которые проводили Макъюэн, Эванс, Шемберг и другие исследователи этой темы, мы вполне можем себе представить – если бы они это сделали, то их данные оказались бы из ряда вон выходящими.
И все же, несмотря на то что вред, причиненный их телам и мозгу детскими травмами, был вполне сравнимым, в том, как это проявлялось в их жизни, была огромная разница.
Мониша приняла этот стресс и перевела его внутрь, где он проявился как страх, тревожность, печаль, сомнение в себе и саморазрушительные наклонности. А Маш, наоборот, обратил его вовне – в драки, вызывающее поведение в классе и со временем целый ряд нарушений закона.
Маш рано начал влипать в неприятности: его выгнали из начальной школы за драку с директором. Но его поведение существенно ухудшилось, когда ему исполнилось 14 лет, и его брат, который пошел в армию, чтобы избежать насилия, царившего в Саутсайде, был застрелен в ходе вооруженного ограбления недалеко от своей базы в Колорадо-Спрингс.
– Это и сорвало мне крышу. После этого мне на многое стало наплевать, – рассказывал мне Маш.
По словам подростка, единственный способ, которым он мог избавиться от боли, вызванной смертью брата, были бандитские выходки.
– Я слишком многое держал в себе, – говорил он. – Я был похож на ходячую часовую бомбу. И, чтобы прочистить мозги, просто шатался по кварталу, занимался разными делишками, играл с оружием и все такое.
Ученые из Северо-Западного университета недавно провели психологические исследования более чем 1000 юных подопечных Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей графства Кук в Чикаго – исправительного заведения, в котором большинство учащихся YAP побывали хотя бы по разу.
Исследователи выяснили, что 84 процента детей имеют на своем счету серьезные детские травмы – две или более, а у большинства таких травм было шесть или больше. Три четверти собственными глазами видели, как кого-то убили или серьезно ранили. Более 40 процентов девушек подвергались сексуальному насилию в детском возрасте. Более половины мальчиков заявили, что по меньшей мере один раз в своей жизни побывали в ситуациях настолько опасных, что думали, что они сами или их близкие вот-вот погибнут или будут серьезно ранены.
И эти неоднократные травмы оказывали разрушительное воздействие на умственное здоровье юных арестантов: у двух третей юношей были диагностированы психические расстройства. В учебе они сильно отставали от большинства: их средние результаты по стандартизированному словарному тесту не превышали одной пятой от возможного балла, что означало, что они не дотягивали до результатов 95 процентов их сверстников в среднем по США.
Беседуя с Машем и другими юными жителями Роузленда, я часто обнаруживал, что раздумываю об исследованиях в области неврологии и стрессовой психологии, которые настолько изменили взгляды Надин Берк-Харрис. Как-то раз днем мы с ней объезжали жилые кварталы Бэйвью-Хантерс-Пойнт, периодически ловя на себе взгляды молодых людей, кучковавшихся на углах улиц, и Берк-Харрис говорила так, словно воочию видела приливы и отливы кортизола, окситоцина и норадреналина в их телах и мозге:
– Когда смотришь на этих детей и их поведение, все это может казаться таким непонятным, – говорила она. – Но на каком-то уровне то, что мы видим – всего лишь сложная последовательность химических реакций. Выработка протеина или активация нейрона. А что в этом самое потрясающее, так это то, что такие вещи поддаются лечению – как только опускаешься на уровень молекул, осознаешь, где именно кроется исцеление. Именно там и обнаруживается решение.
Исследователи выяснили, что 84 процента детей имеют на своем счету серьезные детские травмы.
Берк-Харрис поведала мне историю об одном из своих пациентов, о подростке, который, как и многие другие, жил в неблагополучной семье, обеспечившей ему необыкновенно высокий уровень ACE. Берк-Харрис руководила своей клиникой достаточно долго, чтобы наблюдать этого паренька в процессе роста.
Когда он впервые пришел в клинику, ему было 10 лет – несчастный ребенок в несчастной семье, совсем еще маленький мальчик, который получил некоторое количество ударов от жизни, но у которого, казалось, еще сохранялись шансы избежать мрачной судьбы. Но теперь этому мальчику было 14, он превратился в гневливого черного подростка, приближающегося к 180 см роста, который постоянно околачивался на улицах, ввязываясь в неприятности – будущий хулиган, если не преступник.
Реальность такова, что большинство из нас склонны ощущать симпатию и понимание только по отношению к десятилетнему – ведь он в конце концов еще мальчик и явная жертва обстоятельств. Но по отношению к четырнадцатилетнему – не говоря уже о восемнадцатилетнем, которым он скоро станет, – наши чувства обычно оказываются более мрачными: это гнев и страх, как минимум – безнадежность.
Преимущество Берк-Харрис заключалось в том, что она была врачом и наблюдала парня в течение долгого времени. Она понимала: тот десятилетний и этот четырнадцатилетний были одним и тем же ребенком, реагирующим на одни и те же средовые воздействия, сбитым с толку одними и теми же мощными нейрохимическими процессами.
Общаясь с ребятами из YAP, я часто обнаруживал, что меня терзает вопрос вины и обвинения: в какой момент невинный мальчик становится обвиняемым мужчиной?
У меня не вызывало возражений представление о том, что угон машины с отягчающими обстоятельствами – это воистину дурной поступок, и люди, которые на него идут, пусть даже это чувствительные, вдумчивые парни, подобные Машу, должны нести ответственность. Но я также понимал точку зрения Стива Гейтса: эти молодые люди пойманы в ловушку ужасной системой, которая воздействовала на их решения такими способами, которым они практически не могли противостоять.
Гейтс определял эту систему в основном в социальных и экономических терминах; Берк-Харрис рассматривала ее с нейрохимической стороны. Но чем больше времени я проводил в Роузленде, тем больше мне казалось, что эти две точки зрения сливаются в одну.
9. «Вылизывание и уход»
Бльшая часть новой информации о детстве и бедности, раскрытой психологами и неврологами, может обескуражить любого, кто пытается улучшить перспективы детей из неблагополучных семей. Мы теперь знаем, что детские стрессы могут буквально запечатлеться в организме ребенка и всю оставшуюся жизнь причинять ему вред. Но в этих открытиях есть и кое-какие позитивные новости.
Оказывается, существует очень эффективное противоядие к вредоносным последствиям детского стресса, и находится оно не в руках фармацевтических компаний или деятелей образования, а в распоряжении родителей.
Родители и другие люди, заботящиеся о детях, способны сформировать близкие, поддерживающие отношения со своими детьми, развить в них устойчивость, которая защитит их от многих ужасных последствий суровой обстановки раннего детства. Эта идея может показаться несколько напыенной и сентиментальной, но корни ее уходят в холодную и беспристрастную науку. Результат хорошего воспитания бывает не только эмоциональный или психологический, говорят неврологи: этот результат – биохимический.
Исследователем, который сделал больше всех, чтобы расширить наше понимание взаимоотношений между воспитанием и стрессом, является невролог из университета Макгилла по имени Майкл Мини. Как и многие его коллеги, Мини проводит значительную часть своих исследований на крысах, поскольку у крыс и людей схожая архитектура мозга.
В лаборатории Мини постоянно живут сотни крыс. Они обитают в плексигласовых клетках, и обычно в каждой клетке содержится мама-крыса, которую называют маткой, и небольшой выводок маленьких крысят. Ученые, работающие в лабораториях с крысами, постоянно берут на руки маленьких крысят, чтобы осмотреть их или взвесить.
Однажды, лет 10 назад, исследователи из лаборатории Мини заметили одну любопытную вещь: когда они водворяют крысят обратно в клетку после того, как подержали их в руках, некоторые матки спешат к своим детенышам и по несколько минут вылизывают и обихаживают их. А другие попросту игнорируют детенышей.
Когда исследователи изучали крысят, они обнаружили, что такая, казалось бы, повседневная мелочь – взятие зверьков в руки – оказывает явный физиологический эффект. Когда лаборант берет крысенка, тот испытывает тревогу, и в его кровь попадает целое море стрессовых гормонов. А когда матка начинает вылизывать и обихаживать детеныша, она противодействует этой тревожности и снижает содержание гормонов стресса в его крови.
Детские стрессы могут буквально запечатлеться в организме ребенка и всю оставшуюся жизнь причинять ему вред. Но этому есть и противоядие.
Мини и его подчиненных это заинтриговало, и они пожелали узнать побольше о том, как вылизывание и уход влияют на крысят. Поэтому они продолжили наблюдение за крысами, проводя с ними дни и ночи, практически прижавшись лицом к плексигласовым стенкам, и после многих недель внимательного наблюдения сделали еще одно, дополнительное открытие: у каждой крысы-матки есть свой собственный рисунок вылизывания и ухода, даже если их детенышей вообще не берут на руки.
Команда Мини предприняла новый эксперимент с новым набором маток, пытаясь перевести эти паттерны в числовое значение. На этот раз они не брали крысят на руки. Они только вели пристальное наблюдение за каждой клеткой, по одному часу подряд, восемь раз в день, в течение первых десяти дней жизни крысят.
Исследователи подсчитывали каждый случай, когда мать вылизывала и обихаживала своих детей. И через десять дней они разделили маток на две категории: те, которые часто и помногу вылизывали и обихаживали своих детенышей (им был присвоен высокий индекс ВУ – «вылизывания и ухода»), и те, которые занимались этим изредка и небрежно (им был присвоен низкий индекс ВУ).
Исследователи решили узнать, каковы долгосрочные результаты таких вариаций родительского поведения. Поэтому когда крысятам было 22 дня от роду, их отняли от маток и разместили в клетках с ровесниками того же пола на весь остаток их «отрочества». Когда крысы стали полностью взрослыми (примерно в возрасте 100 дней), команда Мини провела с ними серию тестов, сравнивая отпрысков маток с высоким ВУ с теми, кто в нежном возрасте недополучил вылизывания и ухода.
Главный способ оценки, который использовали ученые, называется экспериментом «открытого поля»; это обычная процедура для изучения поведения животных.
Крысу помещают в большую, округлую, открытую сверху коробку на пять минут и позволяют исследовать ее по собственному разумению. Нервные крысы предпочитают держаться поближе к стенкам, вновь и вновь обегая клетку по периметру; более храбрые зверьки осмеливаются оторваться от стен и исследовать все поле.
Во втором тесте, целью которого было измерение пугливости, голодных крыс помещали на 10 минут в незнакомую клетку и предлагали им пищу. Крыса, склонная к тревожности, как нервная гостья на роскошном званом обеде, обычно тратит больше времени на то, чтобы набраться храбрости и попробовать еду, и съедает меньше, чем более спокойные, более уверенные в себе животные.
В обоих тестах различия между двумя группами были разительными. Крысы, которые в детстве недополучали ВУ, в среднем отваживаясь исследовать внутреннюю часть открытого поля не более пяти секунд из отведенных пяти минут; те же крысы, которых в детстве часто и помногу вылизывали и обихаживали, в среднем проводили во внутренней части открытого поля около 35 секунд – то есть в семь раз дольше.
В десятиминутном тесте с пищей крысы с высоким ВУ приступали к еде в среднем спустя всего четыре минуты и ели в общей сложности по две минуты. Крысам с низким ВУ в среднем требовалось более девяти минут, чтобы начать есть, а приступив к еде, они уделяли ей всего несколько секунд.
Исследователи проводили один эксперимент за другим, и в каждом из них крысы с высоким ВУ преуспевали. Они лучше проходили лабиринты. Они были более общительными. Они были более любознательными. Они были менее агрессивными. Они обладали большим самоконтролем. Они были здоровее. Они жили дольше.
Мини и его коллеги были потрясены! То, что казалось всего лишь крохотным различием в материнском стиле воспитания, настолько крохотным, что за многие десятилетия ни один исследователь этого не заметил, порождало огромные поведенческие различия у взрослых крыс спустя много месяцев после того, как имело место вылизывание и уход.
Небольшие различия в материнском стиле воспитания порождают огромные поведенческие различия у детей.
Когда Мини и его команда исследовали головной мозг взрослых крыс, они обнаружили существенные различия в системах стрессовых реакций у крыс с высоким и низким ВУ, в том числе и огромную разницу в размерах, форме и сложности тех частей головного мозга, которые регулируют стресс.
Мини заинтересовался, не была ли частота вылизывания и ухода со стороны маток просто выражением какого-то генетического качества, которое передавалось по наследству, от матери к потомству. Может быть, нервные матки производили на свет нервное потомство, а также, по совпадению, проявляли меньшую склонность к вылизыванию и уходу.
Чтобы проверить эту гипотезу, Мини и его команда провели ряд экспериментов с перекрестным усыновлением, в ходе которых забирали крысят сразу после рождения у матки с высоким ВУ и помещали их в клетку с потомством матки с низким ВУ, и наоборот, во всех возможных комбинациях.
Однако какой бы вариант они ни выбирали, как бы ни проводили свой эксперимент, обнаруживалось одно и то же явление: имели значение не привычки биологической матери, а привычки воспитывающей матери. Если крысенок получал положительный опыт вылизывания и ухода в младенчестве, то, вырастая, он становился храбрее, любопытнее и приспособленнее, чем крысенок, который такого ухода не получал, независимо от того, насколько заботливой была его биологическая мать.
10. Привязанность
Мини и другие неврологи обнаружили интригующее доказательство того, что нечто вроде ВУ-эффекта имеет место и у людей.
Работая в сотрудничестве с генетиками в течение последнего десятилетия, Мини и его исследователи смогли продемонстрировать, что вылизывание и уход со стороны матери воздействуют не только на уровень гормонов и мозговых химических реакций ее потомства. Воздействие переходит на более глубокий уровень, вплоть до контроля над генетическими процессами.
Вылизывание и уход за крысенком в самые ранние дни его жизни влияют на способ, каким определенные химические вещества прикрепляются к определенным последовательностям в ДНК крысенка; этот процесс носит название метилирования. Используя технологию секвенирования генов[5], команда Мини сумела установить, какая именно часть генома крысенка «включается» благодаря вылизыванию и уходу. Он выяснил, что это именно тот сегмент, который контролирует способ, каким крысиный гипоталамус перерабатывает стрессовые гормоны во взрослой жизни.
Уже одно это открытие произвело сенсацию в мире неврологии. Оно показало, что, по крайней мере у крыс, тонкие моменты родительского поведения оказывали предсказуемое и долгосрочное воздействие, связанное с ДНК, которое действительно возможно проследить и наблюдать.
За пределы мира грызунов это открытие вывел следующий эксперимент, который провела команда Мини, используя мозговые ткани жертв самоубийства: некоторые ткани были взяты у самоубийц, которые подвергались дурному обращению и насилию в детстве, а другие – у самоубийц, у которых не было такого опыта.
Исследователи рассекали мозговые ткани и исследовали фрагменты ДНК, связанные со стрессовой реакцией в гиппокампе. Они обнаружили, что самоубийцы, подвергавшиеся в детстве дурному обращению и насилию, испытывали эффекты метилирования как раз в том же сегменте ДНК, что и крысы с высоким индексом ВУ, хотя насилие оказывало противоположный эффект: насилие отключало здоровую функцию стрессовой реакции, которую вылизывание и уход включали у маленьких крысят.
Исследование самоубийц определенно задает интригу, но самого по себе его недостаточно, чтобы представить убедительные доказательства воздействия воспитания на стрессовые функции у человека. Но начинают появляться и более убедительные доказательства – благодаря некоторым инновационным исследованиям, опирающимся на эксперименты Мини.
Клэнси Блэр, исследователь психологии в Нью-Йоркском университете, проводит масштабный эксперимент, в котором отслеживает почти с самого рождения группу более чем в 1200 младенцев.
Когда же матери всеми силами проявляют отзывчивость, воздействие средовых факторов на детей практически исчезает.
Примерно каждый год, начиная с того момента, когда младенцам было всего семь месяцев от роду, Блэр измерял, каким образом уровень кортизола достигал у них пиковых значений в ответ на стрессовые ситуации. Это простой способ оценить, насколько хорошо ребенок справляется со стрессом, своего рода индекс аллостатической нагрузки.
Блэр выяснил, что средовые риски, такие как ссоры в семье, хаос и избыток людей в окружении, действительно оказывают значительное влияние на уровень кортизола у детей – но только тогда, когда их матери ведут себя невнимательно или неотзывчиво. Когда же матери всеми силами проявляют отзывчивость, воздействие этих средовых факторов на детей практически исчезает.
Если мама была особенно внимательна к эмоциональному состоянию ребенка, вся гадость, с которой он сталкивается в жизни, практически не оказывает воздействия на его организм.
Иными словами, «высококачественное» материнство может служить мощным буфером между ребенком и вредом, который неблагополучие может нанести его системе реакций на стресс, и это очень похоже на то, как вылизывание потомства и уход за ним является способом крысиной матки защитить своих крысят.
Гэри Эванс, ученый из Корнельского университета, который тестировал способность детей штата Нью-Йорк играть в «Саймона» на протяжении почти двух десятилетий, провел эксперимент, похожий на опыт Блэра, хотя его испытуемые учились в средней школе.
Он собрал три различных типа данных на каждого ребенка: баллы кумулятивного риска, которые принимают в расчет все – от средового уровня шума в доме ребенка до результатов вопросника по поводу трений в семье; измерения аллостатической нагрузки, которые включали значения кровяного давления, уровень гормонов стресса в моче и индекс массы тела; и оценку материнской отзывчивости, которая объединяла ответы детей на серию вопросов об их матерях с наблюдениями исследователя за матерью и ребенком, которые вместе играли в игры.
Открытия Эванса в основном оправдали ожидания: чем выше уровень средового риска, тем выше уровень аллостатической нагрузки – за исключением тех случаев, когда мать ребенка была особенно отзывчива по отношению к своему чаду. В последнем случае эффект всех этих средовых рисковых факторов, от перенаселенности до нищеты и семейных ссор, практически сводился к нулю. Иными словами, если мама была особенно внимательна к эмоциональному состоянию ребенка, вся гадость, с которой он сталкивается в жизни, практически не оказывает воздействия на его аллостатическую нагрузку.
Рассматривая воздействие воспитания на детей, мы склонны думать, что бросающиеся в глаза эффекты будут возникать либо на одном, либо на другом конце спектра качества воспитания.
Ребенок, который подвергается физическому насилию, будет справляться с жизнью гораздо хуже, думаем мы, чем ребенок, которого просто игнорируют или не поддерживают. А ребенок супермамы, который получает целую кучу дополнительных учебных занятий и личной поддержки, будет справляться куда лучше, чем среднестатистический «хорошо любимый» ребенок. Но исследования Блэра и Эванса позволяют предполагать, что обычное хорошее родительское воспитание – то есть умение поддерживать и быть внимательным во время совместных игр – способно в корне изменить перспективы ребенка на будущее.
Психологи считают, что самая близкая параллель к вылизыванию и уходу у людей описывается в феномене, который называют привязанностью. Теория привязанности была разработана в 1950–1960-е годы британским психоаналитиком по имени Джон Боулби и исследовательницей из университета Торонто по имени Мэри Эйнсворт.
В то время в сфере развития ребенка доминировали взгляды бихевиористов, которые считали, что дети развиваются механически, приспосабливая свое поведение в соответствии с позитивными и негативными подкреплениями, которые они ощущают. Эмоциональная жизнь ребенка не слишком глубока, полагали бихевиористы; столь явная тяга младенца к матери – не что иное, как индикатор его биологических потребностей в питании и физическом комфорте. Преобладающим советом родителям в 1950-х, основанным на бихевиористской теории, было «не баловать малышей, подхватывая их на руки или иным способом утешая в тот момент, когда они плачут».
В серии исследований, проведенных в 1960-х и начале 1970-х годов, Эйнсворт показала, что результат ранней поддержки был совершенно противоположным тому, что ожидали бихевиористы. Малыши, чьи родители реагировали на плач с большей готовностью и участием в первые месяцы их жизни, в возрасте одного года оказывались более независимыми и отважными, чем малыши, чьи родители игнорировали детский плач. В детском саду сохранялась та же тенденция: дети, чьи родители чутко реагировали на их эмоциональные потребности в младенчестве, были склонны больше полагаться на себя. Теплая, чуткая родительская забота, как заключили Эйнсворт и Боулби, создавала «безопасный фундамент», с которого ребенок мог исследовать окружающий мир.
Малыши, чьи родители реагировали на плач с большей готовностью и участием в первые месяцы их жизни, в возрасте одного года оказывались более независимыми и отважными, чем малыши, чьи родители игнорировали детский плач.
Хотя в 1960-х годах психологи имели в своем распоряжении множество разнообразных тестов для оценки когнитивных способностей младенцев и детей, у них не было никакого надежного способа измерить эмоциональные возможности ребенка. Поэтому Эйнсворт изобрела специально предназначенный для решения этой задачи метод – необычную процедуру, получившую название «Незнакомая ситуация».
Эксперимент проводился в университете Джона Хопкинса в Балтиморе, где Эйнсворт занимала должность преподавателя. Мать приносила своего годовалого ребенка в лабораторию, обставленную как игровая комната. Немного поиграв с ребенком, мать выходила из комнаты, иногда оставляя ребенка наедине с незнакомым человеком, иногда – в одиночестве. После небольшой паузы она возвращалась. Эйнсворт и группа исследователей наблюдали за всей процедурой через односторонние зеркала, а затем категоризировали реакции детей.
Большинство детей приветствовали возвращение матери с удовольствием, бежали ей навстречу и воссоединялись с ней, иногда с плачем, иногда с радостью. Этих детей Эйнсворт называла «надежно привязанными», и в ходе последующих экспериментов в течение нескольких десятилетий психологи пришли к убеждению, что они составляют примерно 60 процентов американских детей.
Дети, которые не проявляли стремления к теплому воссоединению – притворялись, что игнорируют мать при возвращении, набрасывались на нее; падали на пол – были названы «тревожно привязанными»[6].
Эйнсворт выяснила, что реакция ребенка на «Незнакомую ситуацию» непосредственно связана с уровнем отзывчивости родителей в первый год жизни ребенка. Родители, которые настраивались на эмоции ребенка и отзывались на его потребности, воспитывали надежно привязанных детей; отстраненное, конфликтное или враждебное воспитание приводило к тревожной привязанности.
Психологическое воздействие привязанности в ранние годы, говорила Эйнсворт, длилось всю жизнь.
11. Привязанность и дальнейшая жизнь
Но убежденность Эйнсворт в том, что ранняя привязанность имеет долгосрочные последствия, в тот момент была только теорией. Никто пока не нашел способа достоверно проверить ее. А потом, в 1972 году, один из ассистентов Эйнсворт, Эверетт Уотерс, окончил университет Джона Хопкинса и начал писать диссертацию по развитию ребенка в университете Миннесоты. Там он познакомился с Аланом Сроуфом, восходящей юной звездой университетского Института развития ребенка.
Сроуфа заинтересовали рассказы Уотерса о работе Эйнсворт, и он быстро воспринял ее идеи и методы, основав лабораторию вместе с Уотерсом, где они могли проводить тест «Незнакомая ситуация» с матерями и детьми. Прошло совсем немного времени – и институт стал лидирующим центром исследования привязанности.
Сроуф объединил свои силы с Байроном Эгеландом, университетским психологом, который получил грант от федерального правительства на проведение долгосрочного исследования матерей и детей из семей с низким доходом.
В местной общественной клинике в Миннеаполисе они набрали добровольцев – 267 беременных женщин. Все они собирались впервые стать матерями, у всех доходы были ниже официального уровня бедности.
80 процентов матерей были белыми, две трети – незамужними, половина – подростками.
Эгеланд и Сроуф начали мониторинг этой группы детей с самого рождения и изучают их до сих пор (сейчас участникам исследования уже больше 30 лет; и Эгеланд, и Сроуф недавно вышли на пенсию).
Доказательства, полученные в ходе исследования, которое Эгеланд и Сроуф вместе с двумя соавторами отразили во всей полноте в своей вышедшей в 2005 году книге «Развитие человека» (The Development of the Person), считаются наиболее полными данными по долгосрочным последствиям ранних отношений между родителями и ребенком.
Классификация привязанности, как выяснили исследователи из Миннесоты, не была дамокловым мечом, подвешенным над человеком навсегда: иногда отношения привязанности менялись в течение детства, и некоторые дети с тревожным типом привязанности буквально расцветали. Но для большинства детей статус привязанности, присвоенный в возрасте одного года, замеренный при помощи теста «Незнакомая ситуация» и других, мог предсказать широкий спектр последствий для дальнейшей жизни.
Дети с привязанностью надежного типа в раннем возрасте становились более социально компетентными в течение всей жизни: они лучше ладили со сверстниками в детском саду, проявляли лучшую способность формировать близкую дружбу в средней школе, были способны лучше лавировать в сложной динамике подростковых социальных связей.
Дети с привязанностью надежного типа в раннем возрасте становились более социально компетентными в течение всей жизни.
Во время обучения в прогимназии две трети детей, участвовавших в миннесотском исследовании и имевших историю надежной привязанности в младенчестве, характеризовались преподавателями как «эффективные» в смысле поведения. Это значило, что они внимательны, заинтересованы и редко нарушают дисциплину в классе.
Среди детей, у которых несколькими годами ранее была отмечена тревожная привязанность, только каждый восьмой попадал в «эффективную» категорию. О подавляющем большинстве этих детей их преподаватели отзывались как об имеющих одну или более поведенческих проблем (при этом учителя не знали, как дети справились с тестом на «Незнакомую ситуацию»).
Дети, чьи родители при оценке их воспитательного стиля были сочтены незаинтересованными или эмоционально недоступными, справлялись с занятиями в гимназии хуже всех, и учителя рекомендовали специальное обучение или оставление на второй год двум третям из них.
Когда преподаватели оценивали учащихся по признакам зависимости, 90 процентов детей с историей тревожной привязанности попали в категорию более зависимой части класса, а среди детей с надежными историями таких было всего 12 процентов. Во время опросов преподавателей и одноклассников дети с тревожной привязанностью чаще получали ярлыки: «злой, антисоциальный, незрелый».
Когда детям, участвовавшим в исследовании, исполнилось по 10 лет, исследователи формировали методом случайного отбора группы в 48 человек и приглашали их на четырехнедельные сессии в летний лагерь, где за детьми пристально наблюдали и незаметно изучали их.
Воспитатели (опять-таки не знавшие о классификации учащихся по типам привязанности в возрасте 1 года) оценивали детей с надежной привязанностью в младенчестве как более уверенных в себе, любознательных и способных справиться со своими недостатками. Дети с тревожной привязанностью проводили меньше времени со сверстниками, больше – с воспитателями, а еще больше времени проводили в одиночестве.
Наконец, исследователи отследили этих детей до самого окончания старшей школы, где обнаружили, что особенности воспитательного стиля в детстве вполне могли предсказать, который из учащихся доведет свое среднее образование до конца, с большей надежностью, чем тесты IQ или результаты экзаменов.
Используя только эти ранние замеры и игнорируя другие характеристики и способности учащихся, исследователи обнаружили, что могли с 77-процентной точностью определить уже тогда, когда детям не было еще и 4 лет, кто из них бросит занятия в старшей школе.
Ребенок, который получает дополнительные дозы заботы в раннем детстве, позднее оказывается более любознательным, самодостаточным, спокойным и способным справляться с препятствиями.
Легко усмотреть параллели между тем, что обнаружили исследователи Майкла Мини в своих опытах с крысятами в Монреале, и тем, что узнали Алан Сроуф и Байрон Эгеланд о детях, которых изучали в Миннесоте.
В обоих случаях матери совершали конкретные и специфические воспитательные поступки в самые первые дни жизни своих детей. И эти поступки – вылизывание и уход у крыс, чуткое реагирование на потребности младенца у людей – оказывали мощное и долговременное воздействие на жизнь потомства целым рядом похожих способов: и человеческие, и крысиные детеныши, которые получали дополнительные дозы заботы в раннем детстве, позднее оказывались более любознательными, более самодостаточными, более спокойными и более способными справляться с препятствиями.
Раннее заботливое внимание матерей помогло малышам развить устойчивость, которая служила защитным буфером против стресса. Когда перед ними, даже много времени спустя, возникали обычные жизненные трудности – тест «открытое поле» у крыс, разногласия между своевольными детсадовцами у людей, – юные существа как крысята, так и люди, оказались способны к самоутверждению, отыскивали в себе внутренние резервы уверенности и двигались вперед.
12. Воспитательные вмешательства
Существует прямая связь между исследованием привязанности Мэри Эйнсворт и клиникой Надин Берк-Харрис в Бэйвью-Хантерс-Пойнт, и эта связь – психолог из Сан-Франциско по имени Алиша Либерман.
В середине 1970-х годов Либерман училась у Эйнсворт в университете Джона Хопкинса в Балтиморе. Это было время, когда Эйнсворт проводила свое первое крупное исследование воспитания и привязанности, и под ее руководством Либерман – тогда студентка выпускного курса – трудилась долгие часы, наблюдая и расшифровывая видеозаписи взаимодействия молодых матерей и их младенцев, выискивая мельчайшие конкретные примеры чувствительного и отзывчивого материнского поведения, которое обеспечивало младенцам надежную привязанность.
Сегодня Либерман руководит исследовательской программой детской травмы в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, где в последние годы она начала тесно сотрудничать с Надин Берк-Харрис.
Либерман рассказала мне, что хотя она в восторге от исследования, которое провели Сроуф и Эгеланд в Миннесоте, ей кажется, что в их анализе не хватает двух важных вещей.
Первая – это открытое признание того, насколько трудно многим родителям в районах, подобных Бэйвью-Хантерс-Пойнт, сформировать отношения надежной привязанности со своими детьми.
– Часто обстоятельства жизни матери глушат ее естественные адаптивные способности, – говорила мне Либерман, когда я приехал в одну из клиник в Сан-Франциско, где она работает. – Когда женщину одолевает нищета, неуверенность и страх, требуются сверхчеловеческие качества, чтобы обеспечить условия для надежной привязанности.
Вдобавок собственная история привязанности матери может еще больше усугубить воспитательные трудности: исследования показывают, что если мать в детстве была связана со своими родителями отношениями ненадежной привязанности (каково бы ни было ее классовое происхождение), то ей будет несравнимо труднее обеспечить надежную поддерживающую обстановку своим детям.
Другой момент, который недостаточно подчеркнут в миннесотском исследовании, говорила Либерман, – это тот факт, что родители могут преодолеть историю травмы и ненадежной привязанности. Они могут скорректировать подход к своим детям, заменив поступки, вызывающие тревожную привязанность, поступками, которые развивают надежную привязанность и здоровое функционирование.
Родители могут преодолеть ненадежную привязанность, изменив свое поведение по отношению к ребенку.
Некоторые родители в состоянии провести эту трансформацию самостоятельно, говорила Либерман, но большинству требуется помощь. Именно этим она и занималась бльшую часть своей карьеры – пыталась выяснить, как наилучшим способом организовать эту помощь.
За годы, прошедшие после окончания университета Джона Хопкинса, она создала программу лечения, названную «Психотерапией родителя и ребенка», которая объединяет теорию привязанности с новейшими исследованиями по травматическому стрессу.
В этом виде психотерапии психолог работает с родителями и младенцами из группы риска одновременно, чтобы качественно улучшить отношения привязанности и защитить как родителей, так и детей от эффектов травмы. Два психотерапевта из программы Либерман ныне работают в клинике Берк-Харрис, обеспечивая лечение десяткам пациентов.
Метод Либерман – довольно интенсивный, сеансы назначаются раз в неделю и могут продолжаться до года. Но стоящий за ними принцип – улучшение судьбы детей путем развития более прочных отношений между детьми и родителями – все активнее внедряется по всей стране в виде самой широкой палитры вмешательств. И результаты, когда проводится оценка этих вмешательств, часто оказываются впечатляющими.
В одном из исследований Данте Чиккетти, психолог из университета Миннесоты, отслеживал группу из 137 семей с документированной историей дурного обращения с детьми. Иными словами, это были семьи, чьи дети были в группе высокого риска. В каждой семье был годовалый ребенок, который и был фокусом вмешательства.