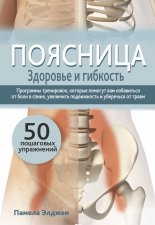Конфликты в Кремле. Сумерки богов по-русски Фалин Валентин
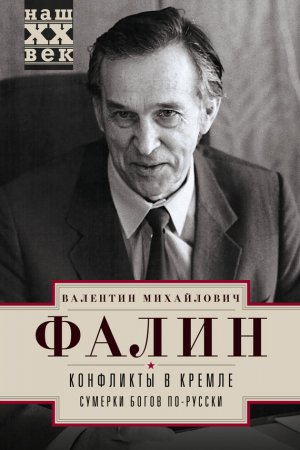
© В. М. Фалин, 2016
© «Центрполиграф», 2016
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016
* * *
Жизнь – это долг, даже если она продолжается мгновение.
Гёте
Глава 1. Не бывает катастроф необъяснимых, есть необъясненные
Пожалуй, не сыщется крупного политического события, вслед которому, словно к комете, не пристроился бы хвост критиков, комментаторов, толкователей. В общем и целом это правомерно. Особенно когда содрогаются и рушатся столпы привычного мироздания, а само их крушение выглядит подчас загадочнее, чем исчезновение динозавров.
Не суди по началу о конце – поучает народная мудрость. Столь же уместна, однако, и другая констатация – не суди по финалу о начале. Это верно почти без исключений и десятикратно верно применительно к Советскому Союзу, ко всей проблематике его возвышения и ухода с мировой арены.
Каковы бы ни были стартовые умыслы зачинщиков перестройки, итог налицо: нет больше Третьего Рима, которому посулили придать человеческое лицо. Выправляли быку рога, да свернули ему шею, могли бы ухмыльнуться японцы. Еще бы! Громадный континент с многоликим, без малого трехсотмиллионным населением пущен в передел. Подлинные последствия этого тектонического по масштабам и глубине сдвига проступят через годы и десятилетия. Пока очевидно одно: в региональном и глобальном измерении они, со всеми поправками на историческую своеобычность, разительней в сопоставлении с переменами, вызванными распадом Рима как первого, так и второго в совокупности.
Как и во что выльются поражение многоукладности и планетарное внедрение идеологической монокультуры? Никогда ни одна отдельно взятая держава не стояла ближе к мировой гегемонии. Амплуа верховного жреца земных дел и вселенского поводыря манит Вашингтон. И требуется уже насилие над собой, чтобы соблазн воспользоваться шансом порулить не взял верх над здравым смыслом.
По опыту монокультура или, если без витийств, обскурантизм не открывали райских ворот. А вот приговором многим системам и режимам, тщившимся мерить все своим аршином, они становились, и не однажды. Отрицание отрицания есть непременное условие любого развития. Прогресс, коль суждено ему быть, не терпит истин в последней инстанции и еще меньше вечных истин, на кои падко растленное потребительством и изленившееся в иждивенчестве сознание. О видениях и химерах, выдававшихся и выдаваемых за откровение, не стоит и говорить. Их на стыках эпох – что на небе светил, и все ворожат.
Издавна Москву объявляли, кому как взбредет, источником дурных веяний и напастей. В холодную войну ее почтили титулом «империя зла». Допустим, русофобы были правы. Так отчего же горизонты не просветлели вслед за тем, как сей источник иссяк? Что теперь-то мешает мировому сообществу обрести искомые со времен Ветхого Завета гармонию и любовь к ближнему? С чего бы это под видом нового на смену отвергнутому чаще крадется подзабытое старое? И камень за пазухой как держали, так и продолжают держать.
Куда ни кинь, вопросов легион. Проблемы накатываются что волны в прибой. Старые и новые вперемежку. Они не просто будоражат умы. От иных оторопь берет.
Социал-дарвинизм в его различных видах и подвидах чувствует себя на коне: естественный отбор вроде бы отдал предпочтение сильному и покарал слабых. А вдруг впечатление это ошибочное и действует феномен противоестественного отбора с его моралью – богатство к богатству, права по арсеналу? Разве справедливо и терпимо, обретя относительную автономию от стихий, еще пуще завязнуть в кабале у себе подобных? Не хочется думать, что идеи великих просветителей так и затеряются на библиотечных полках, став в глазах политических церберов конца XX века более порочными, чем они представлялись в конце XIX столетия набиравшему тогда мощь империализму.
Прозрение должно наступить. Общественный протест не исчерпает себя в отторжении так называемого реального социализма, сносного в прокламациях и никудышного на практике. Конечно, правители Советского Союза и их преемники умудрились не только все смешать в собственных домах. Они замарали передаваемую из века в век заветную мечту о справедливости и человечности. Ту самую мечту, что оплодотворила христианство и вызвала к жизни философские и политические учения, вознамерившиеся гуманизировать бытие на земле в дополнение к мольбам о благоденствии на небесах.
Не личность творит историю, утверждала причесанная под Сталина теория, а народ. На звание «народ» не тянули ни пресловутая «номенклатура», ни правительство, ни даже внешне всемогущее Политбюро. Все снизу доверху было покроено, пригнано, извращено на потребу «главному», восседавшему на одном или нескольких креслах кряду. Нашим богам по табели о рангах было тесно в разумных пределах. Они не довольствовались положением верховных властителей, ниспосланных провидением. Будучи зачастую не способными извлечь из суммы фактов элементарный смысл, они претендовали на всезнание, всепонимание и всевидение, на непогрешимость в предсказаниях и деяниях, жаждали жертвоприношений.
По всякому поводу советская пропаганда трезвонила: человек может ровно столько, сколько он знает. Но кто больше других старался приделать к стенам уши и возвести перед всеми ушами стену, непроницаемую для вражеских «голосов»? Лучше пусть наши граждане не могут, ибо не знают, чем усомнятся в официально «в основном построенном» счастье.
Самое закрытое общество было открыто всем семи эфирным ветрам и поветриям. Оно не могло адаптироваться к сложившемуся глобальному информационному пространству. Вложи Советский Союз средства, потраченные на противодействие «идеологическим диверсиям», в модернизацию своего информационного аппарата, отдача наверняка была бы куда заметней. Для этого, однако, надо было сохранить веру в самое себя, в правоту своих идей и проповедуемых ценностей. Оценки экспертов в расчет не принимались. Разве что мнение знатоков, про которых Г. Киссинджер заметил: «Эксперт есть тот, кто правильно синтезирует и выражает идеи тех, кто его нанял».
Искусство не требует признания его произведений за действительность. Политика, напротив, должна быть адекватна реальности и непрерывно выдавать свидетельства своей действенности, умения управлять событиями вместо того, чтобы ограничиваться их регистрацией. И тут неумение найти и сказать правду – порок, который никаким умением вещать неправду не покрыть.
Сталин – жестокое предупреждение против обожествления личностей, против того, чтобы безотчетно вверять им свое будущее. Он не заслужил того, чтобы посмертно вмешиваться в процесс отделения семян от плевел. Кого-то, возможно, опечалило бы, если бы сталинизм канул в Лету. Пугало поныне сходит за аргумент, особенно когда нет охоты вникать в существо или представляется повод побередить оставленные тираном раны.
Увы, эти раны – неизбывная часть сталинского наследия. Но особенно живучими и заразительными оказались гиперболизированное до абсурда повелевание как самоцель, превращающая причуды и вывихи, мании и предрассудки в стратегию и тактику «усовершенствований» и экспериментов над подданными. Самодержцы, не ведавшие и не ведающие запретов и стеснений, тешат таким способом неуемное тщеславие, своего беса, принародно высеченного еще Ф. М. Достоевским.
Истина о надругательстве над социализмом в СССР, о выхолащивании того, что в идеале должно было наполнять понятия народовластия, гражданских свобод и достоинства человека, рано или поздно пробьется сквозь напластования ханжества и клеветы. Это обязательно случится, и не в порядке исторической очередности, не дожидаясь, пока откроются тайники инквизиции и подноготная неисчислимых бесчинств, учиненных под сенью креста. Никак не затянуть в исповедальню колониализм и его собратьев, изведших под корень дюжину-другую цивилизаций: им не с руки своим покаянием ссорить уходящее второе тысячелетие с грядущим третьим.
Живая жизнь все расставит на положенные места. Сойдет на нет идолопоклонство, подобострастно сопрягающее даже нечто само собой разумеющееся с земными светилами различной яркости и величины. Мастерам чинопочитания и дифирамбов заглядывать бы время от времени в святцы. Тогда скорее прекратили бы они есть начальство глазами и думать ушами, не забывали бы совета бояться подлого, коему ты выказываешь уважение. Тем более что про людей никогда не известно, когда в них кончается ангел и начинается дьявол.
Справедливость – социальная, межнациональная, экологическая, сколько бы ее ни третировали, являет собой сердцевину «общечеловеческих ценностей», тот совместный знаменатель, что призван и способен уберечь от заката не отдельные режимы и престолы, но человечество как таковое. Существует ли сей знаменатель? Не мираж ли это, лишь кажущийся объективной категорией, совокупностью неоспоримых аксиом и критериев? Вычислить общее, соединяющее судьбы наций, удастся, возможно, легче, если вникнуть в мысль Нильса Бора: противоположности не исключают одна другую, а дополняют.
Не придумано строя, застрахованного от непогоды, от блуда и некомпетентности властителей. Провалы, однако, тем вероятней и разительней, чем беднее и бессодержательней каталог альтернатив, которые при сидениях наверху выносятся на негласное или гласное рассмотрение. Совсем скверно, когда власти предержащие высокомерно презирают не одну только этику демократии и законности, но и элементарные императивы политической, экономической и социальной лоции. Тогда крушение фактически запрограммировано, и не обязательно быть ему в бурю, при ограниченной видимости: кому не везет, тот потонет и в луже от копыта.
К несчастью, Русь не единожды попадала под пяту узурпаторов. Доморощенных и залетных. Не впервые ее обездвиживает смута. В очередной раз на ветер летят национальные богатства, плоды труда и ратных подвигов поколений. За бортом горестные и неувядающие уроки собственной биографии. Великую нацию, словно бесприданницу, опять отсылают в приготовительный класс набираться ума под надзором чужестранных пестунов.
О Русь некогда разбилась татаро-монгольская тьма. Тевтоны, поляки, шведы с их лихими завоевательными прожектами оступились на российских просторах. На «русском походе» кончился Наполеон. В глубине России – под Москвой, на Волге, у Курска – состоялась панихида по нацистским вожделениям о европейском и мировом владычестве. Сегодня это ставится России скорее в укор. Здесь фарисеи вычисляют резоны против московской «гигантомании», на вкус и взгляд некоторых политиков, недостаточно еще перемолотой.
Ради чего Россией и ее преемником Советским Союзом были принесены великие жертвы – и неизбежные, и излишние? Чтобы отстоять право на самобытное существование или чтобы сжечь себя и развеяться, подобно наваждению? А может быть, тысяча лет и есть для государств тот «натуральный» возрастной рубеж, брать который дано избранным? Избранным не богами – они не занимаются такими мелочами, как маркировка границ, расстановка кресел в ООН или определение состава НАТО.
Политики присвоили себе функцию жюри в присуждении премий и розг. Похвальные грамоты и пайки – в нашем случае – рассылаются именно тем «реформаторам», что кичатся соучастием в заклании «Российской империи», кто на свой манер довершил задумки прежних «цивилизаторов», видевших Россию и Советский Союз расчлененными на полтора десятка территориальных образований, зависимых от внешнего мира экономически и неспособных блюсти свою безопасность.
Кое-кому государства, принесенного на жертвенный алтарь, мало. Принялись за православие. Припомнили ему вклад в сохранение нацией самое себя и в поддержание панславизма в черную годину безвременья. Дробят церковь, дабы она прозябала в смирении и не посягала бить в набат: «россияне, опомнитесь», «соберитесь с духом и верой в себя», «не затеряйтесь в бьющем через край хаосе»!
Что было – не вернуть. Развитие обогнало московских верхоглядов и тугодумов, полагавших, будто не про них писано: нельзя держать шаг длиннее, чем дорога. Какой восстанет страна из пепла: лучше ли познает себя и очистится в горниле испытаний от суетного, если восстанет вообще? Тот, кого всерьез заботит национальное завтра, не может заклиниваться на вчерашнем и позавчерашнем. В конце концов, неудачи и поражения лучше способствуют воспитанию характеров и нравов, чем победы. Это в равной степени относится и к отдельным людям, и к нациям.
Почти перевелись политики, которые, делая свой выбор, готовы во всей полноте отвечать за него. При удаче гложет в основном стремление – не продешевить бы в ее капитализации. Но вот не заладилось, и перед вами хамелеон. Нет-нет, это не он. Выбор исполняли скопом, с сотоварищами. Или возьмутся доказывать, что другого решения не допускали обстоятельства, потусторонняя сила, тупиковая ситуация, как будто тупики ниспосылаются, а не плодятся, прежде всего с подачи политиков.
Сомнения в том, не переступило ли развитие в СССР ту роковую грань, за которой нет возврата к изначальным идейным ценностям, наличествовали давно и в предостаточном наборе. Не зашло ли перерождение общества и его базовых институтов настолько далеко, что под угрозой оказался не советский эрзац-социализм, а будущее державы, внешне находившейся в зените своего могущества? Этот кардинальный вопрос требовал честного и внятного ответа.
Имелись основания не только сомневаться, но даже отчаиваться. Страна теряла способность себя кормить, лечить, одевать, дать своим гражданам мало-мальски приличный кров над головой. Материальные ресурсы, бессчетные миллиарды бюджетных средств, интеллектуальный капитал пропадали пропадом в бездонной бочке милитаризма. Приспосабливаясь к чужой логике конфронтации и свойственным ей военным технологиям и мышлению, СССР загнал себя в перманентный кризис.
Чем больше оружия противной стороны нейтрализуется собственным оружием, тем весомее в общем раскладе сил, в состязании систем становятся несиловые факторы – те, что определяют жизненный уровень, социальное, культурное, нравственное состояние общества. Здесь в первую очередь совершается идентификация индивидуума и системы. Не правда ли, элементарно до банальности?
Но отдавали ли советские руководители себе в этом отчет? Не похоже. Иначе не объяснить, почему кирпичик за кирпичиком, блок за блоком они разрушали то, что собирались укрывать от угроз извне посредством ракет и танков. Поразительное забвение того, что без экономической, социальной (в незауженном толковании), гражданской защищенности любое общество сегодня не может быть ни современным, ни внутренне стабильным, ни неуязвимым перед вызовами извне.
По Клаузевицу, война есть продолжение политики другими средствами. Контрагенты по «холодной войне» умудрились низвести государственную политику до роли продолжателя войны иными средствами, а дипломатию и вовсе подрядить в служанки милитаризма. Особенно преуспели тут Соединенные Штаты. Они чаще, чем кто-либо, хватались за ядерную дубинку и, как никто, были изобретательны в рецептурах ее «дипломатического» применения. И завяжем для памяти узелок: эта «дипломатия» осекалась, не находила продолжения всякий раз, когда ей поперек вставал человеческий фактор, возмущение также самих американцев, не горевших желанием проверить опытом прогноз ученых насчет «ядерной зимы» или испробовать на себе степень рискованности «конфликтов малой интенсивности». Впрочем, Москва не довольствовалась ролью созерцателя. Ей льстил ореол сверхдержавы, и она мало тревожилась, что где-то с конца шестидесятых годов СССР вел гонку вооружений и военных технологий не против США и НАТО, но против самого себя.
Да, в сомнениях открывался и провожался каждый Божий день. Сомнения понуждали касаться неприкасаемых категорий, лезть в суть диспропорций и противоречий без модных в советскую пору ссылок на объективные трудности и право экспериментаторов на ошибки. Нельзя сказать, что сомнений в итоге убывало.
Однако не зря на Руси ведется: надежда умирает последней. И при всех «про» и «контра» брало верх желание полагать, что для добрых свершений не бывает ни слишком рано, ни слишком поздно. Это, возможно, объяснит, каким образом и почему столь многие в СССР – оставим другие страны неучтенными – приняли перестройку за неподдельный шанс заняться настоящим делом вместо доведенного до совершенства втирания очков.
Безразлично, насколько точной или завышенной являлась посылка «не все потеряно». Впадавшему в маразм советскому строю могла помочь единственная пропись – правда. Правда без изъятий, не затянутая в корсет и приодетая, как бы она ни стеснялась своей наготы. В этом, по моему убеждению, не должно было быть колебаний, никаких сделок с оппортунизмом. Политическое шельмовство или то, что ходит с ним в родстве, не обещало вызволить страну из трудностей, не давало спасительной передышки. Оно перекрывало кислород и там, где с перебоями он все-таки еще поступал.
Не вняли запевалы перестройки искренним советам. Не смогли или не захотели. Любимый клич – ввяжемся в бой, потом оглядимся – шел от Наполеона. Наполеона, еще не вкусившего Бородино и Ватерлоо. Между тем совсем не обязательно было подражать громким авторитетам, достаточно было обратиться к завету безвестного мудреца, вменявшего: не зная броду, не лезь в воду.
Настоящая публикация не есть сведение счетов с кем бы то ни было. Куда важнее показать, что крушение Советского Союза обусловливалось не только и, судя по фактам, не столько императивами, парализовавшими рефлексы самосохранения нации, сколько спецификой властных структур и личными качествами, присущими последним руководителям СССР. Сложившаяся под занавес цугцванговая ситуация являлась следствием, а не первопричиной деформаций всей конструкции, перескочивших критические отметки. Деформаций, приведших к утрате контроля над экономикой, в социальной сфере, в межнациональных отношениях, в оборонной политике и, больше того, контроля ведущих персоналий над самими собой – своими страстями и пристрастиями.
На каждой ступени перестройки давались варианты, имелся выбор. Право решающего вердикта принадлежало, однако, единолично М. С. Горбачеву. Он не делился этим правом ни с кем – ни с парламентом, ни с правительством, ни с коллегами в Политбюро ЦК партии, ни с партией как институтом. Приняв сан президента, М. С. Горбачев и вовсе вознесся над Конституцией и народной волей, выраженной в ходе общесоюзного референдума. Если не застревать на форме – она могла быть и бархатной, – но брать суть, последний советский правитель ни на йоту не отступил от авторитаризма. Напротив, при нем авторитаризм расцвел самым махровым цветом.
«Новое политическое мышление» – это звучало многообещающе. Как снимала настороженность и скованность инсценировка бурных дискуссий по обширному своду проблем различной пробы и достоинства! И что же совершалось в действительности? Фантасмагория или мистификация? Или перед нами казус, отраженный в лермонтовском «Маскараде»?
- …Мир для меня – колода карт,
- Жизнь – банк:
- Рок мечет,
- Я играю,
- И правила игры я к людям применяю.
Нет, краски ничуть не сгущены. Дадим слово главному герою перестройки. В интервью Марион Дёнхофф, издательнице еженедельника «Ди Цайт», М. Горбачев поведал, что он «использовал пост генерального секретаря для реформирования партии». Из коммунистической она, по его словам, должна была стать социал-демократической, а в ноябре 1991 года быть раздробленной на «две, три, возможно, даже на пять» партий. Это был, заявил М. Горбачев, «действительно тщательно продуманный расчет». Или, вернее, мина, на которой подорвался Советский Союз?
Воистину тот, кто знает нас, не похож на того, кого знаем мы. Тут исток большинства разочарований и причал многих несбывшихся надежд.
Глава 2. Ближе к теме
За годы тесного общения с М. Горбачевым я направил ему около пятидесяти записок (меморандумов). Они охватывали широкий круг вопросов, не обязательно напрямую связанных с моими непосредственными служебными обязанностями. Соображения, докладывавшиеся генеральному секретарю и позднее президенту устно, не в счет, так же как и выполненные по его заданиям проекты.
Отдавая дань иллюзии, будто бы пора единоличного правления миновала, записки размечались поначалу также А. Н. Яковлеву, В. А. Медведеву, иногда – А. Ф. Добрынину. Так было, например, с предложениями в связи с приближавшейся сорок пятой годовщиной нападения Германии на СССР или с моими сомнениями насчет целесообразности принятия XXVII съездом КПСС новой редакции программы партии. Сочиненная в угоду Н. С. Хрущеву, программа нуждалась, на мой взгляд, не в подчистке, а в замене на солидный документ, в основу которого были бы положены не желания и несбыточные обещания, а упрямые факты и трезвые выкладки.
В августе – сентябре 1986 года я нашел необходимым привлечь внимание генсекретаря и ряда его коллег к грозовым тучам, что надвигались на ГДР, Чехословакию и другие союзные нам страны. Очистительные грозы не помешали бы никому. Речь, однако, шла о нечто другом. Чтобы предостережение получилось весомей, к короткой записке была приложена экспертная оценка состояния дел, выполненная профессором Р. А. Белоусовым, с поразительно верным, как оказалось, прогнозом: к концу 1989 года страны СЭВа вступят в полосу экономических катаклизмов с необозримыми социальными, политическими и иными последствиями. СССР, подчеркивал профессор Белоусов, по причине трудностей, с которыми в этот период столкнется он сам, не сможет прийти на помощь своим партнерам.
Другая записка анализировала положение в Прибалтике. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Будучи с женой на отдыхе в Риге летом 1986 года, я воочию убедился, что пятидесятилетие возвращения Литвы, Латвии и Эстонии в состав России не пожнет среди прибалтов ликования. Записка напоминала, что советская сторона так и не набралась мужества и ума сказать правду, в частности о секретных протоколах к договорам 1939 года с Германией, и тем лишь подливала масло в огонь. Предлагалось не плыть по течению, а, не теряя времени, проставить точки над «i», чтобы, насколько еще возможно, овладеть инициативой.
Ведавшие, по крайней мере лучше меня, тайные канцелярские течения и кремлевские поветрия Н. Е. Кручина и В. И. Болдин дали мне аккуратно понять: то, что предназначено генеральному секретарю, не обязательно должно становиться достоянием других. Первый сам определит, как, кого и с чем знакомить. Опять вы попадаете в идиотское положение: «для пользы дела» надобно рядиться в царедворцы. Уж эта не знающая осечек «польза делу»!
Пользуясь свободным часом, кладу на бумагу несколько формулировок, которые могли выпукло передать, как мне представлялось, квинтэссенцию политики перестройки. Это было в октябре или ноябре 1986 года в Дели. Печатать некому, вывожу от руки максимально читабельно буквы. Н. Е. Кручина вручает записку М. С. Горбачеву. «Больше социализма, больше демократии» прочно укрепляются в его лексиконе как реакция на попытки консерваторов слева и ниспровергателей справа противопоставить одно другому.
После визита в Индию генеральный, измотанный предельно насыщенным календарным годом, собрался в отпуск. Перед отлетом на юг он выдал мне телефонный звонок: было бы неплохо получить письменные соображения по десталинизации. Ага, отмечаю про себя, значит, мое выступление в июне на встрече М. С. Горбачева, Е. К. Лигачева, А. Н. Яковлева и других с представителями средств массовой информации, учеными-обществоведами, писателями и публицистами отложилось в его цепкой памяти. Кто знает, возможно, его даже обеспокоило карканье: не рассчитаемся со сталинизмом – лишим перестройку будущего.
Если обойтись без перехлестов, можно закрепить и развить интерес М. С. Горбачева к ключевому направлению реформирования партии и системы. Упор лучше спроецировать на устранение разрыва между словом и делом, на уважение достоинства человека и демократизацию. Так я и поступил. От А. Н. Яковлева слышал, что генеральный секретарь с одобрением цитировал обширные пассажи из моего послания на юг в кругу сопровождавших его советников.
Записка по десталинизации с тезисами к возможному публичному выступлению М. С. Горбачева на данную тему не самая впечатляющая, но хронологически первая из имеющихся ныне в моем распоряжении[1]. Примерно четверть меморандумов, адресовавшихся генеральному секретарю, окольными путями вернулись летом 1995 года к автору. Хотя издание «полного собрания сочинений» не входит в мои планы, кое-что, наверное, удастся дособрать по архивным и прочим сусекам. В отсутствие иных документов само название предмета, по которому я обращался к М. С. Горбачеву, скажет что-то без долгих комментариев. Там, однако, где одно-другое пояснительное слово облегчит читателю проникновение в плотные слои советской атмосферы, оно будет вноситься без ущерба документальному жанру.
В 1986–1988 годах генеральный секретарь получил от меня четыре или пять записок по переустройству советской экономики. Они готовились совместно с коллегой по агентству печати «Новости» Г. В. Писаревским. Каждая, объемом до полусотни страниц, пронизывалась лейтмотивом: не следует полагать, что умнее СССР никого на свете нет и что все нашенское, советское, особенно в экономической сфере, непременно лучшее. Стало быть, не грех вдуматься, как удается развитым промышленным странам, отвергающим государственное планирование, налаживать высококачественное производство с оптимальными на нынешнем этапе развития научно-технических знаний затратами труда, энергии и сырья. И рефреном звучало: цивилизация не создала пока более эффективного механизма расширенного экономического воспроизводства и саморегулирования, чем рынок. Планирование или государственное регулирование может быть рынку подспорьем, но никак не заменой.
Смею предположить, что интенсивная работа с генеральным секретарем в пользу освобождения советской экономики от мелочной бюрократической опеки и надзора семи нянек, от пут бесконечных инструкций и запретов, исключавших инициативу и часто ставивших вне закона здравый смысл, способствовала вызреванию первого в серии важнейших реформ акта, а именно принятию летом 1987 года принципиального решения «о развитии в СССР товарно-денежных отношений», то есть признания рынка в качестве целесообразного добавления, если не альтернативы, к центральному планированию. Государственный план просуществовал без малого семьдесят лет, выручил Советский Союз во Вторую мировую войну и в годы послевоенного восстановления, но задышал на ладан при первых же, в сущности робких, корректировках в пользу гражданских отраслей и стимулирования самодеятельности.
Как известно, планирование в его заскорузлой редакции пало с вступлением 1 января 1988 года в силу закона об управлении государственными предприятиями СССР. Поскольку в тот момент все предприятия формально, за исключением колхозов и сбытовых кооперативов, принадлежали государству, сменялся весь порядок отношений правительственных учреждений с предприятиями, а также между предприятиями.
Была ли новая модель достаточно продуманной, чтобы, расшивая узкие места, обеспечить жизненно важный для функционирования любой экономики меж- и внутриотраслевой баланс? Это весьма спорный вопрос. Бесспорно другое: переход из одного качества в другое без минимума фланкирующих мероприятий, гарантировавших преемственность, правовую и финансовую дисциплину и прочее, являлся делом более чем рискованным. Отказ от прежней методики планирования при сохранении старого порядка образования розничных цен, требовавшего неимоверных и непрерывно возраставших государственных субсидий (дотаций), вообще был авантюрой. Уже осенью того же года казна стала приходить в расстройство и из этого свободного падения не выбралась по сию пору.
Много себя я вложил в подготовку соображений для генерального секретаря перед проведением в Москве всемирного форума людей доброй воли и в связи с приглашением нашему лидеру держать программную речь в Страсбурге. Не вдаваясь в детали, отмечу лишь не встретившую понимания у адресата идею «европейской конфедерации». Она висела в воздухе и была затем включена в повестку дня президентом Франции Франсуа Миттераном. Меня тема конфедерации занимала тогда вот в каком специфическом ракурсе. Поднятая Москвой, она могла бы подтолкнуть немцев на Западе и Востоке к переосмыслению прежде упущенных ими возможностей. Таким образом, синхронизировались бы оба процесса: преодоление раскола как Европы, так и Германии.
Информация, которая докладывалась генеральному секретарю о нарастании центробежных явлений в ГДР, подталкивала его к модификации тактики выжидания, пока «история» не вынесет свой приговор. Диалогами глухих с Э. Хонеккером было не обойтись, а выход на новую военную доктрину Организации Варшавского договора (май 1987 года), не увязанную со сходными эволюциями в НАТО и не подкрепленную политическими, экономическими и другими шагами, нацеленными на упрочение интеграционных связей с союзными СССР государствами, оставлял при всей значимости и необходимости этой новации двойственное впечатление: внешне платилась дань времени и параллельно вздабривалась почва для фронтального отступления до неозначенного, терявшегося в тумане рубежа.
В апреле 1987 года исполнялась годовщина Чернобыльской катастрофы. Случившаяся беда застигла всех врасплох. Высшее руководство страны надолго потеряло дар членораздельной речи. Словоблудия, затенявшего реальные масштабы человеческой и экологической трагедии, было в избытке. Но внятного объяснения, как вообще такое могло стрястись, почему население обширных районов Украины, Белоруссии, России, принявших на себя первый массированный радиационный удар, не было своевременно оповещено, кто и отчего месяцы спустя скрывал истинные данные о трагедии, так и не было никем сделано.
В обращении к М. С. Горбачеву я описал проблематику так: или мы снимем покров и покажем своему народу и мировому сообществу реальную картину, или это сделают за нас те, кому не терпится на Чернобыле проиллюстрировать деградацию системы, ее безответственность и равнодушие к судьбам миллионов сограждан.
Записка осталась без отклика. Странное, неадекватное поведение генерального секретаря прямо-таки озадачивало. Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков вылетел на место катастрофы на третий или четвертый день. Оперативно решая на месте вопросы, не терпевшие отлагательств, он вместе с сопровождавшими его заместителями и министрами, а также руководителями Украины наглотался радиации. М. С. Горбачев выбрался – и то на периферию бедствия – лишь пять лет спустя, после того как замаячил импичмент. Члены белорусской партийной организации поручили мне довести до сведения генерального ультиматум: или он заявится лично, или белорусы поставят вопрос о его соответствии занимаемым постам.
Повторю, мой чернобыльский демарш 1987 года канул в омут. Зато М. С. Горбачев откликнулся на две другие записки того же времени. Одна касалась Маттиаса Руста, другая – Л. М. Кагановича.
О своих попытках упредить доведение дела Руста до суда мне уже доводилось говорить и писать. Ястребам не терпелось превратить приключение душевно лабильного юноши в масштабный «заговор» непонятно каких кругов ФРГ и, может быть, даже НАТО. Элементарное разгильдяйство дежурных офицеров на региональных и центральных постах ПВО послужило предлогом для чистки начальственного состава Вооруженных Сил СССР, начиная с министра обороны С. Л. Соколова. Советское посольство в Бонне засыпало секретариаты М. С. Горбачева и Э. А. Шеварднадзе «доказательствами» по версии заговора и упорно рекомендовало проявить жесткость.
Мое предложение отнестись к воздушной прогулке М. Руста в Москву великодушно и с некоторой долей юмора пришлось явно не ко двору. Хабитус Руста я вычислял по лентам информационных агентств, и следователи КГБ были совершенно непричастны к доложенным мною М. С. Горбачеву заключениям. Но поскольку мои оценки в главном перекликались с выводами следствия, последнее было обвинено в «разглашении тайны» с соответствующими организационными выводами. Мне же дали знать: генеральный гневается и ожидает, что я свой нос за пределы вмененных мне обязанностей высовывать не стану.
Л. М. Каганович – один из ветеранов российского социал-демократического движения, переживший, наряду с В. М. Молотовым и А. И. Микояном, все мало похожие одна на другую главы советской истории, кроме финальной. Десятилетия он был близок к И. В. Сталину и причастен ко всем его основным деяниям. В 1957 году Кагановича списали в архив вместе с группой приверженцев старой школы, соперничавших с Н. С. Хрущевым. Последнюю четверть своего долгого века он доживал в положении отверженного.
В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов А. М. Александров, помощник четырех генеральных секретарей, и я пытались убедить Л. И. Брежнева и позднее Ю. В. Андропова в необходимости и желательности «разговорить» В. М. Молотова, чтобы с его помощью устранить часть белых пятен в летописании советского прошлого. Не являлось секретом, что многие из судьбоносных решений принимались Сталиным после обмена мнениями с Молотовым. Часть из них Молотову же поручалось исполнять, нередко без того, чтобы процесс выработки позиции как-то отражался на бумаге. «Добро» на контакт с Молотовым получено не было. Молотов умер в возрасте девяноста шести лет, как если бы природа не отпускала политика на покой, пока он воспоминаниями не облегчит свою душу.
Завидной жизнестойкостью отличался также Каганович. Он умер в 1991 году, недотянув пары лет до своего столетия и сохранив до конца ясный ум и твердую память. Некоторые научные контакты открыли мне доступ к этому ветерану, и я прозондировал, не захочет ли Каганович обстоятельно побеседовать по ключевым событиям двадцатых – сороковых годов, свидетелем и активным участником которых он являлся. С колебаниями и не совсем безусловно Каганович дал согласие на встречу.
Составляю записку М. С. Горбачеву и А. Н. Яковлеву с набором доводов в пользу положительного решения относительно моей инициативы. Если Каганович уйдет из жизни неопрошенным, то, как и в случае с Молотовым, мы упустим уникальный шанс раскрыть себе и другим глаза на подоплеку ряда акций Сталина, необъяснимых с рациональной точки зрения. По истечении двух-трехмесячной паузы получаю через заведующего Общим отделом ЦК КПСС В. И. Болдина устное сообщение: «Ваше предложение рассматривалось в Политбюро. Признано нецелесообразным гальванизировать политический труп».
Бедная история, заложница барских капризов, которых правда вчерашняя еще меньше волнует, чем сегодняшняя. Еще бы: она не стареет и не просто будит воспоминания, а настраивает на критическое восприятие настоящего.
Особо досадно, что пока я лишен возможности ознакомить читателя с текстом записки о праздновании тысячелетия введения христианства на Руси. Открывался 1988 год. Минуло полтора года с момента, когда я призвал М. С. Горбачева и его коллег достойно отметить этот юбилей как общенациональное событие. Глас вопиющего в пустыне ни в ком не высек укора. Для воинствующих атеистов, что окопались в Отделе пропаганды и не только там, тысячелетие – повод покуражиться, понудить князей церкви вымаливать крохи. Кому, спрашивается, сдалась подобная фанаберия? Обидно было за Отчизну и куда как неспокойно за ее завтрашний день. В соответствующем месте я расскажу, как все дальше сложилось.
1988 год ознаменовался роковыми переломами. XIX партконференция была ориентирована на смену политической системы или, если угодно, очищение ее от извращений и перекосов, напластовавшихся в годы военного коммунизма, сталинской диктатуры и при ее преемниках. В любом варианте в повестку дня выдвигалась задача глубокого переустройства устоявшихся и закрепленных в Конституции порядков. По сути, легализовалось диссидентство, бывшее на протяжении полутора-двух десятилетий объектом яростного преследования. Под прицелом оказались не частности, не уклонение на практике от свобод и прав, которые, согласно Основному закону, формально гарантировались каждому советскому человеку, но принципы и устои всего строя жизни, в том числе оплаченный несметными жертвами социальный выбор. Джинна выпустили из бутылки. Вчера запретное и наказуемое – «антисоветская деятельность» – начало задавать тон при практическом применении нового политического мышления. Низвержение строя, а не его реформирование, не возврат к изначальным ценностям, вывернутым Сталиным наизнанку и превращенным в свою противоположность, а их изведение под корень – эти и сходные установки шли за символы прогрессивного и демократического настроя. Все, что им противостояло, клеймилось как ретроградство и консерватизм.
В этом свете отказ от планового начала в экономике обретал иную тональность. Он являл собой увертюру к какой-то новой расстановке сил и средств, которая, возможно, прорисовывалась в голове генерального секретаря, но плохо различалась извне. Где-то осенью 1988 года в невзначай оброненной реплике А. Н. Яковлева промелькнет понятие «президентское правление». Пока же конференцию соблазняли лозунгом возрождения Советов как лучшего вида не представительской, а прямой демократии.
«Вся власть Советам!» Законодательная – прежде всего. Это можно было только приветствовать. Не образуй законность основу правопорядка в стране, говорить об истинных сдвигах к демократии было бы преждевременно. Правление посредством директив и приказаний, выносимых келейно или единолично, всегда отдает чрезвычайным положением, при котором не практикуется общих, обязательных для всех правил и норм, а действительностью является разделение не властей, но прав. Одни присваивают привилегию подчинять, другим достается удел подчиняться и право строить при сем счастливую мину.
«Вся власть Советам!» Не впервые в России это требование выдвигалось в центр политических тайфунов. Советы, рожденные, как известно, в революцию 1905–1907 годов, вышли на широкую политическую арену после февраля 1917 года и отречения Николая II от престола. Они смели ублюдочный царский парламентаризм с полуобморочной думой, но им не достало сил и решимости возглавить развитие первой Российской республики. Реальная власть сосредоточивалась у военных, которых подпирали не задетые политическими переменами банкиры, промышленники и землевладельцы.
Октябрь 1917 года превратил призыв «Вся власть Советам!» в рычаг для смены социальных вех и установления принципиально новых приоритетов во внутренней и внешней политике. Большевики, не располагавшие численным превосходством на съездах Советов, вынуждены были искать консенсус с эсерами и другими группировками. Сотрудничество в четырехпартийном коалиционном правительстве и Советах сломалось на Брестском мире (март 1918 года). Отсюда повелись едва ли не все внутренние трагедии, не отпускавшие из своих объятий советское государство до конца его существования.
Заключать мир с Германией или продолжать войну против нее на стороне Антанты? Ратифицировать кабальный Брест-Литовский договор, продиктованный кайзеровским генералитетом фактически беззащитной Советской России, только что распустившей по домам свою армию, или героически погибнуть на глазах у британских, французских и американских союзников по войне, для которых Россия, царская или нецарская, была интересна в тот момент как поставщик пушечного мяса? В случае продолжения войны можно было рассчитывать лишь на молебен, учиненный где-нибудь в Париже, Лондоне или Вашингтоне, не более того, ибо против распятия Советской России чужими руками «демократы» не стали бы энергично возражать.
До сих пор неясно, в какой мере Франция, Англия и США готовы были распространить на Советскую Россию обязательства, тайно принятые перед царским престолом и предполагавшие включение по окончании войны в состав Российской империи новых обширных территорий в Европе, на Среднем Востоке и в Азии. По 1916 год в западных столицах и мысли не возникало, что Финляндия, Польша и прибалтийские «провинции» могут получить статус независимых государств. Какие мысли забередили демократические души в 1917–1918 годах? Значительная часть документов из архивов не раскрыта. Они как-то не вписываются в последующие политические комбинации, осуществлявшиеся под разглагольствования об «уважении прав народов» и защите «свобод».
Но вернемся к XIX конференции КПСС. Партия отважилась на давно назревший и даже перезревший акт: она слагала с себя функции, которые по смыслу вещей и по естественному праву должны принадлежать субъектам государственной и экономической власти, а также независимым общественным институтам. В сочетании с признанием за средствами массовой информации права на собственное суждение и отстаивание своей позиции это создавало предпосылки к переходу в многопартийность, без которой немыслима «власть на время», а где нет сменяемости власти, там нет и не может быть демократии в любом из ее подвидов.
М. С. Горбачева достало на то, чтобы вторгнуться в запретные сферы, во всеуслышание произнести «а» и даже заикнуться насчет «б». Но он в очередной раз пренебрег непреложным политическим каноном: инициируя цепную реакцию, государственный деятель обязан, если, разумеется, в его планы не входит на переправе менять лошадей, досконально вычислить варианты последующих ходов и озаботиться подготовкой почвы и тылов для каждого из них. А ведь было яснее ясного, что первые шаги по переиначиванию системы неизбежно потянут за собой обширный свод перемен. И горе политику, когда развитие принимает лавинообразный вид и зачинатель обновительного процесса превращается в его заложника.
Возможно, якорь личного спасения действительно виделся М. Горбачеву во внедрении в Советском Союзе системы президентского правления. При строгом прочтении такой режим имел мало общего с идеей Советов, то есть системой не представительской, а прямой демократии.
Президентский режим, в глазах его апологетов, легитимировал авторитарную власть ее носителя, сравнимую с полновластием генерального секретаря, как она осуществлялась де-факто: надзаконно и вне закона. Соединение постов генерального и президента было, таким образом, перекладыванием власти из одной руки в другую. Менялось, в сущности, одно: исчезал номинальный, но все-таки какой-то контроль со стороны Политбюро и ЦК КПСС, возможности же Верховного Совета (парламента) воздействовать на президента СССР урезались примерно в такой же степени, как у нынешней думы в отношении президента Российской Федерации.
Далеко не каждый политик рожден с генами, которых ждет от него авторитарное правление. М. Горбачев не смог бы, как мне думается, пуститься на расстрел парламента или в чеченскую авантюру. Беспредел в произволе, особенно обагренный кровью, не вяжется с его натурой, со стремлением покрасоваться в лучах славы, а неблагодарную часть работы перекладывать на других.
Этот разрыв между желанием и потенциалом, замыслом и его исполнением, риторикой и делом, очевидная неспособность охватить явления в их взаимосвязи и совокупности заранее программировали тупики перестройки. Практически ни одно начинание не доводилось при М. Горбачеве до конца. Прожектерство, чем дальше, тем больше оторванное от почвы и элементарной логики, должно было создавать впечатление поступательного движения, тогда как в действительности с середины 1988 года страна заскользила к бездне.
Что происходит с М. Горбачевым? Чего он добивается? Куда держит путь? Эти вопросы задавались мною самому себе и перепроверялись в разговорах с людьми сведущими, мнение которых я в ту пору ценил. А. Яковлев прореагировал обескураживающим образом:
– Наш генеральный себя исчерпал.
Сии крамольные слова были произнесены шепотом, подальше от телефонных аппаратов, при выходе из служебного кабинета А. Яковлева. Констатация факта и прогноз одновременно? От обвала нас отделяло три суетных года.
Ближайший советник генсекретаря А. Черняев, которому те же вопросы были заданы чуть позже, уклонился от высказывания своей точки зрения. Он не отрицал, что события сбились с провозглашенного маршрута, и предложил расспросить об остальном самого М. Горбачева.
Комментарии В. Ивашко, Г. Янаева, А. Лукьянова, В. Крючкова будили самые минорные чувства. Если генеральный и президент не могли поладить между собой, оба не ведали, что творят, все глубже увязая в келейности, пренебрегая контактами с коллегами по государственному и партийному руководству, если М. Горбачев всерьез воспринимал окружение – Верховный Совет, делегатов партконференции и XXVIII съезда, правительство, состав ЦК и генералитет – как враждебную ему среду, то настал черед подбивать бабки.
Ставлю В. Ивашко и некоторых других членов партийного руководства в известность о своем решении уйти не позднее середины 1991 года в отставку. Почему был выбран именно этот временной рубеж? Более весомым доводом, чем возраст, являлся близившийся пятидесятилетний юбилей моей трудовой деятельности, начавшейся в августе 1941 года. Полвека тянуть лямку, да еще в наших российских условиях, по любым меркам предостаточно. Аргумент, лишавший любого желавшего навесить на меня ярлыков – бежит, мол, с давшего течь корабля, смалодушничал, – возможности злословить.
В апреле 1991 года информирую об этом своем намерении М. Горбачева. Он просит не форсировать решение, завершить работу в комиссии над новой программой КПСС. Осенью, многозначительно добавил он, и подытожим. Идея внеочередного съезда витала в воздухе, но в момент разговора с генеральным я не принимал ее за нечто оформившееся. Еще меньше напрашивалось предположение, что М. Горбачев, как он утверждает теперь, обкатывал планы раскола партии и уже не просто идейного, но и организационного.
Как бы то ни было, я совершил, наверное, самую непростительную ошибку – согласился повременить с отставкой до той самой злополучной осени, которая поставила крест на советском периоде истории страны и поломала судьбы миллионов и миллионов людей. Хуже того, мне хотелось разрядить напряженность, которой характеризовалась летом 1991 года ситуация в высшем звене государственного руководства. Тягостные предчувствия, недостаточная осведомленность в раскладе сил или какие-то другие причины удерживали меня от списания главного архитектора перестройки с политических счетов.
Мое отношение к правовому нигилизму, что практиковался М. Горбачевым, не было для последнего секретом. Собственно, на это я и рассчитывал после того, как в выступлении на съезде народных депутатов СССР проакцентировал обязанность президента не только следить за исполнением законов другими, но и самому блюсти их. Собачья преданность в политике – скверная услуга и патрону, и самому себе, и особенно делу. Она не имеет ничего общего с лояльностью и доверием, лучше всего, если взаимными.
На заседаниях секретариата ЦК КПСС я не скупился на критические оценки прежде всего позиции М. Горбачева в ходе так называемых новоогаревских сидений, где президент СССР, он же генсекретарь партии, сговаривался о чем-то неведомом парламенту и правительству с Б. Ельциным и другими лидерами союзных республик. Итоги мартовского (1991 г.) общесоюзного референдума игнорировались, Конституцию СССР никто не отменял, но она никак не связывала фантазии и аппетиты политиков в Ново-Огарево. Медведь еще дышал, а с него сдирали и делили шкуру.
Без скидок на столько раз подводившую меня склонность думать о людях лучше, чем они заслуживают, и вопреки господствующей сейчас в России моде задним числом делать всех хуже и глупее, кроме собственной персоны, могу утверждать, что я сохранял лояльность М. Горбачеву до самого его заката. Одно из свидетельств тому – записки, которые направлялись ему в 1991 году. Я не останавливаюсь специально на ратификации в Верховном Совете пакета договорных урегулирований по германской проблеме, на мой взгляд выводивших за скобки жизненно важные интересы Советского Союза. Даже в минуту распятия М. Горбачева в Верховном Совете РСФСР, транслировавшегося на весь Союз 23 августа 1991 года, меня занимала забота, как снизить общенациональный ущерб от случившегося, вошедшего в летописание под названием «путч». В последнем личном контакте с М. Горбачевым именно в тот день я проинформировал президента и еще генсека, в частности, о том, какие из документов и материалов, затрагивавших лично его, остались в стенах Международного отдела ЦК, и рекомендовал пробудить у Б. Ельцина интерес к тому, чтобы архивы не оказались безнадзорными.
Подобные разговоры из памяти не вымарать. М. Горбачев, похоже, не ханжествовал. Собеседник был преисполнен жалости к себе, когда просил войти в его беспомощное положение. Может быть, заметил он, все еще как-то образуется, если немного потерпеть.
А чего, собственно, он ждал? Деятельность КПСС на территории Российской Федерации Б. Ельцин росчерком пера запретил. Сходное постигло партию в других республиках Союза. Не терпеть, а поскорее сбросить ставшие веригами обязанности генерального секретаря, примоститься к тем, кто занялся поношением и ощипыванием вчера казавшейся всесильной партии, – вот чем сам Горбачев занялся. Надеялся сойти за сверхоборотня и жертву, чтобы продлился его политический век? Кто знает, кто знает. Если М. Горбачева не заземлили унижения и разочарования после свержения с трона и он выставил на поругание свою кандидатуру на президентских выборах в России 1996 года, то почему бы пятью годами раньше ему не возводить воздушные замки? Звездная болезнь – недуг, к которому почти невозможно подобрать верное снадобье.
Глава 3. Социально-экономический концепт перестройки. Имелся ли выбор?
Почти все в живой и неживой природе совершается по имманентно присущей каждому явлению программе. Это настолько очевидно и привычно, что люди принимают сию данность как пропись высшего разума или рока.
Программы, если соотносить их с человеческим сообществом, есть не что иное, как закодированный в генах или подсознании, на бумаге или в дискетах компьютера вектор. Каждому из нас он словно путевка на целую без остатка жизнь – со множеством маршрутов и перекрестков на выбор.
Будучи рожденными равными, люди чаще всего ищут способы выразить и утвердить себя в неравенстве, в противопоставлении интересов вместо их сочетания. Разные нации и системы различно сливают посылки в реалии. Так было, когда ось планеты Земля еще не сгибалась от демографических и экологических перегрузок. Мало что изменилось к лучшему и после того, как земляне ощутили пределы своей экспансии и стали чаще поглядывать на Марс: не прообраз ли это будущего нашей планеты, испившей последний глоток воды и лишившейся из-за человеческих несовершенств своей уникальной атмосферы?
К чему это говорится? Чуть-чуть терпения, и станет понятным, куда клонит автор.
Не каждая прямая в политике является кратчайшей между двумя точками. На поверку частенько стрясается нечто противное задуманному, прочерченному в кабинетной тиши на ватмане. Пример Советского Союза осядет во всех хрестоматиях, может быть, как самая показательная иллюстрация к безыскусной аксиоме – от великого до смешного нас отделяют полшага. Не пошел правителям моей страны впрок ни чужой, ни собственный опыт. Они словно задались целью повторить все мыслимые и немыслимые ошибки и просчеты. Чтобы испытать на запредельных нагрузках терпение народа и выносливость конструкций системы? Как экспериментаторы ставили опыт на чернобыльском реакторе.
Прямой продуктообмен, представлявшийся в теории идеалом в тандеме производство – потребление при социализме, был вчерне опробован в деле после Октябрьской революции 1917 года. Он сразу же обнаружил свою практическую несостоятельность. Попытайся В. И. Ленин упорствовать, насиловать теорией действительность, Советская Россия кончилась бы, самое позднее, в 1922–1923 годах без всяких там вооруженных интервенций и блокад. Спасение пришло не от человека с ружьем. Выручили новая экономическая политика, реабилитировавшая рынок, валютная реформа, сделавшая рубль стабильным и конвертируемым, принятие многоукладности за основу хозяйственной деятельности.
Сложнее получилось с прямой демократией. Здесь теория и практика могли бы сомкнуться и взаимно обогатить одна другую. И не было нужды копаться в преданиях о новгородском или псковском городском вече. Перед глазами стояли многогранные традиции крестьянских общин и сословных сходов, в первое десятилетие после 1917 года еще не заклейменных каленым железом.