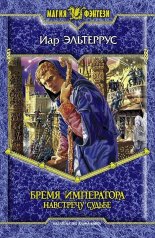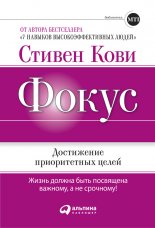Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой системы Гринспен Алан
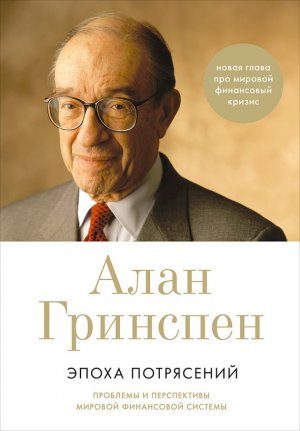
Что касается Саммерса, он, безусловно, был настоящим вундеркиндом в сфере экономики. Сын докторов экономических наук, племянник двух нобелевских лауреатов по экономике, он стал одним из самых молодых профессоров Гарвардского университета. До прихода в администрацию президента Саммерс работал главным экономистом Всемирного банка. Областями его специализации были государственные финансы и экономика развивающихся стран. Больше всего мне импонировало то, что Саммерс, как и а был реалистом и аналитиком, всегда стремящимся подтверждать теорию фактами. Кроме того, он очень интересовался историей экономики. используя ее в качестве критерия истины. К примеру, Саммерс не одобрял увлеченности президента перспективами информационных технологий — разве в истории США не было периодов стремительного технологического прогресса? «Щенячий восторг по поводу производительности» — именно так отозвался однажды Ларри о технократическом экстазе Клинтона, Я не согласился с ним, и мы начали спорить о возможностях Интернета, втянув в дискуссию Боба. Порою Ларри проявлял удивительную трезвость расчета: именно он предложил установить для мексиканских кредитов высокую ставку, чтобы побудить мексиканцев как можно быстрее расплатиться с нами.
В последующие четыре с половиной года Рубин, Саммерс и я каждую неделю собирались за завтраком, а в промежутках между этими встречами частенько созванивались и забегали друг к другу в кабинеты (мы с Ларри продолжили эту практику и после того, как в середине 1999 года Боб вернулся на Уолл-стрит, а Ларри стал министром финансов). Обычно мы встречались в 8.30 у меня или у Боба в кабинете, заказывали завтрак и час-дру-гой тратили на обмен информацией, анализ показателей, разработку планов и обдумывание идей.
Эти совместные завтраки обогащали каждого из нас. Трудно было представить лучший форум для обсуждения проблем так называемой новой экономики. В мире набирали силу две тенденции — развитие информационных технологий и глобализация. «Шаблоны устарели», как позднее заметил президент Клинтон. Демократы шутливо окрестили тогдашнюю экономическую политику «рубиномикой». В 2003 году The New York Times в рецензии на мемуары Боба назвала рубиномику «квинтэссенцией президентства Клинтона». Автор рецензии так охарактеризовал тот период: «...Стремительное повышение цен на акции, недвижимость и другие активы, низкая инфляция, сокращение безработицы, рост производительности, сильный доллар, низкие тарифы, готовность выступать в роли всемирного антикризисного управляющего и, самое главное, значительный запланированный профицит федерального бюджета». Хотелось бы считать все это результатом продуманной, эффективной политики, рождавшейся за нашими еженедельными завтраками. Отчасти так оно и было. Но в первую очередь эти достижения были результатом вступления в новый этап глобализации. а также экономических последствий кончины Советского Союза. На этих вопросах я подробнее остановлюсь в следующих главах,
С президентом Клинтоном я виделся не часто. Мы с Бобом взаимодействовали настолько успешно, что необходимость в моем присутствии на экономических совещаниях в Овальном кабинете возникала редко, за исключением критических моментов {например, когда в 1995 году противо-стояние между Клинтоном и конгрессом по вопросам бюджета парализовало работу федерального правительства).
В конце концов до меня дошли сведения, что президент во многом считает меня и ФРС виноватыми в проблемах 1994 года, когда мы повышали процентные ставки. «Я полагал, что экономика укрепилась недостаточно для того, чтобы оправдать эти меры», — пояснил Клинтон несколько лет спустя. Но президент никогда не критиковал ФРС публично. К середине 1995 года между мной и Клинтоном установились довольно непринужденные отношения. На приемах и ужинах в Белом доме он, бывало, отзывал меня в сторонку, чтобы узнать мое мнение или обсудить какую-нибудь идею. Я не разделял его вкусов, сформировавшихся в эпоху беби-бумз. и не испытывал любви к рок-н-роллу. Возможно, он считал меня сухарем, не годящимся на роль приятеля, с которым можно выкурить по сигаре и посмотреть футбол. Номы оба любили книги, оба интересовались окружающей жизнью и в целом неплохо ладили. По словам Клинтона, мы были довольно своеобразной парочкой экономистов.
Меня не переставал удивлять его интерес к частным аспектам экономики, например к влиянию поставок пиломатериалов из Канады на стоимость жилья и инфляцию, к использованию концепции «точно вовремя» в производстве. С другой стороны, он не упускал из виду и общие закономерности вроде исторической взаимосвязи между неравенством доходов и изменениями в экономике. Он считал, что интернет-миллионеры являются неизбежным побочным продуктом прогресса. «Всякий раз при переходе к новой экономической модели неравенство усиливается, — говорил он. — Именно так случилось, когда мы перешли от аграрного производства к промышленному. Огромные состояния нажили те, кто финансировал промышленную революцию, и те. кто строил железные дороги». Теперь мы стояли на пороге цифрового века, поэтому и появились интернет-миллионеры. Перемены — хорошая вещь, говорил Клинтон, но ему хотелось, чтобы новое богатство в большей мере попадало среднему классу.
Политические интересы, однако, всегда берут верх. Зная это, я не рас-считывал, что Клинтон вновь назначит меня председателем ФРС по истечении срока моих полномочий в марте 1 996 года. Как демократ, он должен был предпочесть кого-нибудь из своих. Но к концу 1995 года ситуация изменилась. Американский бизнес процветал — прибыли крупных компаний увеличились на 18%. а фондовый рынок демонстрировал максимальный рост за последние 20 лет. Денежно-кредитная политика оказалась эффективной, и в 1996 году дефицит бюджета, по прогнозам, должен был сократиться до $110 млрд. Инфляция по-прежнему не превышала 3%. ВВП начал расти, минуя стадию спада. Отношения между ФРС и Министерством финансов были великолепными. Ближе к Новому году в прессе появились сообщения о том. что президент может предложить мне остаться. В январе Боб Рубин и я отправились на встречу «Большой семерки» в Париж. Во время перерыва в мероприятиях мы с Рубином отошли в сторонку. Я чувствовал, что Боб хочет мне что-то сказать. Как сейчас вижу эту картину: мы стоим перед огромным, от пола до потолка, окном, из которого открывается прекрасная панорама города. «Когда вернемся в Вашингтон, жди звонка от президента», — сказал Боб. Больше он ничего не сообщил, но по его виду я понял, что новости должны быть хорошими.
Одновременно со мной Клинтон назначил еще двух высокопоставленных чиновников ФРС: Элис Ривлин на должность вице-председателя и Лоренса Мейера, известного специалиста по экономическим прогнозам, на должность одного из управляющих. Перед нами президент поставил небольшую задачу, сформулированную им в одном из интервью так: «В стране идут горячие споры о том, существует ли предельный темп роста, который можно поддерживать длительное время, не вызывая инфляции». Нетрудно было прочесть между строк его мысль. Поскольку экономика уже шестой год находилась на подъеме и возможность мягкой посадки была вполне реальной, Клинтон хотел добиться ускорения роста, повышения зарплат и создания новых рабочих мест. Ему нужно было знать, на что способен наш космический корабль.
8. ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ
Девятое августа 1995 года войдет в историю как дата начала интернет-бума. В этот день Netscape, крошечная компания из Кремниевой долины, занимающаяся разработкой программного обеспечения, осуществила первоначальное публичное размещение акций. Существовала она всего два года, почти не имена выручки и не получала ни цента прибыли. Фактически подавляющую часть своей продукции Netscape распространяла бесплатно. Однако ее браузер произвел революцию в использовании Интернета, вмиг превратив сеть, некогда созданную на средства американского правительства для нужд ученых и инженеров, в глобальное киберпространство. В первый же торговый день цена акций Netscape подскочила с $28 до $71, удивив инвесторов от Кремниевой долины до Уолл-стрит.
Золотая лихорадка Интернета началась. Все новые и новые начинающие компании становились публичными по фантастическим ценам. Акции Netscape продолжали расти — к ноябрю по рыночной капитализации компания обогнала Delta Airlines, и глава Netscape Джим Кларк стал первым в истории интернет-миллиардером. Ажиотаж вокруг высоких технологий подстегнул и без того разогретый фондовый рынок: промышленный индекс Dow Jones перевалил за 4000. а затем 5000 пунктов и по итогам 1995 года вырос более чем на 30%. Высокотехнологичная биржа NASDAQ, где котировались акции новых эмитентов, продемонстрировала еще более головокружительные результаты — ее сводный индекс прибавил более 40%. В 1996 году рынок продолжил стремительный рост.
Обычно фондовый рынок не является предметом пристального внимания со стороны ФРС. На заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке слово «фонды» чаще употреблялось применительно к основным фондам (станки, железнодорожные вагоны, позднее — компьютеры и телекоммуникационное оборудование), а не к акциям. Что же касается технологического бума, то в большей степени нас интересовали люди, которые создают микросхемы, пишут программы, строят сети и внедряют информационные технологии на предприятиях, в офисах и развлекательных заведениях. Однако мы прекрасно знали об «эффекте богатства»: инвесторы, чувствуя себя платежеспособными в результате роста доходности портфелей. начинают активнее брать кредиты и свободнее тратить деньги на жилье, машины и потребительские товары. Еще более важным мне представлялось влияние роста стоимости акций на вложения в основные сред* ства. Вопрос влияния стоимости акций на капиталовложения и, соответственно, на уровень экономической активности интересовал меня с той поры, как в декабре 1959 года я выступил с докладом «Курсы акций и оценка капитала» на ежегодном совещании Американской статистической ассоциации18. В нем я показал, что отношение стоимости акций к стоимости новых основных средств коррелирует с объемами новых заказов на оборудование. Моя аргументация была хорошо понятна девелоперам, которые работают по принципу: если рыночная стоимость офисных зданий в определенном районе превышает себестоимость строительства с нуля, то застройка ведется активно. Если же рыночная стоимость ниже себестоимости строительства, застройка прекращается
Я пришел к выводу, что между стоимостью акций и новыми заказами на оборудование существует такая же взаимосвязь: если руководства компании считает, что рыночная стоимость оборудования превышает стоимость его покупки, соответствующие вложении растут, и наоборот. Я был разочарован, когда в 1960-е годы отношение перестало давать в прогнозировании такие же хорошие результаты, как раньше. Но в этом и заключается одна из самых распространенных проблем эконометрики. В наши дни эта взаимосвязь приобрела вид подразумеваемой рентабельности планируемых капиталовложений В прогнозировании она также не настолько эффективна, как хотелось бы, но именно эта идея служила фоном для моих размышлений на заседании комитета в декабре 1995 года.
Майк Прелл, ведущий специалист ФРС по внутриэкономическим вопросам, утверждал, что эффект богатства может привести к увеличению потребительских расходов в будущем году на $50 млрд и ускорению роста ВВП, Управляющий Ларри Линдсей, который впоследствии стал главным экономическим советником президента Джорджа Буша-младшего. считал этот прогноз нереальным. Львиную долю акций держат пенсионные фонды и владельцы планов 401 (к), возражал он. поэтому потребителям будет сложно получить доступ к этим прибылям. А большинство граждан, владеющих крупными портфелями акций, и без того весьма состоятельные люди, которые вряд ли ударятся в безудержные траты. Не могу сказать, что я был полностью с ним согласен, но проблема действительно была новой, и никто из нас не знал, чего следует ожидать.
Помимо прочего, дискуссия показала нашу растерянность перед растущей мощью бычьего рынка. Джанет Йеллен предрекла скорый конец фондового бума. «Он завершится еще до истечения 1996 года», — сказала она. Меня же беспокоило то, что бум мог создать предпосылки для биржевого краха. «Реальная угроза состоит в том. что на наших глазах раздувается пузырь на рынках облигаций и акций». — заметил я. Однако рынок еще не казался таким перегреть»м, как в 1 987 году. Я предположил, что «мы близки как минимум к временному рыночному пику если только по неизвестной нам причине рынки не будут расти до бесконечности».
Это предположение оказалось не самым удачным в моей практике. Но фондовый рынок и не был в те дни моей главной заботой. Передо мной стояли другие задачи. Мне нужно было научить сотрудников видеть общую картину технологической революции. Изучая процессы, происходящие в экономике, я пришел к выводу, что мы находимся на пороге исторического прорыва и бум на фондовом рынке — лишь один из его признаков.
Заседание должно было завершиться предложением о дальнейшем снижении ставки по федеральным фондам и голосованием. Однако я сказал членам комитета, что хочу отступить от темы. Уже несколько месяцев, напомнил я, мы наблюдаем за тем, как сказываются на экономике стремительные перемены в области технологий. Затем я добавил: «Я попытался сформулировать общую гипотезу относительно перспектив развития экономики в долгосрочной перспективе и движущих факторов этого развития»,
Я исходил из того, что. когда мир приспособится к новым информационным технологиям и научится ими пользоваться, начнется длительный период низкой инфляции, низких процентных ставок, растущей производительности труда и отсутствия безработицы. «Я наблюдаю за циклами деловой активности с конца 1940-х годов, — сказал я. — Ничего подобного еще не было». Такая глубина и постоянство технологических изменений «отмечается раз в 50-100 лет».
Чтобы наглядно продемонстрировать глобальный характер изменений, я привлек внимание собравшихся к новому явлению: к снижению темпов инфляции во всем мире. Я склонялся к тому, что нынешняя денежно-кредитная политика, выработанная испытанным методом проб и ошибок, может оказаться неработоспособной, по крайней мере на некоторое время.
Подобные рассуждения были очень абстрактными, особенно для рабочего заседания Комитета по операциям на открытом рынке. Никто из сидевших за столом не прокомментировал мои доводы, хотя некоторые из президентов федеральных резервных банков благосклонно кивали в ответ. Большинство членов комитета с облегчением вернулись к знакомой процедуре принятия решения о том, следует ли понижать ставку по федеральным фондам на 0.25%. — ив конечном итоге мы проголосовали за это. Однако один из присутствовавших все же не удержался от того, чтобы не поддразнить меня. «Надеюсь, вы позволите мне согласиться с теми причинами для понижения ставки, на которые вы указали, — произнес он, — без одобрения нарисованной вами картины "дивного нового мира"».
В принципе, этого было достаточно. Я и не рассчитывал на согласие комитета. Пока. Не просил я и предпринимать что-либо. Просто задуматься.
Именно технологический бум послужил толчком к росту популярности концепции созидательного разрушения Шумпетера. Это словосочетание стало расхожим применительно к интернет-компаниям — и действительно, стоило лишь разогнаться до интернет-скоростей, и созидательного разрушения нельзя было не заметить, В Кремниевой долине компании непрерывно трансформировались, появлялись и исчезали. Столпам мира технологий - гигантам вроде AT&T, Hewlett-Packard и IBM — приходилось прилагать немало усилий, чтобы не отстать от общей тенденции, и не всем это удавалось. Билл Гейтс, богатейший человек в мире, распространил среди сотрудников Microsoft бюллетень, в котором появление Интернета сравнивалось с появлением персонального компьютера (которое некогда и заложило основы грандиозного успеха компании). Текст был озаглавлен «Приливная волна Интернета» Ни в коем случае нельзя недооценивать это явление, предупреждал Гейтс, тому, кто не приспособится к нему, придется сойти с дистанции.
Возможно, это не очевидно, но революция в сфере информационных технологий идет уже 40 лет. Началась она после Второй мировой войны с появлением транзистора, за которым последовала целая волна технических новшеств. Компьютеры, спутники, микропроцессоры, интеграция лазерных и оптоволоконных технологий в сфере коммуникаций — все это подготовило почву для внешне внезапного и стремительного развития Интернета.
У бизнеса пояаились колоссальные возможности для сбора и распространения информации. Они ускорили процесс созидательного разрушения, стимулируя перемещение капитала из отсталых или посредственных компаний и отраслей в наиболее конкурентоспособные. Венчурные компании из Кремниевой долины типа Kleiner Perkins и Sequoia, а также инвестиционные банки вроде Hambrecht & Quist быстро добились процветания, помогая этому процессу. Но ни раньше, ни сейчас финансирование не обходилось без активного участия Уолл-стрит.
Более свежие примеры — Google и General Motors. В ноябре 2005 года General Motors объявила о намерении сократить к 2008 году до 30 000 работников и закрыть 12 заводов. Если посмотреть на денежные потоки компании, то видно, что General Motors исторически направляла миллиарды долларов, которые можно было вложить в разработку новых видов продукции или строительство заводов, на финансирование будущих пенсий и медицинского страхования рабочих и пенсионеров. Эти средства, в свою очередь, инвестировались в наиболее перспективные по доходности инструменты, в том числе в сфере высоких технологий. Компания Google демонстрировала головокружительный рост. В 2005 году объем капиталовложений Google увеличился почти втрое и превысил $800 млн. В ожидании дальнейшего роста инвесторы взвинтили совокупную рыночную стоимость акций компании до уровня, в 11 раз превышавшего рыночную стоимость General Motors. При этом пенсионный фонд General Motors являлся владельцем акций Google — хрестоматийный пример перемещения капиталов вследствие созидательного разрушения.
Но почему все-таки информационные технологии оказывают настолько мощное преобразующее воздействие? Компании всеми способами стараются избежать неопределенности. На протяжении большей части XX века руководители бизнеса недостаточно быстро узнавали о меняющихся запросах потребителей, что всегда негативно отражалось на прибыли. Решения принимались на основе сведений многодневной, а то и многонедельной давности.
Большинство компаний подстраховывались, создавая избыточные материальные и кадровые резервы, чтобы в случае необходимости оперативно отреагировать на непредвиденные и неверно спрогнозированные изменения. Обычно такая страховка помогает, но цена ее всегда высока. Бездействующие запасы и персонал обходятся дорого, они не участвуют е создании продукции, не дают дохода и не повышают производительность. Обмен информацией в реальном времени, ставший возможным благодаря новейшим технологиям, значительно снижает непредсказуемость в повседневной работе компаний. Контакт в режиме реального времени между магазином и фабрикой, между грузоотправителями и грузополучателями сокращает сроки поставок и уменьшает время, необходимое для предоставления любых товаров и сведений — от книг до станков, от курсов акций до программного обеспечения. Информационные технологии способствуют высвобождению значительной части избыточных материальных и кадровых ресурсов для продуктивного и выгодного использования.
Еще одним новшеством стала появившаяся у потребителя возможность получать информацию в режиме онлайн, отслеживать процесс отгрузки товара и заказывать практически любые товары с доставкой на следующий день. Кроме того, технологический бум в целом существенно улучшил ситуацию с занятостью. Число появляющихся рабочих мест намного превышало количество исчезающих. Если в 1994 году уровень безработицы в США составлял более 6%. то в 2000-м он опустился ниже 4%. За этот период в экономике появилось 16 млн новых рабочих мест. Однако, как и в случае с телеграфистами в XIX веке, которых я боготворил в юности, современные технологии начали менять характер деятельности белых воротничков. Миллионы американцев столкнулись с оборотной стороной процесса созидательного разрушения. Работа секретарей и клерков стала невозможной без компьютеров, как. впрочем, и работа архитекторов, конструкторов автомобилей и проектировщиков. Угроза потери работы, ранее характерная в основном для голубых воротничков, в 1990-е годы стала актуальной и для высокообразованных, состоятельных граждан. Об этом свидетельствуют данные исследований. Так, в 1991 году в условиях спада деловой активности лишь 25% работников крупных компаний опасалось сокращения штатов. В 1995-1996 годах, несмотря на значительное снижение уровня безработицы, этот показатель вырос до 46%. Понятно, что такая тенденция we могла не привлечь внимания общественности.
Не менее важен, хотя и не столь очевиден, такой аспект, как повышение мобильности рабочей силы. Сегодня американцы меняют работодателей с ошеломляющей скоростью. На 150 млн работающих приходится около 1 млн уволившихся в неделю. Из них около 600 000 увольняются по собственному желанию, а остальные 400 000 — в результате сокращения штатов (чаще всего это происходит при поглощении компаний или же при разукрупнении). В то же время каждую неделю миллион человек находят новую работу или возвращаются из вынужденных отпусков на фоне расширения новых отраслей и появления новых компаний.
Чем стремительнее распространяются технологические новшества и чем сильнее их влияние на нашу жизнь, тем сложнее экономистам определить, какие фундаментальные факторы изменились, а какие остались прежними. Например, в середине 1990-х специалисты до бесконечности спорили о так называемом естественном уровне безработицы (на профессиональном языке — неускоряющий инфляцию уровень безработицы, NAIRU). Так вот, в начале 1990-х годов, исходя из этой неокейнсианской концепции, многие утверждали, что падение безработицы ниже 6,5% приводит к более активным требованиям повысить заработную плату и повышению инфляции.
Видя, что безработица снижается (6% в 1994 году, 5.6% в 1995-м и далее до 4%), многие экономисты стали требовать от ФРС принятия мер по сдерживанию экономического роста. Лично я выступал против такого подхода как внутри ФРС. так и в публичных заявлениях. Если в моделях и историческом анализе «естественный уровень» был вполне уместен, то в режиме реального времени он не поддавался точной оценке. Зтот показатель постоянно пересматривался и, на мой взгляд, не мог служить стабильной базой при прогнозировании темпов инфляции и разработке денежно-кредитной политики. Как бы то ни было, но в первой половине 1990-х годов рост заработной платы оставался незначительным, а инфляция не проявляла признаков ускорения. В конечном счете возобладал здравый смысл, и экономисты начали корректировать показатель естественного уровня безработицы в сторону понижения.
Много позже Джин Стерлинг рассказал о том, какую форму эти дискуссии приобрели в стенах Овального кабинета. В 1995 году высших экономических советников президента Клинтона — Сперлинга, Боба Рубина и Лору Тайсон — стали беспокоить слишком большие надежды президента на развитие высоких технологий. В этой связи они обратились к Ларри Саммерсу с просьбой развеять или подтвердить их опасения. Из наших бесед за завтраками я знал, что Ларри относится к новым технологиям скептически. Кроме того, обычно он общался с президентом только по вопросам международной политики, поэтому Клинтон должен был воспринять его вмешательство как нечто необычное.
Экономисты собрались в Овальном кабинете, и Саммерс выступил с коротким докладом. Он объяснил, почему напряженность на рынке труда должна вызывать замедление роста. Затем к обсуждению подключились и другие. Некоторое время Клинтон слушал, а затем перебил говоривших. «Вы ошибаетесь, — сказал он. — Я понимаю ваши теоретические выкладки, но в условиях развития Интернета и технологий все меняется. Рост наблюдается повсюду». Надо отметить, что Клинтон полагался не только на интуицию. Он. как всегда, успел пообщаться с руководителями компаний и предпринимателями. Да, политики очень неохотно признают, что рост не может продолжаться до бесконечности. Но на этот раз президент, по-видимому, более верно оценивал реальность, чем его экономисты.
Итак, экономика в целом и фондовый рынок в частности продолжали расти. Весной 1996 года объем ВВП увеличивался с головокружительной скоростью, превышающей 6%. Это заставляло усомниться в правильности еще одного общего убеждения, что американская экономика способна успешно развиваться, только если темпы роста не превышают 2,5%. Нам в ФРС пришлось пересмотреть точку зрения на многое. Новшества вроде Интернета и электронной почты стремительно превращались из экзотики в обыденность. Вокруг нас происходило нечто удивительное, и правильно оценить происходящее в реальном времени было непросто,
С того момента, как мы в последний раз снизили учетную ставку, до 24 сентября 1996 года, когда должно было состояться очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке, прошло восемь месяцев. Многие члены комитета склонялись к изменению курса и повышению ставки, чтобы не допустить инфляции. Они хотели опять унести «чашу с пуншем». Прибыли компаний были очень высокими, безработица упала ниже 5,5%, и к тому же изменился очень важный фактор: зарплаты наконец начали расти. Таким образом, в сложившихся условиях риск инфляции был налицо. Если компаниям приходилось платить больше, чтобы удержать или привлечь работников. то раньше или позже они заложат дополнительные затраты в цены на продукцию. Классическая стратегия требовала поднять ставки, с тем чтобы замедлить экономический рост и пресечь инфляцию на корню.
Но что если мы имели дело с не совсем обычным циклом деловой активности? Что если технологическая революция как минимум на время повысила способность экономики к росту? В этом случае увеличение процентных ставок было бы ошибочным.
Конечно, я никогда не забывал об инфляции. Однако я чувствовал, что инфляционный риск сейчас намного ниже, чем полагали многие мои коллеги. На этот раз речь шла не об отказе от традиционного мышления. Я не считал, что классическая теория неверна. На мой взгляд, неверными были данные. Больше всего меня интересовала основная загадка технологического бума; производительность.
Согласно сведениям, поступавшим из Министерства торговли и Министерства труда, уровень производительности (часовая выработка продукции) оставался практически неизменным, несмотря на компьютеризацию. Я не мог понять, в чем тут дело. Год за годом компании вкладывали значительные суммы в настольные компьютеры, серверы, сети, программное обеспечение и прочие высокотехнологичные продукты. На протяжении многих летя работал с руководителями, отвечавшими за капиталовложения, и знал, как принимаются такие решения. Компания никогда не будет заказывать дорогостоящее оборудование, не имея уверенности в том, что инвестиции позволят увеличить производственные мощности или повысить часовую выработку продукции. Если покупка оборудования не обеспечивает того или другого, руководители отказываются от нее. И все же компании продолжали вкладывать деньги в высокие технологии. Это стало очевидным еще в 1 993 году, когда поток новых заказов на высокотехнологичные средства производства начал стремительно увеличиваться после длительного топтания на месте. Динамика сохранилась и в 1 994 году, показывая. что внедрение нового оборудования оказалось прибыльным.
Были и другие, еще более убедительные признаки того, что официальные данные неверны. Большинство компаний демонстрировало рост операционной прибыли, хотя немногие из них повысили цены на продукцию. Это означало, что себестоимость единицы продукции оставалась прежней или снижалась. Основную долю совокупных затрат (т.е. затрат компании в целом) составляет оплата труда. Если оплата труда на единицу продукции не повышается, а темп роста среднечасовой оплаты труда увеличивается, напрашивается вывод: часовая выработка повышается,т.е. производительность реально растет, А раз так, то ускорение инфляции маловероятно.
Хотя я был уверен в правильности анализа, моим коллегам требовалось нечто более убедительное, чем умозрительные заключения. За несколько недель до заседания 24- сентября 1 996 года я попросил сотрудников ФРС детализировать федеральную статистику по производительности и изучить соответствующие показатели по каждой из отраслей. Меня беспокоило явное расхождение между данными Бюро трудовой статистики почасовой выработке в несельскохозяйственных отраслях и соответствующими показателями для отдельных компаний. Сопоставление этих двух наборов данных указывало на отсутствие роста производительности труда в не-корпоративном секторе американской экономики, что было весьма маловероятно.
Когда я просил представить подробную разбивку показателей по отраслям, сотрудники обычно шутили, что председатель опять хочет увидеть «усиление, расширение и углубление». Но в этот раз говорили, что я требую осуществить Манхэттенский проект. Тем не менее они с головой погрузились в цифры и подготовили отчет как раз к очередному заседанию Комитета по операциям на открытом рынке.
В тот вторник мнения в комитете разделились. Несколько человек высказались за немедленное повышение ставок — как выразился пессимистично настроенный Том Мелзер, президент федерального резервного банка Сент-Луиса, пришло время «застраховаться» от инфляции. Остальные предлагали занять выжидательную позицию. Элис Ривлин. которая уже третий месяц была вице-председателем Совета управляющих, охарактеризовала ситуацию в своей обычной шутливой манере: «Мне странно видеть озабоченность присутствующих. Хотелось бы, чтобы нас всегда заботили именно такие проблемы. Да руководитель центрального банка в любой стране мира может только мечтать о подобных статистических показателях!» Согласившись, что мы действительно находимся в «инфляционно опасной зоне», Элис тем не менее отметила, «что роста инфляции пока не наблюдается».
Когда пришел мой черед выступать, я опирался на составленный персоналом отчет. Складывалось впечатление, что правительство уже не первый год занижает фактические темпы роста производительности. Так. абсолютно не учитывается повышение эффективности труда в сфере обслуживания, более того, если верить правительству, то она снижается! Кавдый из членов комитета знал, что такой вывод абсурден: фирмы, оказывавшие юридические, корпоративные, медицинские и социальные услуги, проводили автоматизацию и оптимизацию наряду с производственным сектором и остальными отраслями экономики,
«Никто не может объяснить, почему статистика противоречит очевидным фактам, — сказал я19. — Но у меня есть основания полагать, что риск инфляции слишком мал, чтобы повышать ставки». Я предложил выждать и посмотреть, как будут развиваться события.
Мои аргументы убедили не всех. По существу, споры по поводу характера и степени воздействия информационных технологий на производитель-насть продолжаются до сих пор. Но я посеял сомнения среди собравшихся, и в результате одиннадцатью голосами против одного было принято решение оставить ставку на прежнем уровне — 5,25%.
Мы не повышали ставку еще полгода, после чего подняли ее лишь до 5,5%. и то по другой причине. На протяжении следующих четырех лет ВВП продолжал расти устойчивыми темпами, безработица снижалась, а инфляция оставалась под контролем. Повременив с повышением ставок, мы помогли подготовить почву для самого продолжительного экономического подъема за весь послевоенный период. Зтот пример показывает, почему в денежно-кредитной политике нельзя руководствоваться исключительно эконометрическими моделями. Как сказал бы Джозеф Шумпетер, принцип созидательного разрушения справедлив и для моделей.
Но даже рост производительности не мог объяснить странной динамики цен акций. Четырнадцатого октября 1 996 года промышленный индекс Dow Jones перепрыгнул рубеж 6000 пунктов, «ознаменовав седьмой год самого длительного в истории бычьего рынка», как писала USA Today. Другие американские газеты тоже вынесли эту новость на первые полосы. New York Times отметила, что все больше и больше американцев вкладывают пенсионные сбережения в акции, подтверждая «мнение о том, что фондовый рынок — единственное подходящее место для долгосрочных инвестиций».
Соединенные Штаты превращались в страну акционеров. При сравнении совокупной стоимости акций с размером экономики было видно, как быстро растет фондовый рынок: при объеме $9,5 трлн он составлял 120% ВВП против 60% в 1 990 году, когда по этому показателю Америка уступала лишь Японии, находившейся на вершине рыночного пузыря 1980-х годов,
Я регулярно обсуждал этот вопрос с Бобом Рубином, Происходящее тревожило нас. Буквально за полтора года индекс Dow Jones преодолел три «тысячные отметки» — 4000, 5000 и 6000 пунктов. Несмотря на высокий экономический рост, мы опасались, как бы у инвесторов не закружились головы. Цены акций отражали такие заоблачные ожидания, которые просто не могли реализоваться.
Конечно, фондовый бум благоприятен для экономики, он способствует расширению бизнеса, увеличению расходов потребителей и общему экономическому росту. Даже биржевой крах не является бедствием по определению — крах 1987 года, который представлялся нам катастрофой, практически не имел длительных негативных последствий. Лишь в том случае, когда крушение рынка грозит резким ослаблением реального сектора экономики, у таких людей, как министр финансов и председатель ФРС, появляются основания для беспокойства.
Мы уже были свидетелями подобной катастрофы в Японии, экономика которой еще не оправилась от коллапса 1990 года на рынке акций и недвижимости. Ни Боб, ни я не считали, что США уже достигли стадии пузыря. но мы не могли не видеть того, что все больше граждан и компаний пускаются в рискованные игры с акциями. Поэтому за завтраками мы часто говорили о том, что следует делать, если пузырь раздуется до угрожающих размеров.
Боб полагал, что представители финансовых властей не должны публично говорить о фондовом рынке. Он, как любитель логических обоснований, назвал три причины, по которым этого не следует делать. «Во-первых, мы никогда наверняка не знаем, переоценен рынок или недооценен, — сказал Боб. — Во-вторых, мы не можем идти против рыночных сил, поэтому разговоры на эту тему бесполезны. И, в-третьих, все, что вы скажете, может обернуться против вас. Люди поймут, что. в общем-то, вы знаете ничуть не больше любого другого».
Мне пришлось признать, что эти суждения вполне справедливы. И все же я не мог согласиться с тем, что сама идея публичного выступления по данному вопросу плоха. Фондовый рынок приобретал все большее значение, и отрицать это было нельзя. Как можно говорить об экономике, не упоминая о таком колоссе? Хотя ФРС напрямую не обязана заниматься ситуацией на фондовом рынке, возможные последствия стремительного повышения цен вызывали у меня вполне обоснованную озабоченность. Борясь с инфляцией, мы приняли за аксиому, что стабильность цен принципиально важна для экономического роста. По существу, именно растущая уверенность инвесторов в стабильности способствовала повышению стоимости акций.
Однако понятие стабильности цен не было таким самоочевидным, как могло показаться. Существовало не менее десятка статистических параметров. которые характеризовали цены. Говоря о ценовой стабильности, большинство экономистов имеют в виду цены на продукцию, т.е. стоимость пары носков или литра молока. А как быть с ценами на доходные активы, такие как акции или недвижимость? Что если они начнут расти или колебаться? Надо ли интересоваться стабильностью цен на яйца-подкладыши. а не только на яйца, которые мы покупаем в продовольственном магазине? Не то чтобы я хотел вскочить и воскликнуть: «Фондовый рынок переоценен! Быть беде!» Да я так и не считал. И все же я видел смысл в том, чтобы вынести этот вопрос на обсуждение.
Мысль об иррациональном оптимизме пришла мне в голову однажды утром, когда я, по обыкновению сидя в ванне, писал текст выступления. До сих пор именно в ванне у меня рождаются самые блестящие идеи. Мои помощники уже привыкли перепечатывать мои записи, нацарапанные на влажных желтых листках из блокнота. Их задача намного упростилась после того, как мне подобрали ручку с нерасплывающимися чернилами. Погрузившись в ванну и размышляя об окружающем мире, я чувствую себя счастливым, как Архимед.
Когда в середине октября 1996 года Dow Jones перевалил за 6000 пунктов, я начал искать удобный случай, чтобы поднять вопрос о стоимости активов. Ежегодный обед 8 Американском институте предпринимательства
5 декабря, где я согласился выступить с докладом, был прекрасным шансом. Это крупное официальное мероприятие, на котором обычно присутствуют более тысячи человек, в том числе многие вашингтонские эксперты в области государственной политики. Кроме того, оно проводится в самом начале сезона отпусков, когда люди еще настроены на рабочий лад.
Чтобы представить проблему фондового рынка под нужным углом, я решил связать ее с историей центрального банка США. Начав с Александра Гамильтона и Уильяма Дженнингса Брайана, я постепенно дошел до наших времен и устремил взгляд в будущее. Подобное занудство могло отпугнуть неподготовленную аудиторию, но для Американского института предпринимательства такой подход был тем, что надо.
В моем выступлении тема стоимости активов встречалась буквально в десятке фраз ближе к концу, причем она была тщательно закамуфлирована с помощью профессионального жаргона ФРС. Но когда в день выступления я показал текст Элис Ривлин, слова «иррациональный оптимизм» тут же бросились ей в глаза. «Вы уверены, что хотите сказать именно это?» — спросила она.
Оказавшись на трибуне, я очень внимательно следил за реакцией зала на ключевую часть своей речи.
— ...И в наступающем XXI веке, если будет на то воля конгресса, мы все так же останемся на страже покупательной способности доллара.
Но есть один фактор, осложняющий эту задачу: все труднее точно определить, что именно следует учитывать при определении общего уровня цен...
Какие цены нас интересуют? Безусловно, нас интересуют цены на производимые товары и услуги — наш основной измеритель инфляции. А фьючерсные цены? Или, что еще более важно, цены на такой товар, как акции, недвижимость и другие доходные активы? Важна ли стабильность этих цен для стабильности экономики в целом?
Конечно, устойчивая низкая инфляция снижает неопределенность будущего, а более низкая премия за риск предполагает повышение цен на акции и другие доходные активы. Об этом наглядно свидетельствует обратная связь, которая всегда наблюдалась в прошлом между соотношением «цена/прибыль» и уровнем инфляции.
Но как узнать, когда иррациональный оптимизм начинает вызывать необоснованное взвинчивание стоимости активов, чреватое обвалом и длительной депрессией, пример чего мы видим в Японии в последнее десятилетие? И как учесть этот фактор при разработке денежно-кредитной политики? Нас, как центральный банк, это не беспокоит до тех пор. пока финансовый пузырь не начинает угрожать реальному сектору экономики, объемам производства, рабочим местам и стабильности цен. Крах фондового рынка в 1987 году, например, практически не оказал негативного влияния на экономику. Но нам все же не следует недооценивать сложность взаимосвязей между рынками активов и экономикой.
Конечно, мой слог далек от шекспировского. Было довольно трудно проникнуть в суть этой речи, особенно после пары-тройки бокалов, пропущенных во время перерыва в ожидании обеда. Вернувшись к столику, я шепотом спросил Андреа и сидевших рядом: «Как вы думаете, что из всего этого попадет в новости?» Ответа не последовало. Но я видел, что кое-кто из присутствующих делает пометки в блокнотах. «Председатель ФРС задает вопрос: не слишком ли высоко взлетел рынок?» — такой заголовок появился на следующий день в Walt Street Journal. «Долой иррациональный оптимизм»» — восклицала Philadelphia inquirer. «Скрытое послание не осталось незамеченным» — писала New York Times. Фраза «иррациональный оптимизм» стала символом фондового бума.
Но фондовый рынок не понизился, что лишь усилило мои опасения. Правда, поначалу мое выступление вызвало всплеск продаж на мировых рынках, отчасти из-за опасений, что ФРС повысит ставки. Цены акций упали сначала на рынках Японии, где в момент, когда я произносил речь, было уже утро. Через несколько часов то же самое произошло на рынках Европы и, наконец, на следующий день в Нью-Йорке. Когда открылась Нью-Йоркская фондовая биржа, Dow Jones понизился почти на 1 50 пунктов. Но уже к полудню американские рынки снова пошли вверх, а через день отыграли утраченные позиции. К концу года фондовые рынки США выросли более чем на 20%.
Бычий настрой не проходил. Когда 4 февраля Комитет по операциям на открытом рынке собрался на первое в 1997 году заседание, промышленный индекс Dow Jones приближался к 7000 пунктам. К тому времени по откликам управляющих и президентов банков стало ясно, что комитет разделяет мои опасения относительно фондового пузыря и его способности подстегнуть инфляцию. Вместе с тем экономика оставалась такой же устойчивой, как и полгода назад, когда я выступил против идеи повышения ставок. Но теперь раздувающийся рыночный пузырь заставил меня изменить мнение. Я сказал членам комитета, что не исключаю возможности повышения процентной ставки для сдерживания бычьего рынка. «Мы должны подумать о предупредительных мерах, — сказал я, — а также о том, как их преподнести».
Я подбирал слова очень тщательно — наше заседание записывалось на пленку, и в политическом отношении мы играли с огнем. Закон напрямую не обязывает ФРС принимать меры по сдерживанию фондовых пузырей. Косвенно нам это разрешалось, если динамика акций, по нашему мнению, создавала инфляционное давление. Но сейчас, на фоне высоких экономических показателей, сделать что-либо было очень сложно.
ФРС работает не в безвоздушном пространстве. Если поднять стайки, сославшись на необходимость сдерживания фондового рынка, это спровоцирует политический скандал. Нас обвинят в ущемлении интересов мелких инвесторов, в обесценивании пенсионных сбережений. Я живо представлял себе, как меня будут поджаривать на медленном огне на следующих слушаниях в конгрессе.
Тем не менее мы пришли к выводу, что устранение угрозы раздувания рыночного пузыря соответствует нашей миссии и мы обязаны сделать это, В тот день на заседании я размышлял вслух: «Прежде всего мы должны обеспечить низкий уровень инфляции, низкие премии за риск, низкую стоимость капитала... С точки зрения долгосрочного равновесия высокие рыночные цены лучше низких. Мы пытаемся избежать лишь появления пузырей, которые лопаются, волатильности и тому подобного». Заручившись согласием комитета, в последующие несколько недель я несколько раз намекнул в публичных выступлениях на предстоящее повышение ставок. Это было сделано для того, чтобы предотвратить рыночные потрясения, связанные с неожиданными действиями. На следующем заседании 25 марта мы подняли краткосрочные ставки на 0,25% — до 5,5%. Я подготовил текст сообщения комитета и сам объявил о принятом решении. В сообщении речь шла только о намерении ФРС нейтрализовать экономические факторы, создающие угрозу инфляции, и ни слова не говорилось о стоимости активов и курсах акций. Вскоре после этого в одном из выступлений я так отозвался о принятом решении: «Мы сделали этот небольшой шаг для того, чтобы повысить шансы на сохранение высоких экономических показателей».
В конце марта и начале апреля 1997 года Dow Jones упал примерно на 7%, что соответствовало без малого 500 пунктам. Некоторые сочли это запоздалой реакцией рынка на повышение ставок. Но в течение нескольких недель динамика поменялась, и рынок вновь взметнулся вверх. Он отыграл все утраченные позиции и прибавил еще 10%, так что к середине июня индекс приблизился к 7800 пунктам. Инвесторы преподнесли хороший урок ФРС. Боб Рубин был прав: нельзя сказать наверняка, переоценен рынок или нет. и не стоит бороться с рыночными силами.
На протяжении всего фондового бума (а продолжался он еще три года и существенно приумножил бумажное богатство страны) мы не прекращали заниматься вопросами производительности, ценовой стабильности и другими аспектами новой экономики, как ее стали называть. Мы искали новые пути устранения угрозы рыночных пузырей. Но ставки мы больше не повышали и не пытались сдерживать рост фондового рынка.
Той весной мы с Андреа стали наконец мужем и женой. Она в шутку говорит, что поняла смысл моего предложения лишь с третьего раза, поскольку я всегда изъясняюсь на своем туманном профессиональном языке. Это неправда. На самом деле я предлагал ей выйти за меня замуж пять раз. Однако в Рождество 1996 года смысл моего послания наконец-то до нее дошел и она сказала «да». В апреле 1997 года судья Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург сочетала нас браком. Простая и красивая церемония прошла в одном из наших любимых местечек — отеле Inn at Little Washington в сельской глубинке Вирджинии.
Как всегда, мы отложили свадебное путешествие до лучших времен: слишком насыщенной была в тот период наша профессиональная жизнь. Но друзья настоятельно советовали нам съездить в Венецию. В конце концов, изучив свой график, я предложил приурочить медовый месяц к окончанию международной конференции в швейцарском Интерлакене в июне, через два месяца после нашей свадьбы.
Конференция открылась предсказуемо сухим выступлением Гельмута Коля, посвященном независимости центрального банка и переоценке золотого запаса Германии. Потом нам с Андреа пришлось скрываться от журналистов, пытавшихся получить комментарии по поводу экономических перспектив США и интернет-бума. Зная, что я принципиально не даю интервью, некоторые из них пытались подъехать ко мне через Андреа, полагая, что она. как их коллега, не откажет в помощи. Но Андреа хотела только одного — поскорее уехать. Когда мы улетали из Интерлакена, она в шутку назвала нашу поездку «самым неромантичным медовым месяцем в истории человечества».
А затем была Венеция. Хотя необходимость созидательного разрушения для повышения благосостояния не требует доказательства, чудеснее всего на свете оказываются те места, которых не коснулся ход столетий. До этого я никогда не был в Венеции и. подобно бесчисленному множеству путешественников до меня, был очарован ею. Нам хотелось бродить по городу и делать все, что в голову взбредет. Конечно, когда вы путешествуете в сопровождении охраны, это практически невозможно, но мы старались. Мы обедали в открытых кафе, ходили по магазинам, осматривали церкви и посетили старое еврейское гетто.
В течение веков этот го род-государств о был центром мировой торговли, связывая Западную Европу с Византийской империей и остальным известным на тот момент миром. После эпохи Возрождения торговые маршруты переместились в Атлантику, и Венеция утрэтилз свое значение. Но вплоть до XIX века она оставалась самым изящным городом Европы, центром литературы, архитектуры и искусства. «Что нового на Риальто?» — в этой известной строчке из «Венецианского купца», относящейся к тор говому центру города, до сих пор звучат отголоски венецианского космополитизма.
Сегодня район Риальто во многом выглядит так же. как и в те времена, когда купцы разгружали здесь свои корабли с шелками и восточными пряностями. То же самое можно сказать и о дворцах эпохи Возрождения с великолепными росписями, о площади Святого Марка и о десятках других достопримечательностей, Если бы не современные водные трамвайчики — вапоретто. могло показаться, что вы перенеслись в XVII или XVIII век.
Когда мы прогуливались вдоль одного из каналов, во мне вдруг заговорил экономист,
«Интересно, какой доход получает этот город?» — спросил я у Андреа.
«Да уж, нашел о чем спросить». — рассмеялась она.
«Но ведь весь город — это огромный музей. Только подумай, во что обходится его содержание».
Андреа остановилась и взглянула на меня: «Посмотри лучше, как здесь красиво!»
Конечно, моя жена была права. Но этот разговор помог сформулировать мысль, которая подспудно зрела в моей голове уже давно.
Я понял, Венеция — это символ прямой противоположности созидательного разрушения. Она существует для того, чтобы сохранять прошлое и наслаждаться им, а не творить будущее. Именно в этом дело. Город олицетворяет глубинную человеческую потребность в стабильности и постоянстве, стремление к красоте и романтизму. Популярность Венеции проистекает из внутреннего противоречия, присущего человеку: противоборства желания повысить благосостояние и желания избежать перемен и сопутствующего им стресса.
Уровень благосостояния Америки продолжает повышаться, но динамизм ее экономики оставляет сотни тысяч людей без работы каждую неделю. Неудивительно, что в обществе нарастает желание защититься от воздействия сил рыночной конкуренции, возникает ностальгия по тем временам, когда жизнь текла неторопливо и просто. Ничто так не напрягает людей, как непрерывный шторм созидательного разрушения. Безусловно, в качестве места работы Кремниевая долина выглядит чрезвычайно соблазнительно, но вот для медового месяца она, мягко говоря, не слишком привлекательна.
На следующий вечер в Венеции мы с Андреа слушали концерт Вивальди для виолончели с оркестром, исполняемый на старинных инструментах. Мелодичные звуки наполняли окружающий воздух, подчеркивая атмосферу мрачного величия древней церкви с ее тенями и таинственными изгибами, а толстые каменные стены, казалось, дышали сыростью венецианских каналов. Мне доводилось слышать Вивальди в лучшем исполнении, но никогда я не получал от его произведений такого наслаждения, как в тот вечер.
9. НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
В конце 1990-х годов в экономике наблюдался такой подъем, что по утрам, глядя в зеркало, приходилось говорить себе: «Не забывай, это все временно. Не этого следует ожидать от нашего мира».
Мне было интересно наблюдать за процессами, обусловившими экономическое процветание, и за теми новыми проблемами, которые несло с собой это процветание. Взять, к примеру, профицит федерального бюджета. Впервые это чудо произошло в 199Й году после пяти лет непрерывного сокращения дефицита, начиная с 1 992 года, когда он достиг максимума в $300 млрд. Профицит возник благодаря тем факторам, природу которых, как нам казалось, мы понимаем: бюджетный консерватизм и экономический рост. Но масштабы происходящих изменений нельзя было объяснить только ими. Никто в ФРС, да и в других ведомствах не ожидал возникновения в 2000 году самого значительного после 1948 года профицита (относительно ВВП),
История не раз показывала, что такие подъемы не могут быть и не будут вечными. Но этот экономический бум продолжался дольше, чем можно было предположить. На протяжении 1990-х годов экономика росла более чем на 4% в год. Это означало, что прирост американской экономики составлял примерно $400 млрд в год. Вся экономика бывшего СССР «весила» столько же.
Практически каждая семья оказалась в выигрыше. Джин Сперлинг. экономический советник Клинтона, любил подчеркивать значимость социальных эффектов экономического роста: реальный годовой доход среднестатистической американской семьи с 1993 по 2000 год увеличился на $8000.
Подъем экономики повлиял и на национальный менталитет, изменив наше представление о роли США в мире, В 1980-е и в начале 1990-х годов в американском обществе наблюдались разочарованность и подавленность. Людей беспокоило то, что мы сдаем позиции в пользу Германии, объединяющейся Европы и Японии. Как заметил позднее Ларри Саммерс, эти экономические конкуренты «в большей степени ориентировались на инвестиции и производство, у них было меньше юристов и больше ученых, они были лучше организованы, чем мы».
В 1980-е годы гигантские японские конгломераты (дзайбацу) начали представлять реальную угрозу экономике США: они захватили американский рынок стали и промышленного оборудования, составили жесткую конкуренцию нашим автопроизводителям и наводнили страну бытовой электроникой так, что даже новости мы не могли узнать без телевизоров Sony. Panasonic и Hitachi. Со времен запуска первого советского спутника Америка не чувствовала себя настолько отставшей. Даже окончание холодной войны не изменило настроений в обществе — наша военная мощь внезапно оказалась ненужной, и теперь международный статус страны определялся уровнем ее экономического развития.
Затем начался технологический бум, который повлек за собой массу перемен. Он сделал американскую деловую культуру, основанную на свободном предпринимательстве и широких возможностях, предметом зависти всего мира. Американские информационные технологии выплеснулись на глобальный рынок, как, впрочем, и другие инновации, начиная с кофе латте Starbucks и заканчивая кредитными деривативами. Американские университеты стали местом притяжения студентов со всего мира. Метаморфозы, через которые прошли Соединенные Штаты в процессе модернизации национальной экономики, — два десятилетия болезненных перемен, связанных с дерегулированием, разукрупнением и понижением торговых барьеров, — принесли свои плоды. Теперь, когда Европа и Япония сползли в экономическую депрессию, в США наблюдался подъем.
Возникновение профицита федерального бюджета стало значительным событием. «Нам всем нужно вернуться на рабочие места и пересчитать налоговые прогнозы», — сказал на заседании Комитета по операциям на открытом рынке в мае 1997 года один из руководителей федерального резервного банка Нью-Йорка после сообщения о том, что доходы бюджета в этом году превышают прогноз на $50 млрд. Экономисты из Административнобюджетного управления, Бюджетного управления конгресса и ФРС были сбиты с толку. Экономический подъем был не настолько высок, чтобы объяснить такой рост налоговых поступлений. Мы предположили, что определенную роль здесь играет фондовый рынок, и я призвал сотрудников ФРС ускорить работу по оценке роста налогооблагаемых доходов населения в результате исполнения полученных опционов и реализации прироста капитала, Опционные программы были главным инструментом, используемым высокотехнологичными компаниями для привлечения и удержания сотрудников. Они распространялись даже на клерков и секретарей. Было очень трудно определить истинные размеры этого нового источника доходов. Время подтвердило правильность догадки, но в тот момент экономисты могли сделать лишь одно — удостовериться, что наши предположения не лишены смысла, В 1997 году дефицит федерального бюджета сократился до $22 млрд, что было несущественно при бюджете $1,6 трлн и ВВП $10 трлн.
Президентская администрация неожиданно обнаружила, что имеет дело с бюджетным профицитом, который возрастал с той же скоростью, с какой сокращался дефицит. Не успел президент Клинтон объявить о сбалансировании бюджета в 1 998 году, как его помощникам пришлось думать о том. что делать с профицитом. Хлопоты, конечно, были приятными, но успех, как и прочие аспекты бюджетной политики, должен быть плановым. Это особенно важно в Вашингтоне, где политики, узнав о существовании лишнего миллиарда долларов, тут же находят массу вариантов его применения и попутно вытягивают не менее $20 млрд. А профицит и вправду был внушительным: согласно составленному в 1998 году прогнозу Бюджетного управления конгресса, за десять лет он должен был достичь в совокупности $660 млрд1.
Как только новость была обнародована, обе партии стали приписывать заслуги себе. «Финансово-бюджетная политика республиканцев, основанная на контроле за расходами, сокращении правительственного аппарата и налоговых льготах, позволила стране перейти от дефицитного бюджета к профицитному всего за три года», — заявил лидер «Великой старой партии». конгрессмен Джон Бейнер из штата Огайо, Президент Клинтон, в свою очередь, официально объявил о профиците на специальной церемонии в Белом доме, где присутствовали только лидеры Демократической партии {республиканцев туда не допустили). Ни один из республиканцев, напомнил собравшимся президент, не проголосовал за предложенный нами в 1 993 году проект сокращения бюджетного дефицита. «Иначе, — добавил он. — они бы заслужили прзво находиться сейчас здесь»,
Как и следовало ожидать, возникли серьезные разногласия по поводу того, как лучше истратить дополнительные средства. Либерально настроенные демократы хотели направить деньги на социальные программы, которые, по их словам, годами испытывали недостаток финансирования. Консервативные республиканцы предлагали «вернуть» профицит в виде снижения налогов. Билл Арчер, республиканец из Техаса и мой хороший друг, который был председателем Бюджетного комитета палаты представителей, «получил приз» за самое образное высказывание в этом споре, «Из~ за небывало высоких налогов, — шутливо заметил он. — профицит разбушевался и вышел из берегов».
Финансовые консерваторы вроде меня и Боба Рубина считали, что ни сокращение налогов, ни увеличение расходов не являются правильным решением. На наш взгляд, дополнительные средства следовало использовать для погашения государственного долга перед населением. На тот момент он составлял $3,7 трлн. которые накопились за четверть века существования бюджетного дефицита (последний раз профицит наблюдался в 1969 году).
Наэванные Бюджетным управлением конгресса $660 млрд являлись суммой прогнозных показателей на период 1999-2008 годов. Белый дом. со своей стороны, считал, что совокупный профицит должен достичь $1.1 трлн. Отчасти разница в прогнозах объяснилась тем. что оценка Бюджетнпгп управления конгресса опиралась но текущие поступления, а прогнозы администрации учитывали результаты реализации ее политики.
Я, как человек, долгое время занимавшийся реформированием системы социального обеспечения, прекрасно знал, что в недалеком будущем на социальное и медицинское обеспечение стареющего поколения «беби-бумеров» потребуются триллионы долларов. Погасить эти обязательства авансом было практически невозможно. Наиболее эффективной политикой представлялось погашение долга, т.е. создание условий для появления дополнительных сбережений, которые, в свою очередь, могли обеспечить рост национального производства и доходов федерального бюджета к тому времени, как представители послевоенного поколения достигнут пенсионного возраста.
Погашение долга имело еще одно преимущество: предельную простоту. До тех пор, пока конгресс не примет закон, разрешающий использование средств на другие нужды, все дополнительные доходы государственной казны можно было автоматически направлять на погашение долга. Если, конечно, конгресс не наложит руку на сундук с деньгами. Выражаясь более дипломатично, как я это сделал перед Бюджетным комитетом сената, совокупный национальный долг был так велик, что правительству потребуется не один год на его погашение. «Даже если профицит будет наблюдаться продолжительное время, я не представляю себе, каким образом он может повредить экономике, — сказал я. — Не следует рассматривать профицит как экономическую угрозу. Это совершенно не так»20. Однако в одном ряду с сокращением налогов и увеличением расходов выплата долга выглядела бледно. Я гадал, сможет ли Клинтон (даже если захочет) удержаться в рамках политики финансово-бюджетного консерватизма, которая была характерна для его первого срока пребывания в должности.
Признаюсь, мне не удалось найти ответа на этот вопрос, но я не мог не восхититься тем решением, которое предложили Клинтон и его команда. Они выдвинули политически неотразимый аргумент, позволяющий вывести профицит из игры: связали его с системой социального обеспечения. Президент выложил карты на стол, выступая с очередным посланием о положении в стране в 1998 году:
— Так что же нам делать с этим ожидаемым профицитом? Я могу ответить на этот вопрос четырьмя словами: сохранить систему социального обеспечения. Сегодня я предлагаю зарезервировать профицит в полном объеме до тех пор, пока мы не сделаем все необходимое для укрепления системы социального обеспечения в преддверии XXI века.
Вскоре выяснилось, что суть «необходимых мер» Клинтона заключалась а направлении львиной доли избыточных бюджетных средств на погашение долга. Таким образом президент предотвратил бурные споры, которые неизбежно возникли бы, предложи он такое впрямую. «Блестяще, — сказал я Джину Сперлингу. — Вы сумели сделать погашение долга политически привлекательным».
В последующие годы бюджетный профицит продолжал расти: с $70 млрд в 1998-м до $124 млрд в 1999 м и $237 млрд в 2000 году. Все это время конгресс не раз пытался получить доступ к нему. Летом 1 999 года республиканцы выдвинули план сокращения налогов почти на $800 млрд в течение 10 лет, и Банковский комитет сената запросил мое мнение. Я вынужден был сказать, что предложенный проект лишен долгосрочной экономической перспективы {по крайней мере в том виде, в каком он был представлен). «Думаю, нам следует воздержаться от сокращения налогов, — заявил я, — во многом потому, что наличие профицита очень позитивно влияет на экономику. Это очевидный факт». Были и другие аргументы. Во-первых, хотя прогнозный размер профицита на ближайшее десятилетие достиг $3 трлн, неопределенность экономической ситуации заставляла усомниться в этой сумме. «С тем же успехом можно ожидать прямо противоположной динамики», — сказал я. Во-вторых, при существующих темпах экономического роста дополнительное стимулирование в виде снижения налогов могло перегреть экономику. С другой стороны, заметил я, «ничего не случится», если с уменьшением налогов немного подождать.
Мои аргументы попали в газетные заголовки, но не убедили конгресс. Неделю спустя законопроект был принят, однако президент наложил на него вето. «Америка сейчас движется в правильном направлении, а этот закон отбрасывает нас назад, к порочной политике прошлого», — сказал Клинтон.
Консервативное отношение президента Клинтона к проблеме долга могло оказать еще более значительное влияние на расстановку национальных приоритетов. Однако эффект оказался смазанным из-за скандала вокруг Моники Левински, чье имя всплыло в новостных репортажах буквально за несколько дней до того, как президент представил свой подход к вопросу профицита. Постепенно скандал разгорался, в прессе появлялись все новые подробности, но я относился к ним скептически. «Эти россказни совершенно абсурдны, — говорил я друзьям. — Мне не раз доводилось бывать в Белом доме, в том самом месте между Овальным кабинетом и личной столовой. Там постоянно курсируют сотрудники и охрана. Уединиться там невозможно». Когда выяснилось, что это все-таки правда, я все равно не мог понять, как президент пошел на такой риск. История казалась абсолютно нехарактерной для того Вилла Клинтона, которого я знал, и это расстраивало меня. Зффект случившегося был разрушительным — чего стоили, к примеру, два заголовка, стоящие рядом на сайте CNN: «У Левински возьмут образцы почерка и отпечатки пальцев» — и тут же: «Клинтон объявил об ожидаемом профиците бюджета а $39 млрд».
Если в Америке наблюдался экономический бум, то в других государствах происходили потрясения. После окончания холодной войны и практически полного исчезновения плановой экономики развивающиеся страны искали пути привлечения иностранных инвестиций, укрепляя защиту права собственности и открывая для иностранных вложений все больше секторов. Однако на фоне этих инициатив вырисовывалась тревожная картина: американские инвесторы, несмотря на высокий прирост капитала в условиях экономического бума в США, с энтузиазмом ринулись на незнакомые развивающиеся рынки в надежде диверсифицировать вложения. Не отставали от них и крупные банки, стремившиеся повысить доходность операций кредитования, поскольку в США процентные ставки приближались к историческим минимумам. Для привлечения капиталов и расширения торговли некоторые развивающиеся страны привязали свою национальную валюту к доллару по фиксированному курсу. По замыслу это должно было обеспечить американским и другим иностранным инвесторам защиту от валютного риска. Тем временем заемщики долларов конвертировали их в национальную валюту и занимались кредитованием на территории своих стран под более высокий процент. Они рассчитывали на то, что после погашения кредита смогут конвертировать полученные средства в доллары по фиксированному курсу и погасить собственные долларовые займы без потерь на разнице курсов. Однако, когда прозорливые рыночные игроки, не верящие в существование добрых фей, поняли, что развивающиеся страны способны поддерживать фиксированный курс лишь до поры до времени, и начали продавать национальную валюту за доллары, игра окончилась. Центральные банки, пытавшиеся удержать фиксированный курс, очень быстро исчерпали свои долларовые резервы.
Такая последовательность событий привела к распространению так называемого азиатского вируса — цепочки финансовых кризисов, которая началась обвалом тайского бата и малайзийского ринггита летом 1997 года и переросла в угрозу для мировой экономики. Вслед за валютным кризисом в Таиланде и Малайзии начался глубокий спад. Серьезно пострадали и такие страны, как Гонконг Филиппины и Сингапур. В Индонезии с населением 200 млн человек рухнула рупия, произошел крах фондового рынка, а последовавший за этим экономический хаос привел к продовольственным бунтам, повальной нищете и в конечном счете к отставке президента Сухарто.
Как и в случае мексиканского кризиса два года назад, МВФ предложил свою финансовую поддержку. Боб Рубин, Ларри Саммерс и Министерство финансов вновь возглавили штаб по выработке ответных действий США. Федеральная резервная система опять стала консультантом. Я вступил в активную игру только в ноябре, когда один из руководителей Банка Японии позвонил в ФРС и предупредил, что следующей станет Корея. «Плотина трещит по швам», — сказал он. объяснив, что японские банки утратили доверие к Корее и намерены вот-вот прекратить возобновление кредитов на десятки миллиардов долларов.
Это известие шокировало всех. Символ беспрецедентного азиатского роста, Южная Корея занимала 11-е место в мире го размеру экономики, вдвое превосходя Россию. Успехи Кореи были столь впечатляющими, что ее перестали считать развивающейся страной — Всемирный банк официально внес ее в список развитых государств. И хотя эксперты рынка знали о недавно возникших там проблемах, корейская экономика по-прежнему демонстрировала устойчивый рост по всем показателям. Кроме того, центральный банк Кореи располагал долларовым резервом в размере $25 млрд, что было надежной защитой от «азиатского вируса». Во всяком случае так нам казалось.
Мы не знали, что правительство затеяло игру с этим резервом. Оно потихоньку продало или раздало в виде кредитов большую часть этих долларов корейским коммерческим банкам, которые использовали их для сомнительных кредитных операций. Когда в День благодарения Чарли Сигман. один из наших ведущих международных экономистов, позвонил представителю корейского центрального банка и спросил, почему они не выбрасывают на рынок резервы, тот ответил: «А у нас их нет». То, что считалось резервом, уже давно не существовало.
Чтобы выпутаться из этой передряги, понадобилось несколько недель. Оперативная группа Рубина работала практически круглосуточно, а МВФ собрал пакет финансовой поддержки в размере $55 млрд— самая крупная сумма финансовой помощи за всю его историю. Сделка потребовала со-действия вновь избранного президента Кореи Ким Дэ Чжуна, который сразу же после вступления в должность решил провести жесткую экономическую реформу. Тем временем Министерство финансов и ФРС уговаривали десятки крупнейших мировых банков повременить с требованием погашения корейских кредитов. Впоследствии Боб сказал по этому поводу: «Пожалуй, нам все же удалось слегка потревожить сон министров финансов и глав центральных банков».
Предоставление финансовой помощи в таких масштабах всегда создает скверный прецедент: сколько еще раз инвесторы будут вкладывать деньги в активно развивающиеся, но неустойчивые страны в расчете на то, что в нужный момент МВФ придет им на помощь? Это одна из разновидностей морального риска, как его называют страховые компании, т.е. риска предоставления защиты от рисков. Чем мощнее система гарантий, гласит теория, тем выше степень безрассудства, с которым ведут себя отдельные люди, компании и правительства.
И все же дефолт Южной Кореи привел бы к еще более печальным последствиям, намного более печальным. Дефолт такой крупной экономики, как корейская, почти наверняка дестабилизировал бы мировые рынки. Крупнейшие банки Японии и других стран могли обанкротиться, вызвав еще более масштабные потрясения. Оглушенные инвесторы ушли бы не только из Юго-Восточной Азии, но и из Латинской Америки и других развивающихся регионов, а это привело бы к прекращению экономического роста. Кредитоспособность промышленно развитых стран также могла пострадать. И это не считая военного риска, характерного для ситуации с Южной Кореей. Только за то, что Боб Рубин и Ларри Саммерс справились с этим кризисом, их можно включить в когорту лучших министров финансов всех времен и народов.
В Соединенных Штатах экономика продолжала расти по мере проникновения Интернета в повседневную жизнь людей. Персональный компьютер становился такой же обыденной и необходимой вещью в доме, как телефон, холодильник и телевизор. Он стал средством передачи новостей: летом 1997 года миллионы людей в режиме реального времени смотрели потрясающие виды, которые передал Pathfinder, первый американский космический зонд, совершивший успешную посадку на Марсе за последние 20 лет. Кроме того, компьютер дал возможность совершать покупки, не выходя из дома: в 1998 году система электронных продаж приобрела необычайную популярность, и люди устремились на сайты типа Amazon, eToys и eBay, особенно в сезон отпусков.
Но «азиатский вирус» еще не ушел в прошлое. Мрачный сценарий, которого мы опасались в период корейского кризиса, повторился восемь месяцев спустя: в августе 1998 года Россия объявила дефолт по своему колоссальному долларовому долгу.
Как и в азиатских странах, российский кризис стал следствием сочетания чрезмерно активного инвестирования со стороны иностранцев и безответственного управления со стороны национальных руководителей. Толчком послужило падение цен на нефть, которые снизились до $11 за баррель, достигнув двадцатипятилетнего минимума на фоне сокращения спроса в связи с экономическими последствиями азиатского кризиса. Поскольку нефть являлась основным продуктом российского экспорта, такое
развитие событий создало серьезные проблемы для Кремля: Россия в одночасье утратила способность выплачивать проценты по долгам,
В последний раз я был в Москве за семь лет до этого, накануне распада Советского Союза. Я все еще помнил о радужных надеждах младореформа-торов и о том убожестве, которое наблюдалось на улицах. А теперь ситуация стала еще хуже (если это только возможно). Работая в вакууме, который остался после крушения системы централизованного планирования, экономисты из команды Бориса Ельцина безуспешно пытались сформировать стабильные рынки продовольствия, одежды и других товаров первой необходимости. И население, и предприятия в основном работали «в черную», в результате чего правительство не могло собрать налоги даже для обеспечения самых насущных потребностей и погашения долгов. Значительная часть национальных ресурсов и благ оказалась в руках немногочисленных олигархов, а галопирующая инфляция усиливала обнищание десятков миллионов россиян с ограниченными доходами. Правительство оказалось неспособным обеспечить защиту права собственности и верховенство закона или хотя бы признать необходимость этого.
Ввиду углубления кризиса МВФ вновь проявил готовность предоставить финансовую помощь и в июле сообщил о выделении $23 млрд. Но как только Россия получила первые транши, ее парламент дал понять, что не намерен принимать обычные условия МВФ относительно повышения эффективности финансово-бюджетной политики и проведения экономических реформ. В ответ на этот демонстративный вызов МВФ решил, что дальнейшее финансирование будет пустой тратой денег: при таком подходе оно лишь отсрочит, а то и усугубит неизбежный дефолт. К середине августа российский центральный банк израсходовал более половины своих валютных резервов. Судорожные переговоры в последнюю минуту ни к чему не привели, и 26 августа Центробанк отказался от поддержки курса рубля За один день рубль упал по отношению к доллару на 38%. Пакет финансовой помощи МВФ был отозван.
Дефолт поверг в шок инвесторов и банки, которые вливали деньги в Россию, невзирая на очевидные риски. Многие из них исходили из предположения. что Запад обязательно придет на помощь обанкротившейся супердержаве — хотя бы потому, что, как тогда говорили, Россия была «слишком ядерной. чтобы остаться без поддержки». Эти инвесторы просчитались. Соединенные Штаты и их союзники спокойно и планомерно помогали правительству Ельцина держать ядерные боеголовки под замком. Но русские, как оказалось, управляют своими арсеналами куда лучше, чем экономикой. По зрелом размышлении президент Клинтон и другие лидеры пришли к мнению, что отзыв средств МВФ не приведет к повышению ядерной угрозы, и одобрили решение открыть кингстоны. Все мы затаили дыхание.
Как и следовало ожидать, ударная волна российского дефолта потрясла Уолл-стрит намного сильнее, чем кризисы в странах Азии. Только за последние четыре августовских дня индекс Dow Jones потерял свыше 1000 пунктов, т.е. 12%. Долговые рынки отреагировали еще болезненнее, поскольку инвесторы бросились искать спасения в казначейских облигациях. Банки приостановили операции кредитования и повысили процентные ставки по коммерческим кредитам.
За этими проявлениями нестабильности маячило нарастающее беспокойство по поводу того, что после семи лет роста экономический подъем в США подходит к концу. Опасения, однако, были преждевременными. Как только мы справились с последствиями российского кризиса, экономика продолжила рост и успешно развивалась на протяжении еще двух лет. до конца 2000 года, когда наступила другая фаза цикла деловой активности. Но я видел грядущую опасность и считал, что необходимо ее предотвратить.
В начале сентября состоялось мое давно запланированное выступление перед студентами-экономистами Калифорнийского университета в Беркли. Я собирался говорить о взаимосвязи между развитием технологий и экономикой. включая такие вопросы, как производительность, инновации и цикличность. Но незадолго до дня выступления стало ясно, что после недавних событий в России нельзя ограничиваться внутриэкономическими проблемами. Проблема Америки была не в том, что ее экономика выдохлась, а в том, что технологическая революция и стремительная глобализация породили дисбаланс, который создавал напряжение в мировых финансовых системах.
В своей речи я поднял вопрос о влиянии потрясений за рубежом на национальную экономику. До сих пор, сказал я, мы не ощущали на себе никаких последствий, кроме ограничения цен и сокращения спроса на американские товары. Но по мере нарастания кризисных явлений в других странах эти явления все сильнее будут сказываться на наших финансовых рынках и экономике 8 целом. Это обстоятельство омрачало экономические перспективы.
«США физически не могут оставаться оазисом процветания посреди мира, в котором все сильнее проявляются негативные тенденции». — сказал я. Нам никогда не извлечь максимальной выгоды из технологической революции, если другие государства тоже не воспользуются ее результатами. Мы не должны оставлять без внимания уровень жизни в каждой из стран, с которой поддерживаем экономические отношения. Возможно, этот вывод стал неожиданностью для многих из тех, кто имел возможность наслаждаться последними достижениями технологической революции.
Не думаю, что мое замечание насчет «оазиса процветания» произвело в тот день особое впечатление. Но эта мысль была ориентирована на долгосрочную перспективу. Я говорил не о ближайших месяцах или годе. Стремление к самоизоляции в американцах столь сильно, что они до сих пор от него не избавились. В обществе бытует мнение, что раз Америка лучше других, то нам следует радоваться этому в одиночку.
Выступая перед студентами в Беркли, я сказал, что кризис в России заставил ФРС серьезно пересмотреть позицию по многим вопросам. Нас так поглотила проблема внутренней инфляции, что мы не обратили внимания на признаки нарастающего кризиса международной финансовой системы. Именно эту часть моего выступления подхватила пресса: на Уолл-стрит мое высказывание было однозначно воспринято как намек на то. что Комитет па операциям на открытом рынке рассматривает возможность понижения процентных ставок.
Угроза глобальном рецессии казалась мне все более реальной. И я был убежден, что ФРС не сможет справиться с ней самостоятельно. Финансовое давление наблюдалось по всему миру, а это предполагало совместные усилия по его смягчению. Боб Рубин разделял мою точку зрения, В кулуарах мы начали убеждать министров финансов и глав центральных банков государств «Большой семерки» в необходимости координирования ответных мер. Спокойно, но твердо мы настаивали на увеличении объема ликвидности и снижении процентных ставок во всех развитых странах мира.
Некоторых наших коллег было очень трудно убедить. Но в конце концов, после закрытий европейских рынков 14 сентября, представители «Большой семерки» опубликовали тщательно сформулированное заявление. «Баланс рисков в мировой экономике сместился», — говорилось в нем. Далее подробно описывались изменения политики «Большой семерки», переход от самостоятельной борьбы с инфляцией к совместному обеспечению роста. В своих мемуарах Рубин красноречиво отметил, что эти несколько слов, какими бы бессодержательными они ни казались, ознаменовали кардинальную перестройку мировой финансовой системы: «В каждой войне используется свое оружие, и когда речь идет о волатильных финансовых рынках и нервных инвесторах, любой нюанс коммюнике, подписанного финансовыми руководителями семи крупнейших промышленных держав мира, может иметь решающее значение».
Поначалу эти шаги не смягчили ощущения надвигающейся катастрофы. Последней жертвой финансовой эпидемии стала Бразилия, и большую часть сентября Рубин и Саммерс провели, разрабатывая совместна с МВФ программу экстренной помощи. Тем временем глава федерального резервного банка Нью-Йорка Билл Макдоно взялся за нейтрализацию послед-ствий краха одного из самых крупных и успешных хедж-фондов Уоллстрит - Long-Term Capital Management (LTCM).
Даже в Голливуде невозможно было придумать более драматичной истории крушения финансового поезда. Несмотря на свое скучное название, LTCM являлся престижным, известным и стабильным предприятием, которое находилось в Гринвиче (штат Коннектикут). Фонд демонстрировал выдающуюся доходность, управляя инвестиционным портфелем стоимостью $125 млрд в интересах состоятельных клиентов. В числе партнеров LTCM были два нобелевских лауреата в области экономики — Майрон Шоулз и Роберт Мертон, чьи ультрасовременные математические модели являлись основой финансовой деятельности фонда. LTCM специализировался на рискованных высокоприбыльных арбитражных сделках с американскими, японскими и европейскими облигациями, используя кредиты банков, объем которых превышал $120 млрд. Кроме того, фонд имел позиции стоимостью порядка $1.25 трлн в финансовых деривативах — экзотических контрактах, которые лишь частично отражались в балансе. Некоторые из них были чисто спекулятивными, а некоторые использовались для хеджирования портфеля LTCM от всех мыслимых рисков. Забегая вперед, отмечу, что даже после того, как дым рассеялся, никто не мог точно определить размер долговой нагрузки LTCM к началу катастрофы. По примерным оценкам, на каждый доллар собственного капитала фонда приходилось $35 заемных средств.
Российский дефолт оказался тем айсбергом, который потопил этот финансовый «Титаник». События в России настолько изменили ситуацию на рынках, что даже нобелевские лауреаты оказались бессильными. Доходы LTCM сократились так внезапно, что его хитроумная защита просто не успела сработать. Практически за день на глазах у ошеломленных учредителей LTCM в трубу вылетели почти $5 млрд.
Федеральный резервный банк Нью-Йорка, в обязанности которого входит поддержание стабильности на Уолл-стрит, внимательно следил за мертвой петлей LTCM. В принципе, мы не помогаем компаниям, которые совершают роковые ошибки. Однако на рынках царила нервозность, и Билл Макдоно опасался, что выбрасывание на рынок активов такой крупной организации, как LTCM, приведет к обвалу цен. Зто могло вызвать лавину банкротств. Поэтому, когда он сообщил о своем решении вмешаться в ситуацию, радости я не испытал, но вынужден был согласиться.
Историю о том, как Макдоно «спас» LTCM. рассказывали столько раз, что она стала одной из легенд Уолл-стрит. Билл сделал буквально следующее: собрал руководителей 16 крупнейших мировых банков и инвестиционных компаний в одном кабинете, сказал, что они наверняка найдут выход из ситуации, если осознают масштабы убытков, которые им грозят в случае поспешной распродажи активов LTCM. и ушел. Через несколько дней после напряженных переговоров руководители банков выделили на поддержку LTCM $3,5 млрд. Это дало фонду время, чтобы осуществить ликвидацию в нормальном режиме.
Из средств налогоплательщиков не ушло ни цента (разве что на кофе и бутерброды), но вмешательство ФРС задело популистов за живое. «Этот фонд слишком большой, чтобы его банкротить: федеральный резервный банк Нью-Йорка спасает LTCM», — кричал заголовок на первой странице New York Times. Несколько дней спустя, 1 октября, Макдоно и меня вызвали в Банковский комитет палаты представителей и потребовали объяснить, с какой стати, как выразилась USA Today; «федеральная структура взяла на себя роль организатора и посредника в спасении частной фирмы, обслуживающей миллионеров». Критические замечания высказывали представители обеих партий. Конгрессмен Майкл Касл, республиканец из штата Делаеэр, сказал полушутя» что его личные вложения в совместные фонды и недвижимость тоже не очень результативны, но «мне почему-то никто не помогает», А конгрессмен-демократ Брюс Венто из Миннесоты посетовал, что мы защищаем богачей от негативных воздействий рыночных сил, а о «маленьких людях» забываем. «По-видимому, существуют двойные стандарты, — сказал он, — Одни для Мэйн-стрит21, другие для Уолл-стрит».
Да, мы действительно сказали банкам, участвовавшим в поддержке LTCM, что они могут спасти собственные деньги, если посодействуют упорядоченной ликвидации фонда- Но это не финансовая помощь фонду. Банки, действуя в собственных интересах, сохранили свои деньги, а также, надо думать, и деньги миллионов граждан как с Мэйн-стрит, так и с Уолл-стрит
Наблюдая за признаками лихорадки в финансовом мире, я испытывал нарастающее беспокойство по поводу ее возможных последствий для экономики. На своем выступлении 7 октября, когда процентная ставка по тридцатилетним казначейским облигациям упала до минимума за последние 30 лет, я отказался от заготовленной речи и заявил аудитории, состоявшей из экономистов: «Я наблюдаю за американскими рынками вот уже 50 лет, но ничего подобного не видел». В частности, я отметил, что инвесторы на долговом рынке ведут себя очень странно: они готовы платить намного дороже за новые, самые ликвидные казначейские облигации, хотя более старые, но менее ликвидные бумаги так же надежны. Эта погоня за ликвидностью не имеет себе равных и обусловлена не здравым смыслом, а паническими настроениями. «Инвесторы говорят: "Я хочу уйти с рынка. Мне не важно, рискованны вложения или нет. Я больше не могу. Я просто хочу выйти из игры"». Экономисты прекрасно понимали, о чем я говорю. Паника на рынке подобна жидкому азоту — она очень быстро замораживает все вокруг. И действительно, как показывал анализ ФРС, банки все неохотнее предоставляли кредиты.
Членов Комитета по операциям на открытом рынке не пришлось долго убеждать в необходимости понижения процентных ставок. С 29 сентября по 17 ноября мы делали это три раза подряд. Европейские и азиатские центральные банки, следуя новым обязательствам в рамках «Большой семерки», тоже снизили ставки. Постепенно это лекарство подействовало. Паника на мировых рынках улеглась, и через полтора года после начала азиатских кризисов Боб Рубин наконец смог спокойно провести отпуск с семьей.
Реакция ФРС на кризис в России ознаменовала постепенный отход от догм классического подхода к выработке политики. Вместо того чтобы ориентироваться на единственный наиболее надежный прогноз, мы выстраивали свои действия, опираясь на ряд возможных сценариев. Когда в России произошел дефолт, математические модели ФРС с высокой вероятностью показывали, что американская экономика продолжит устойчивый рост и без нашего вмешательства. Тем не менее процентные ставки было решено снизить из-за незначительного, но реального риска: дефолт мог слишком сильно ударить по мировым финансовым рынкам и заметно сказаться на американской экономике. Для нас это было ново: мы решили, что такой маловероятный, но чрезвычайно нежелательный сценарий представляет более значительную угрозу экономическому процветанию, чем усиление инфляции в результате смягчения кредитной политики. Подозреваю, что ФРС и раньше принимала решения, руководствуясь аналогичными мотивами, но никогда подобный подход не возводился в систему.
Постепенно регулярное взвешивание плюсов и минусов стало преобладать при разработке нашей политики. Мне это нравилось, потому что такая методика была более универсальной по сравнению с разовыми решениями. которые мы принимали раньше в каждом отдельном случае. Она позволяла выйти за пределы эконометрических моделей и учесть более широкие, хотя и менее математически точные гипотезы относительно движущих факторов мировой экономики. Кроме того, эта методика давала возможность использовать исторический опыт. Например, железнодорожный бум 1870-х годов мог дать нам ключ к пониманию рыночных процессов периода интернет-бума.
Кое-кто из экономистов по-прежнему считает такой подход к денежно-кредитной политике слишком вольным, чересчур усложненным и интуитивным. Они хотят, чтобы ФРС устанавливала процентные ставки на основе формализованных критериев и правил (например, ориентируясь на оптимальный уровень безработицы или инфляции). Я согласен с тем, что разработать разумную политику невозможно без применения глубокого анализа. Но уж слишком часто нам приходится иметь дело с неполными и неверными данными, необоснованным человеческим страхом и нечеткими законодательными нормами. Какими бы изящными ни казались современные эконометрические модели, они не годятся для выработки рекомендаций по денежно-кредитной политике. Глобальная экономика стала слишком сложной. И методы, которыми мы пользуемся при разработке решений, должны меняться в зависимости от ее сложности.
Несложно было догадаться,, что последний год уходящего тысячелетия станет самым безумным и головокружительным годом для национальной экономики. Эйфория, захлестнувшая американские рынки в 1999 году, отчасти объяснялась тем, что кризисы стран Юго-Восточной Азии нас не коснулись, «Раз уж мы преодолели такое, — думали люди, — то впереди у нас безоблачное будущее».
Этот оптимизм был таким заразительным прежде всего потому, что он имел определенные основания. Развитие технологий, высокий потребительский спрос и другие факторы обеспечивали быстрый рост экономики. Однако, хотя новые возможности и вправду были реальными, они вызывали гипертрофированный оптимизм. Страницы газет и журналов пестрели статьями о новоиспеченных «высокотехнологичных» набобах. Глава одной из крупнейших консалтинговых компаний попал в заголовки, обеспечив раскрутку продовольственного интернет-магазина Webvan. Первоначальное публичное размещение акций принесло ему $375 млн. Какие-то лондонские законодатели мод. о которых я никогда не слышал, создали нечто под названием Boo.com. Этот веб-сайт, претендующий на роль мирового лидера по продажам ультрамодной спортивной одежды, принес своим владельцам $135 млн. Казалось, вокруг не было таких, у кого дядя или сосед не сколотил состояния на акциях интернет-компаний. Федеральная резервная система. сотрудникам которой запрещается участвовать в финансовых спекуляциях во избежание конфликта интересов, оставалась одним из немногих мест в США. где в лифте не обсуждались горячие акции. Забегая вперед, скажу, что Webvan и Boo.com, подобно десяткам других новоиспеченных интернет-компаний, лопнули в 2001 и 2000 годах соответственно.
Интернет-бум стал неотъемлемой частью выпусков новостей не только на традиционных каналах (я их преданный зритель благодаря Андреа), но и на CNBC и других недавно появившихся кабельных телеканалах, предназначенных для предпринимателей и инвесторов. На воскресных трансляциях игр Суперкубка 2000 года половину тридцатисекундных рекламных пауз (стоимостью $2.2 млн каждая) приобрели 17 новых интернет-компаний — тряпичная собачка Pets.com появлялась на экране наряду с лошадью-тяжеловозом Budweiser.
Да я и сам стал настоящей поп-звездой, не хуже тряпичной собачки. Канал CNBC изобрел так называемый «портфельный индикатор»: когда я приходил в ФРС утром перед очередным заседанием Комитета по операциям на открытом рынке, за мной следовали телевизионные камеры. Тонкий портфель означал, что я в хорошем настроении и дела в экономике идут неплохо-Набитый под за вязку портфель свидетельствовал о том. что я всю ночь просидел над бумагами и следует ожидать повышения ставок. (На деле «портфельный индикатор» не говорил ни о чем. Толщина моего портфеля зависела исключительно от того, положил я в него свой завтрак или нет.)
На улицах меня останавливали люди и благодарили за свои пенсионные планы 401 (к). Я всегда старался отвечать учтиво, хотя, признаюсь, иногда мне очень хотелось сказать: «Мэм, я не имею никакого отношения к вашему пенсионному плану 401 (к)». Очень неловко чувствуешь себя, когда благодарят за то, чего ты не делал. Андреа, которая то сердилась, то смеялась, завела специальную коробку для фан-атрибутики, где лежали карикатуры, открытки и вырезки с моими выступлениями, футболки с Аланом Гринспеном и даже кукла.
Конечно, я мог при желании избежать такого внимания к моей персоне — от телекамер, скажем, можно было скрыться, приезжая на машине непосредственно в гараж ФРС. Но я привык проходить пешком несколько кварталов до офиса, и, когда журналисты начали следить за «портфельным индикатором», мне не захотелось прятаться. К тому же все это было беззлобным — стоило ли лишать людей забавы?
Жаль, что «портфельный индикатор» не годился для презентации денежно-кредитной политики. Как правило, идеи, которые нужно было озвучить, мы формулировали очень тщательно и редко давали пищу для сенсаций. Но среди репортеров было немало таких, кто мог квалифицированно осветить деятельность ФРС. Несмотря на правило не давать официальных интервью, для серьезных журналистов двери моего кабинета были открыты. Когда ко мне обращались с вопросами по важной теме, я старался выкроить время для встречи и обсуждения. Андреа не преминула заметить, что такая практика больше устраивает представителей печатных изданий, чем тележурналистов, но тут уж я ничего не мог поделать.
Среди всей этой суеты нужно было еще и работать. Осенью нам с Ларри Саммерсом пришлось изрядно потрудиться, чтобы уладить разногласия между Министерством финансов и ФРС. Причиной стало намерение конгресса пересмотреть законодательство, регулирующее финансовую индустрию — деятельность банков, страховых и девелоперских компаний, инвестиционных групп и т.п. Закон о модернизации финансовых услуг, который разрабатывался несколько лет, в конечном итоге заменил Закон Гласса-Стигалла. принятый во времена Великой депрессии и ограничивавший проникновение банков, инвестиционных фирм и страховых компаний на смежные рынки. Банки и другие финансовые компании стремились к диверсификации и хотели иметь возможность предоставлять весь спектр финансовых услуг. В качестве аргументов звучали заявления о том, что отечественные кредитные учреждения уступают иностранным конкурентам, особенно европейским и японским «универсальным банкам», на которые ограничения не распространялись. Я был согласен с тем. что либерализация этих рынков давно стала необходимостью. Министерство финансов через свое Управление контролера денежного обращения курировало все национальные банки. ФРС осуществляла надзор за банковскими холдингами и банками штатов. Принятый сенатом вариант законопроекта предусматривал расширение полномочий ФРС, тогда как вариант палаты представителей отдавал преимущество Министерству финансов. После безуспешных поисков компромисса конгресс сдался и поручил нашим ведомствам до 14 октября решить этот вопрос между собой. Так начались переговоры между представителями ФРС и Министерства финансов.
Не скажу, что это был бой, но и идиллического согласия тоже не наблюдалось. Министерство финансов и Управление контролера считали, что все регулятивные полномочия необходимо передать им, а сотрудники ФРС придерживались диаметрально противоположного мнения. Работая днем и ночью, они согласовали часть вопросов, но к 14 октября решить удалось далеко не все. Страсти накалялись.
Так случилось, что именно на 14 октября был запланирован наш с Ларри традиционный еженедельный завтрак. Поглядев друг на друга, мы сказали: «Проблему надо решать». 8 тот день я пришел к нему в кабинет, и мы закрылись на ключ.
Мы с Ларри во многом похожи: каждый из нас предпочитает аргументировать свою позицию, исходя из принципов и фактов. Жаль, что мы не записали нашу беседу на магнитофон — она определенно подходила для учебников как хрестоматийный пример выработки решения на основе разумного компромисса. Итак, мы уселись и начали разбирать разногласия пункт за пунктом. Время от времени я говорил: «Твои аргументы звучат более убедительно, чем мои» — и тогда очко записывалось Министерству финансов. В других же случаях Ларри соглашался с аргументами ФРС. Через пару часов мы «разделили пирог». Министерство финансов и ФРС представили совместный вариант законопроекта, и в тот же день он ушел на Капитолийский холм, где и был принят. Историки считают Закон о модернизации финансовых услуг поворотной вехой в развитии экономического законодательства, а для меня он всегда останется примером компромисса. который неплохо было бы и воспеть.
В конце того же года экономический бум достиг своего пика: в последних числах декабря индекс NASDAQ почти удвоился по сравнению с декабрем прошлого года (Dow Jones вырос на 20%). Большинство людей, вложивших деньги в акции, чувствовали себя «на коне» и имели на то все основания.
В такой ситуации перед ФРС встал очень интересный вопрос. Где проходит грань между здоровым экономическим бумом и спекулятивным фондовым пузырем, раздувание которого обусловлено не самыми привлекательными свойствами человеческой натуры? Дать ответ нелегко еще и потому, что эти процессы могут развиваться параллельно, как я заметил в одном из выступлений перед Банковским комитетом палаты представителей: «Если мы наблюдаем рост производительности, это еще не означает, что цены акций не завышены».
Мое внимание привлек пример конкурентной борьбы Qwest, Global Crossing, MCI, Level 3 и других телекоммуникационных компаний, стоившей миллиарды долларов. Они, подобно железнодорожным магнатам XIX века, соревновались е расширении, прокладыеая тысячи километров оптоволоконных кабелей. Замечу, что сравнение с железными дорогами — не просто метафора. Компания Qwest, например, прокладывала оптоволоконные сети по старым железнодорожным землеотводам. В этом не было бы ничего плохого (спрос на услуги широкополосного доступа рос в геометрической прогрессии), если бы не один нюанс: каждый из конкурентов старался полностью покрыть своей сетью прогнозируемый спрос. Таким образом, несмотря на создание ценных активов, становилось ясно, что большинство конкурентов неизбежно сойдут с дистанции, их акции упадут, а акционеры лишатся миллиардов долларов.
Я немало размышлял над тем. действительно ли мы имеем дело с фондовым пузырем и если да, то что следует предпринять. Вот если бы рынок за короткое время упал на 30^40%, то можно было бы с уверенностью говорить о пузыре. Иными словами, если я хотел назвать сложившуюся ситуацию пузырем, мне нужно было авторитетно заявить, что в ближайшее время рынок действительно упадет на 30-40%. Отважиться на такое заявление непросто.
Но даже если ФРС признает существование фондового пузыря и решит плавно спустить его, сможет ли она это сделать? В прошлом у нас уже были неудачные попытки, В 1 994 году Комитет по операциям на открытом рынке постепенно повысил ставки на три процентных пункта. Это было сделано для предотвращения ускорения инфляции. Но я заметил, что повышение ставок оказало сдерживающее воздействие на фондовый рынок, который рос на протяжении большей части 1993 года. Затем, когда в феврале 1995-го мы прекратили дальнейшее ужесточение политики, цены акций возобновили рост. В 1997 году мы снова прибегли к ужесточению, но фондовый рынок опять стал расти после изменения политики. Фактически мы лишь немного задерживали долгосрочный рост цен. Из-за того, что повышение ставок не приводило к снижению цен, покупка акций казалась еще менее рискованным занятием. Иными словами, наши попытки лишь создавали почву для дальнейшего роста цен.
Вот если резко повысить ставки, то эффект был бы другим. Я не сомневался. что одномоментное увеличение ставок, скажем, на 10 процентных пунктов взорвет любой пузырь. Но это означало бы страшный удар по экономике и прекращение экономического роста, который мы так хотим сохранить. Вылечив болезнь, мы убили бы больного. С другой стороны, я практически не сомневался, что попытка выпустить воздух из раздувающегося пузыря путем постепенного ужесточения политики, как советовали многие, приведет к обратному результату. Если ужесточение не положит конец экономическому буму и его прибылям, то постепенное повышение ставок, как показывал мой опыт, только укрепит факторы роста. При таком подходе цены акций скорее повысятся, а не упадут.
После долгих размышлений я пришел к выводу, что лучше всего для ФРС сфокусироваться на ключевой задаче — стабилизации цен на товары и услуги. Добившись этого, мы обретем силы и гибкость, позволяющие смягчить экономический ущерб в случае биржевого краха. С такой позицией согласились все члены Комитета по операциям на открытом рынке. Если рынок обвалится, то мы сможем более активно снижать ставки и вливать ликвидность для уменьшения негативных последствий. Прямое упреждающее воздействие на фондовый бум, очевидно, выше наших возможностей.
Мало кто из законодателей удивился, когда в 1999 году я озвучил перед конгрессом философию «возврата к первоосновам». Я сказал, что по-преж~ нему обеспокоен вероятной переоцененностью акций, добавив, что ФРС не собирается идти против мнения «сотен тысяч хорошо информированных инвесторов». Вместо этого ФРС сделает все возможное, чтобы защитить экономику в случае биржевого краха, «Конечно, лопающиеся пузыри вряд ли можно считать благом, но последствия для экономики вовсе не обязательно должны оказаться катастрофическими», — сказал я конгрессменам.
Комментируя это мое заявление. New York Times написала: «Это совсем не похоже на прежнего Гринспена, который два с половиной года назад предостерегал инвесторов от "иррационального оптимизма'». Несмотря на тон газетной статьи, в котором слышалось подтрунивание, в целом впечатление у редактора сложилось правильное. Я действительно признал, что мы не можем с полной уверенностью говорить об «иррациональном оптимизме» иужтем более предпринимать что-либо заранее, Политики, которым я объяснил свою позицию, не возражали. Пожалуй, они были рады, что ФРС не спешит «закончить вечеринку».
По иронии судьбы, вскоре нам все равно пришлось повысить процентные ставки. С середины 1999-го по середину 2000 года мы в несколько приемов подняли ставку по федеральным фондам с 4,75 до 6,5%. Вначале это было сделано, чтобы изъять ту ликвидность, которую влили для защиты экономики в период мирового финансового кризиса. Затем мы уменьшили ее еще немного, чтобы создать «страховую защиту», как выразился Билл Макдоно, от ухудшения конъюнктуры на американском рынке труда и возможного перегрева экономики. Другими словами, мы готовились к очередной «мягкой посадке», когда изменится фаза цикла деловой активности. Но эти меры практически не повлияли на цены акций, которые достигли пика лишь в марте 2000 года, и даже после этого рынок еще несколько месяцев демонстрировал боковой тренд.
Эти проблемы были скрыты пеленой будущего, когда 31 декабря 1999 года весь мир замер, чтобы встретить звоном бокалов Новый год. В Вашингтоне самым престижным мероприятием был ужин в Белом доме, куда нас с Андреа пригласили наряду с Мохаммедом Али, Софи Лорен, Робертом де Ниро. Ицхаком Перлманом, Майей Лин, Джеком Николсоном, Артуром Шлезингером-младшим, Боно, Сидом Сизаром, Биллом Расселлом и десятками других знаменитостей. Чета Клинтонов решила отпраздновать приход нового тысячелетия с большой помпой. Вначале планировался официальный ужин для 360 гостей. Затем в Мемориале Линкольна должно было состояться шоу, транслируемое по общенациональному телевидению (режиссерами этого действа под названием «Творцы Америки» были мои друзья Джордж Стивенс-младший и Куинси Джоунс). Наконец, после полуночи. когда отгремят праздничные фейерверки, всем предлагалось вновь переместиться в Белый дом. где гостей ждал завтрак и танцы до рассвета.
К тому времени я уже догадывался, что готовила мне судьба в новом тысячелетии: руководитель аппарата Белого дома Джон Подеста намекнул о намерении президента Клинтона назначить меня на пост главы ФРС на четвертый срок. Я сказал, что готов согласиться. Анализировать развитие самой динамичной экономики мира, воплощать результаты этого анализа в практические решения и наблюдать за их реализацией — о лучшей должности, чем председатель ФРС, я и мечтать не мог. Да, мне бьшо уже 73 года, но я не потерял творческих способностей, умения выстраивать математические взаимосвязи, тяги к работе — не чувствовал тех изменений, которые заставили бы меня отойти от дел, В посвященной мне книге «Маэстро» (Maestro) Боб Вудуорд написал, что очередное назначение привело меня в «состояние тихого восторга». Должен признать, я и вправду обрадовался.
Это еще больше улучшило мое настроение перед праздником, хотя до официального объявления мы с Андреа держали новость в секрете. Для светского мероприятия в Белом доме она купила бордовое бархатное платье от Badgley Mischka. В новом наряде Андреа выглядела восхитительно, несмотря на свой обычный напряженный график работы и небольшую простуду.
Гости, приглашенные на торжественный предновогодний ужин, заполнили Восточный зал и парадную столовую Белого дома, которые, по восторженным отзывам одного из журналистов, «превратились s феерический воздушный замок, где белые орхидеи и розы возвышались на столах, покрытых скатертями из серебристого бархата». Честно говоря, я равнодушен к подобным вещам. Но когда мы сидели за столом, наслаждаясь вкусом белужьей икры и потягивая шампанское, меня поразила искренняя радость хозяина и хозяйки вечера — его. избранного президентом на второй срок, и ее. начинающей политическую карьеру в сенате. Президент обратился к гостям с тостом: «В эту минуту я не могу не отметить, насколько изменилась
Америка и наша история, насколько лучше стал мир. Это случилось благодаря вам, сидящим в этом зале, благодаря тем. чьи интересы вы представ-ляете. благодаря вашему умению мечтать, творить и дерзать». После семи лет в Белом доме, после событий в Боснии, после скандала с Моникой Левински, после эпохального экономического и финансового бума настал звездный час четы Клинтон.
Ужин был прерван вскоре после девяти вечера, и толпа гостей двинулась к автобусам, чтобы отправиться к Мемориалу Линкольна. Но мы с Андреа решили ускользнуть. Нас ждало еще одно «праздничное мероприятие»— в ФРС, где многие собирались провести на рабочем месте всю ночь, чтобы проследить за переходом финансовой системы страны в новое тысячелетие.
Федеральная резервная система немало сделала для того, чтобы наступление нового тысячелетия не обернулось катастрофой. Источником угрозы было старое программное обеспечение (так называемая «проблема 2000», или Y2K). Чтобы сэкономить драгоценную машинную память, для обозначения года программисты пользовались всего двумя цифрами вместо четырех. Например, 1974 год обозначался как «74». В 1970-е в Townsend-Greenspan я сам писал программы, которые набивались на перфокартах. Мне и в голову не приходило, что программы тех времен (хотя и значительно модернизированные) могут еще применяться, поэтому я никогда не утруждал себя дублированием данных. Понятно, что многие опасались сбоев при переходе от 1 999 к 2000 году. В большинстве случаев обнаружение и устранение потенциальной ошибки было очень сложным и дорогостоящим делом. Существовали зловещие сценарии развитий событий: отказ жизненно важных гражданских и военных систем, грозящий отключением электроэнергии и телефонной связи, прекращением расчетов по кредитным картам, столкновением самолетов и т.п. Чтобы не допустить хаоса в финансовой системе, управляющий Майк Келли организовал продолжавшуюся два с половиной года кампанию по модернизации компьютерной техники в американских банках и самой ФРС. Мы прилагали немало усилий, чтобы побудить центральные банки других стран сделать то же самое.
Сегодня ночью нам предстояло узнать, оправдались ли принятые меры предосторожности. Майк и его команда, пожертвовав праздничным днем, заняли места в здании ФРС. где рядом с кафетерием оборудовали большое помещение с телефонами, мониторами, телевизорами и рабочими столами для сотни человек. Кухня работала, правда, вместо шампанского предлагался безалкогольный сидр. К тому времени, кан мы с Андреа пришли туда, команда находилась на месте целый день, наблюдая по телевизору за тем, как новое тысячелетие шагает по планете. Раньше всего Новый год пришел в Австралию, потом в Японию, потом в другие азиатские страны и в Европу.
Разумеется, по телевизору показывали праздничные фейерверки, вспыхивающие в разных точках планеты, но Майк и его коллеги выискивали на экранах городские огни на заднем плане — не гаснут ли они?
Я почувствовал себя белой вороной, войдя в это помещение в своем строгом вечернем костюме, — почти все вокруг были в красных футболках с эмблемой в виде орла на красно-бело-голубом щите с надписями «Совет управляющих ФРС» и «Y2K». Майк, который держал меня в курсе дела, сказал, что пока все идет отлично. Только что Новый год встретила Великобритания — судя по всему, без проблем. Сейчас наметился некоторый перерыв, пока Новый год пересекал Атлантику. Соединенные Штаты должны были стать последней крупной экономической державой на его пути. Это усиливало наше волнение — мы так активно подталкивали другие страны к действию, что сбой в работе наших систем стал бы позором. Финансовая отрасль США вложила миллиарды долларов в замену и модернизацию старой техники и программ, в каждом федеральном резервном округе и в каждом крупном банке дежурили антикризисные группы. Комитет по операциям на открытом рынке осуществил многомиллиардные вливания ликвидности в финансовую систему, используя опционы и другие новые инструменты. На случай отказа системы обслуживания кредитных карт или сети банкоматов ФРС создала резерв наличных средств, распределив его по 90 пунктам на всей территории США, В свое время я приложил руку к возникновению проблемы, поэтому не мог не прийти на работу третьего января, не побывать на передовой накануне потенциальной катастрофы22.
Оттуда я с Андреа отправился домой. До полуночи оставалось полтора часа, но нас не покидало ощущение, что мы уже встретили новое тысячелетие. Когда в Вашингтоне пробило полночь и Новый год действительно пришел в США, мы мирно спали.
10. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД
С вновь избранным президентом Бушем-младшим я впервые встретился
18 декабря 2000 года, через несколько дней после того, как Верховный суд своим решением позволил ему объявить о победе на выборах. Наша встреча состоялась в отеле Madison (в пяти кварталах от Белого дома), где находился штаб Буша. Он в первый раз прилетел тогда в Вашингтон в новом качестве. Мы виделись эпизодически и прежде, однако реальный разговор между нами был лишь однажды — минувшей весной на одном из банкетов.
На завтраке в Madison также присутствовали новый вице-президент Чейни, руководитель президентского аппарата Энди Кард и пара помощников. Ситуация была мне знакома: я докладывал о состоянии дел в экономике пяти вновь избранным президентам, в том числе и отцу нынешнего главы государства.
На этот раз я вынужден был сообщить, что краткосрочные экономические прогнозы выглядят не очень привлекательно. Впервые за последние годы мы столкнулись с перспективой спада.
Охлопывание высокотехнологичного пузыря стало величайшей финансовой драмой предшествующих месяцев. С марта по декабрь индекс NASDAQ потерял половину своей стоимости. На других рынках спад был менее ощутимым: 5&Р 500 снизился на 14%. a Dow Jones — всего на 3%, По сравнению с общим объемом «бумажного» богатства, возникшего благодаря росту рынка, эти потери казались незначительными, но в абсолютном выражении спад был заметным, а безотрадные перспективы Уолл-стрит не способствовали повышению доверия инвесторов.
Еще большую озабоченность вызывало общее состояние экономики. На протяжении года страна втягивалась в мягкий циклический спад. Этого следовало ожидать на фоне адаптации компаний и потребителей к последствиям многолетнего экономического бума, технологическим изменениям и сдуванию фондового пузыря. ФРС содействовала процессу адаптации, несколько раз повысив процентные ставки с июля 1999-го по июнь 2000 года. В целом мы надеялись, что нам удастся совершить очередную мягкую посадку.
Однако за последние пару недель экономические показатели существен-но ухудшились. Производители автомобилей и другой продукции сокращали объемы производства, прогнозы в отношении корпоративных прибылей понизились, во многих отраслях росли товарно-материальные запасы, заметно увеличилось количество первичных заявок на пособие по безработице, индекс уверенности потребителей упал. Дополнительным тормозом для экономики стали проблемы с энергоносителями: в 2000 году цена на < нефть превысила $30 за баррель, а стоимость природного газа неуклонно росла. Существовали и другие настораживающие признаки. Так, розничная сеть Wal-Mart сообщила ФРС о понижении прогнозных показателей продаж в праздничные дни, a FedEx уведомила нас о том. что объемы перевозок ; упали ниже запланированных. Конечно, нельзя судить о положении в экономике по длине предновогодних очередей в универмагах Macy's, но на дворе все-таки была середина декабря, а в магазинах не наблюдалось обычной для этого времени рождественской суеты.
Вместе с тем я сказал новому президенту, что в долгосрочной перепективе экономический потенциал по-прежнему высок. Инфляция была незначительной и устойчивой, долгосрочные процентные ставки двигались вниз, а уровень производительности все так же увеличивался. И, конечно же, нельзя было не отметить профицит федерального бюджета который наблюдался уже четвертый год подряд. По последним прогнозам на 2001 финансовый год, начавшийся в октябре, он должен был составить почти $270 млрд.
Когда завтрак закончился, Буш отозвал меня в сторону, чтобы сказать несколько слов наедине. «Хочу, чтобы вы знали. — произнес он. — я полностью доверяю Федеральной резервной системе, и мы не намерены подвергать сомнению правильность ваших решений». Я поблагодарил его. Мы поговорили еще немного, а затем Буш отправился на Капитолийский холм.
Когда мы вышли из отеля, нас уже ждали телекамеры и репортеры. Я ожидал, что вновь избранный президент сразу направится к микрофонам, но он положил мне руку на плечо и выдвинул меня вперед. На фото Associated Press, сделанном в то утро, я широко улыбаюсь, как будто получил хорошую новость.
В общем, так оно и было. Буш попал а яблочко, затронув самый актуальный для ФРС вопрос — нашу независимость. К тому времени я еще не составил мнения о Джордже Буше, но почему-то верил его словам о том, что нам не придется конфликтовать из-за проблем денежно-кредитной политики,
Я почувствовал облегчение, узнав, что предвыборный кризис разрешился, В беспрецедентной ситуации — пятинедельное разбирательство, беспрерывные подсчеты и пересчеты голосов, судебные иски и прямые обвинения в фальсификации результатов голосования [что в других странах могло привести к уличным беспорядкам) — мы все же сумели найти цивилизованное решение. Хотя сам я всю жизнь был республиканцем либертарианского толка, у меня есть близкие друзья в обеих политических партиях, и я мог понять разочарование демократов при виде Джорджа Буша-младшего в Белом доме. Однако стоит подчеркнуть, что в мировой политике острейшая политическая борьба заканчивается взаимным рукопожатием соперников и добрыми пожеланиями не часто. Речь Ала Гора, в которой он признал свое поражение на выборах, была самой теплой и дружелюбной из тех, что мне довелось слышать. «Почти полтора века назад, — произнес он, — сенатор Стивен Дуглас сказал Аврааму Линкольну, который только что победил в борьбе за президентский пост: “Чувство партийности должно уступить место патриотизму. Я с вами, господин президент, и да благословит вас Бог'1. Что ж, и сейчас я с тем же воодушевлением говорю вновь избранному президенту Бушу, что остатки межпартийной вражды должны быть отброшены в сторону, и да благословит Бог нашу страну под его руководством».
Я не знал, куда поведет нашу страну Джордж Буш, но я доверял тем, кто вошел в его команду. В народе говорили о втором пришествии администрации Форда в Америке. Для многих это была просто шутка, но я придавал ей очень большое значение. Свою карьеру на государственной службе я начал именно во времена Форда и воспринимаю эти годы по-особенному. Очень скромный по характеру человек, Джеральд Форд стал президентом волей случая (не исключено, что он никогда бы по собственной воле не попал на эту должность). Как показало его противостояние с Джимми Картером в 1 976 году. Форд не был искушенным бойцом в политических баталиях, сопутствующих президентской кампании. Он мечтал о кресле спикера палаты представителей, В суматохе позорной отставки предыдущего президента Форд заявил: «Этот долгий кошмар для нашей страны закончился» — и сумел собрать в своем правительстве самых талантливых людей.
Сейчас, в декабре 2000 года, Джордж Буш формировал костяк своего правительства из старой гвардии администрации Форда, бойцы которой стали намного старше и опытнее. Новый министр обороны Дональд Рамсфелд при Форде возглавлял аппарат Белого дома и превосходно зарекомендовал себя на этом посту. Перед этим он был послом США в НАТО, и, когда Форд отозвал его, Рамсфелд быстро наладил работу аппарата Белого дома и успешно руководил им до тех пор. пока в 1975 году президент не назначил его министром обороны на первый срок. Оставив впоследствии госслужбу, Рамсфелд возглавил международную фармацевтическую компанию G. D. Searle, которая на тот момент находилась в бедственном положении. Я был внешним экономическим консультантом этой компании, и меня поразило то. с какой легкостью этот бывший пилот-инструктор, конгрессмен и чиновник адаптировался к условиям мира бизнеса.
Еще одним выходцем из администрации Форда был новый министр финансов, мой друг Пол О’Нил. Работая при Форде заместителем директора
Административно-бюджетного управления, он заслужил всеобщее уважение. Пол был руководителем среднего звена, но мы приглашали его на все важные совещания, поскольку он один из немногих знал все тонкости бюджета. После ухода с государственной службы Пол стал генеральным директором компании Alcoa (я входил в состав совета директоров, который проголосовал за его кандидатуру). За 12 лет руководства компанией он добился больших успехов. Я был очень рад тому, что Пол возглавил список кандидатов на пост министра финансов. Мне позвонил Дик Чейни и сказал, что Пол встречался с новым президентом Бушем и теперь мучается сомнениями. «Он уже две страницы исписал всевозможными "за" и 'против", — произнес Чейни. — Может, поговоришь с ним?»
Я с удовольствием согласился. Когда Пол взял трубку, я обратился к нему с теми же словами, которые некогда, на излете никсоновской администрации, сказал мне Артур Бернс: «Ты действительно нужен нам». В свое время этот аргумент убедил меня покинуть Нью-Йорк и впервые поступить на государственную службу. Подействовал он и на Пола. Я считал, что его присутствие в новой администрации станет значительным плюсом. Поддержат ли предложенные президентом программы и бюджет долгосрочный рост американской экономики? Что за люди станут его экономическими советниками и помощниками? Я полагал, что, если финансовые документы будет подписывать такой человек, как Пол, это станет очень важным шагом в правильном направлении.
Было и еще одно обстоятельство, отчасти профессионального, отчасти личного характера. Президент Клинтон назначил меня на новый срок в начале 2000 года, поэтому мне предстояло провести на посту председателя ФРС еще не менее трех лет. В 1 990-е годы ФРС и Министерство финансов сотрудничали очень успешно (хотя, конечно, не обходилось и без борьбы за место под солнцем). Мы эффективно выстраивали экономическую политику на протяжении самого долгого подъема в современной истории США, мы успешно преодолевали кризисы, мы помогли Белому дому справиться с устрашающим бюджетным дефицитом, возникшим в 1980-е годы. При Клинтоне я сотрудничал с тремя министрами финансов — Ллойдом Бентсеном, Бобом Рубином и Ларри Саммерсом, которые впоследствии стали моими близкими друзьями, и это сотрудничество способствовало нашему общему успеху. Мне хотелось выстроить такие же конструктивные отношения с новой администрацией — это было бы хорошо и для ФРС, и для меня самого. Поэтому я был очень рад, когда Пол наконец сказал «да».
Конечно, самым заслуженным из вернувшихся во власть ветеранов времен Форда был вновь избранный вице-президент. Дик Чейни сменил своего наставника Рамсфелда на посту главы аппарата Белого дома, став в свои 34 года самым молодым человеком, когда-либо занимавшим эту должность. Благодаря энергичности, сочетавшейся с олимпийским спокойствием, он добился колоссальных результатов на этой работе. Те товарищеские отношения, которые возникли между нами в годы после Уотергей-та, не исчезли. Когда Чейни был конгрессменом, я не раз встречался с ним на различных мероприятиях и порадовался, когда президент Буш-старший назначил его министром обороны в 1 989 году. И хотя по роду деятельности пути министра обороны и председателя ФРС редко пересекаются, мы все же поддерживали контакты друг с другом.
Теперь он стал вице-президентом. Многие эксперты полагали, что роль Чейни будет намного шире роли обычного вице-президента. Он имел больше опыта во внутренних и международных делах, чем Буш-младший, и некоторые считали, что именно он станет фактическим главой государства. Мне так не казалось — за время непродолжительного знакомства с новым президентом я понял, что тот сам себе голова.
После избрания Чейни сделал все, чтобы заручиться моей поддержкой, как. впрочем, и поддержкой других старых друзей. Он с женой Линн еще не переехал в официальную резиденцию вице-президента на территории военно-морской обсерватории США. поэтому по воскресеньям я приезжал к ним в гости в вашингтонский пригород Маклин, что в штате Вирджиния. Мы с Диком обычно устраивались за кухонным столом или в его рабочем кабинете.