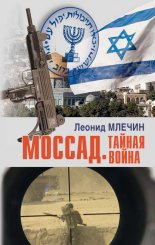Остаться в живых. Прицельная дальность Валетов Ян

Смеялся Кущенко еще смешнее, чем говорил. Мелко, тоненько хихикал, застенчиво опуская глаза.
«Альхен! Голубой воришка!» — пронеслось у Губатого в голове.
— Это как у Жирика, — сказал Ельцов, которого от минутного пребывания на едва покачивающейся «Тайне» начало мутить с прежней силой. — Каждой женщине — по мужчине, каждому мужчине — по бутылке водки!
Он был уже не бледен лицом — землист. С таким цветом кожи можно было играть зомби и без грима.
— Вот это правильно! — поддержал его Владимир Анатольевич и с размаху хлопнул Олега по спине. — Вот это по-нашему, по-бразильски! Молодец Вольфович! Понимает нужды!
От этакого дружеского похлопывания Ельцову сделалось совсем худо, и когда «Тайна» перевалилась с носа на корму в очередной раз, он схватил себя за лицо, зажимая рот и нос, и ринулся к борту, издавая утробные звуки.
Кущенко перекосило, словно от кислого вина, и он сам начал стремительно бледнеть под слоем загара.
Расчет Губатого оказался точным. Спасти их от повторных визитов бывшего соученика слабому вестибулярному аппарату Ельцова было не под силу, но испортить обедню Кущу сиюминутно он вполне мог. В этот момент Владимир Анатольевич совершенно искренне жалел и о выпитом только что «Клинском», и о сравнительно недавнем обеде, и даже о своем приезде сюда.
— Он что, болеет? — спросил Кущенко с видимым отвращением.
Ельцов с шумом извергся за борт, отчего Владимир Анатольевич стал цветом напоминать только что отреставрированную мраморную статую.
— Есть немного, — подтвердил Пименов. — Не любит Олежка качку. Что такое, Вова? Тебе нехорошо?
— Да ничего, — выдавил из себя Кущ, медленно отступая к фальшборту, — жара, понимаешь ли…
Ельцов посмотрел на них через плечо глазами больного мерина и снова повис на леерах, вздрагивая спиной.
— Твою мать! — прошипел Кущ сквозь зубы. — Какого ты его на судно приволок?! А?
— Так ты ж увидеться хотел, — простодушно возразил Губатый, забивая трубку табаком. — Олег, как только качать начинает, сразу на берег съезжает. А тут — ты позвал. Ну, вот он и… Не перенес радости встречи! Так когда тебя в гости ждать?
Последнюю фразу Леха произнес уже в спину Владимиру Анатольевичу, который с юношеской прытью сиганул с кормы в свою лодку.
— А завтра к вечеру и жди, — ответил Кущенко, отвязывая конец, — буду обязательно! Аэрона ящик для этого дохляка возьму… Ленок, а тебе что? Что ты пьешь, радость моя?
Изотова стояла рядом с Пименовым, небрежно, как бывалый моряк, опершись на ограждение, с сигаретой в зубах и в круглых, как у Базилио, очках. Стекла у нее были настолько густо-черные, что рассмотреть за ними не то что выражение глаз, а даже моргание было невозможно.
— Все пью, — сказала Изотова. — Мне главное — хорошая компания. Сигарет привези. Хлеба. Конфет. Да что я тебе мозги парю? Сам знаешь, что надо, мы тут неделю сидим.
Кущенко завел лодочный мотор, импортный, издающий тихий шелест четырехтактный «Маринер».
— Сигарет привезу, — он стал в лодке, раскачивающейся на волне. Крепкий, низкорослый, широкий, напоминающий гриб-боровик — жаль, фуражки не было на нем, только пилотка. Фуражка делала бы сходство с боровиком абсолютным. — У меня завалялось пару блоков. Хлебушка. Ну, и пожрать там разного… Слышь, Пима! Ты без меня не шали тут!
Он ухмыльнулся.
— Делом занимайся! Ну, пока!
Он дал газу, развернулся на винте и понесся к «Кровососущему».
— Приедет? — спросила Изотова.
— И не сомневайся.
— У него действительно такой нюх?
— У собаки подобного нет. Бабки за много миль чует, как муха говно.
— Кузя! — позвала Ленка — Ты как?
Ельцов промычал что-то неразборчивое.
— Давай я отвезу на берег наше тайное оружие, — предложил Губатый. — А то у него заворот кишок случится. Жалко все-таки…
Тайное оружие бессильно свисало с леера в опасной для жизни позе.
— Ты или я? — спросил Пименов.
Изотова пожала плечами.
— А ужин?
— Тогда я, — сказал Губатый обреченно. — Два раза ездить придется. Думаю, что супруг твой на судне кушать не захочет.
Ленка хмыкнула.
— Если вообще захочет. Вот, блин, повезло Кузьме как утопленнику! — она посмотрела на Пименова взглядом соучастницы. — Со всех сторон повезло.
— Да уж, — согласился Пименов. — Тут не поспоришь. Олег! Давай сюда! Тебе лучше на берег поехать!
Ельцов поднял на него мутные, словно вода в ставке, глаза.
Пима подхватил его под локоть и помог спуститься в «резинку». Олег сделал это, словно Буратино: неловко, деревянно, с трудом сохраняя равновесие. Пименову было действительно его жалко — по белому, как живот покойника, лбу, застревая в рыжеватых бровях, бежали крупные капли. Несколько из них собрались в одну крупную, похожую на мыльный пузырь, висевшую на носу у Ельцова, отчего он походил на мальчишку с насморком.
Лодка долетела до берега за минуту с небольшим. Губатый ловко поднял мотор, чтобы не зацепить «пером» за камни, и лихо выскочил на мелкую береговую гальку.
— Груз доставлен, — рапортовал он шутливо, но Ельцов шутки не оценил. И шутка была вымученная, если честно, и было Олегу не до того. Он споткнулся, перешагивая через баллон «надувнушки», упал на одно колено, встал и, не оглядываясь, неверной походкой пошел к стоявшей рядом палатке. Его швыряло из стороны в сторону, как швыряет моряка, но не после многомесячного рейса, а после многочасовой пьянки на берегу.
Губатый не мог определенно сказать, почудилось ему или нет, что в тот момент, как Олег поднимался с колен, из-под плеча сверкнул в его сторону тяжелый, полный ненависти и совершенно здоровый взгляд. Так смотрит на загнанную в угол мышь, занеся над головой смертоносную мухобойку, домохозяйка. В этом взгляде была и брезгливость, и презрение, и жестокость. И торжество было. Кажется.
«Становлюсь параноиком», — подумал Пименов, сталкивая лодку в набегающие прибойные волны. Его обдало солоноватой пеной, и в тот же момент ветерок сделался прохладнее — влага испарялась с загорелой кожи. У берега запах хвои — свежей и пересохшей — был более явственен. Как-то по-особому пахли прогретые до температуры ожога скалы. Пахли резко, свежестью и йодом, гниющие водоросли. Пронзительно кричали зависшие в голубой пустоте крупные, как буревестники, чайки.
А вечером, когда они все вместе сидели у костра, Губатый был готов подписаться под тем, что стал параноиком. У мирно потрескивающего в огне плавника этот случайно пойманный взгляд казался некой шуткой. Неудачной, если подумать, но только шуткой. Совсем не похож был вечерний Ельцов на того, кто обжег Пименова взглядом из-под руки.
Олег от вечернего приступа морской болезни отошел и даже поел с видимым удовольствием. Горячая, янтарного цвета уха с добавлением рюмки водки подействовала на Ельцова, как живая вода на порубленного «в капусту» Ивана-царевича: он раскраснелся лицом, задышал ровно и даже заулыбался, но уже не виновато, а обыкновенно. И от этой самой улыбки Губатый почувствовал себя неловко вдвойне, но все же в безопасности. Ну, не может человек с такой «ботанической» улыбкой оказаться опасным!
— Времени у нас нет, — сказал Пименов, набивая трубку табаком. — Скорее всего, с завтрашнего вечера у нас начнется вечный день пограничника. И, скажу честно, я Куща в работе видел все эти годы, он на моих глазах, можно сказать, рос… По службе, я имею в виду… Он не отвяжется. Можно не надеяться.
Изотова тоже курила, лежа на матрасике у костра, выпуская струи дыма в высокое звездное небо. Ельцов же, опершись на локоть, рассматривал в свете люминесцентного фонаря какие-то бумаги из своей китайской папочки. Со стороны все они втроем напоминали мирных туристов на отдыхе, и если кто-то, а такая вероятность была, рассматривал их со стороны моря в бинокль, то более похожую картинку трудно было бы разыграть намеренно.
— И что будем делать? — спросила Ленка, сбросив пепел на гальку в изголовье. — Прервемся? Изобразим отдыхающих?
— Как вариант, — отозвался Ельцов. — А почему — нет, собственно говоря? Ну, плаваем. Ну, ныряем? Ищем, не ищем… Кто это разберет?
— Кузя, — проговорила Изотова с ленцой, — Вовочка даже внешне на идиота не похож, а уж внутренне… Так поумнее нас с вами будет. Кого ты собираешься обманывать? Просто ныряем, обследуя квадраты? Да даже дебилу будет понятно, что мы что-то ищем!
— Да, Кущенко не дурак, — согласился Губатый, глядя на то, как пламя лижет выбеленный морем кусок дерева. — Он и сегодня приезжал не случайно. Кто-то видел нас. Или с моря, или сверху, с обрыва. — Пименов ткнул мундштуком вверх, туда, где на черном небе рядом с убывающей луной висели крупные, как грецкие орехи, звезды. — Это если смотреть пять минут, кажется, что мы на отдыхе. А если час? Или два? Дальше — слухами земля полнится. Порт — это как коммунальная квартира. В своей комнате пукнешь, а у соседей со стены картина падает. Шила в мешке не утаишь. Вас видели? Видели. Мы ушли неизвестно куда? Ушли. С диспетчерами я на связи — на связи. И с моря нас видно, не со всех точек, конечно, но «Тайна» — это вам не баркас, она у нас дама видная, у берега не притопишь.
— В долю его брать не хочется, — сказал Ельцов.
— А что? Есть куда брать? — осведомился Леха. — Доля — она от ноля ноль и есть. Чем делиться? Надеждами?
— Ну, Пима, — проворковала Изотова и щелчком отправила окурок в темноту. — Надежда иногда дорогого стоит. Надеждой, как раз, можно и поделиться. А вот деньгами… Деньгами я больше делиться не хочу! И так ты «отжал» себе треть. На хера мне такое счастье? Пусть Кущ надеется. От этого нам не холодно, не жарко.
— Чисто теоретически, — спросил Пименов, глядя на море, равномерно плещущееся у самых ног. — А что ты будешь делать, если мы, ну представим себе такой уникальный случй, что-нибудь отыщем? Ты думаешь, что этого «ёкселя-мокселя» прогонишь сраной метлой? Не поделившись? Так прими как данность: это он нас может погнать. Собрать мокрыми трусами да выкинуть! Кстати, даже если ты с ним о чем-то и договоришься — не факт, что он эти договоренности соблюдет. Он — сила. Захочет — бандитов натравит, захочет — сам порвет, захочет — менты из нас таких павианов сделают, что настоящие обезьяны в Африке обхохочутся!
— Собираешься заранее сдаваться, Лешенька? — осведомилась Изотова ласковым, медоточивым голосом. — На спину ложимся, ножки раздвигаем, глазки закрываем и пытаемся получить удовольствие? Такой у тебя план?
— Нет. Собираюсь завтра открыть огонь из береговых орудий. На поражение.
— Тоже неплохо, — поддержал идею Ельцов и зашуршал бумагами, как мышь в стоге сена. — Мне тут одна мысль в голову пришла. Вот, послушайте…
В ксерокопии протокола допроса гражданина Бирюкова, 1885 года рождения, составленного 26 марта 1920 года в той самой Ростовской пересыльной тюрьме и губернском ЧК, сведений содержалось много и весьма разнообразных: видать, били Юрия Петровича сильно и с толком. Был он из дворян, отец статский советник, мать из семьи Вяземских — классовый враг в самом неприкрытом виде — как такого не калечить? Донос на него в архив не попал, а может быть, Ельцов не удосужился снять с него копию, незачем было, но если судить по вопросам, которые задавал ему следователь, шансов выйти из ЧК живым у помощника Чердынцева не было никаких.
На деле Бирюкова рукой начальника следственно-оперативной части Ростовской ЧК, одного из палачей Кронштадта Семенова, было начертано: «Взято под личный контроль!»
В стране бушевал «красный террор». В стране расстреливали инакомыслящих и священников, расстреливали за неосторожно сказанное слово, за неосторожно брошенный взгляд, за происхождение, за партийную принадленость, за дружбу с кем не надо, за написанные «не о том» стихи, за прозу в которой был усмотрен контрреволюционный тайный смысл…
Страна голодала, захлебывалась свинцом и кровью, страна разучилась любить и еще не устала от ненависти. Этой кровоточащей, истерзанной державе были позарез нужны деньги.
И поэтому Юрий Петрович Бирюков сидел в одной из подвальных камер, стылой и сырой, на привинченном к полу стуле и ждал смерти так, как никогда не ждал никого на свете. Он устал бояться. Он устал страдать от бесконечно длящейся боли.
По облупившейся штукатурке полз грибок, пахло кислым и кровью.
Правый глаз Юрия Петровича вытек на щеку от могучего удара, вогнавшего в роговицу металлическую оправу старых очков вместе с осколками стекла. Говорить он мог с трудом — распухший язык все время цеплялся за осколки кости. Было господину Бирюкову всего тридцать пять лет, двадцать из которых он отдал службе науке и исчезнувшему Отечеству. Именно исчезнувшему окончательно и бесповоротно, в этом Юрий Петрович был совершенно убежден. Эти двое, находившиеся в камере вместе с ним, не могли иметь к Родине никакого отношения.
Один из них, высокий и суставчатый, как сапожный метр, со слезящимися глазками кокаиниста и мокрым ободком вокруг воспаленных ноздрей, явно был человеком образованным. Это было слышно по речи — университетское образование и гувернанта в детстве не скроешь под скрипящей кожанкой.
Второй, неловко-косолапый, с короткими, мощными руками, был попроще. Говорил он хуже, путал ударения, сбивался на волжский акцент, но бил мастерски: размахивался по-крестьянски, с утробным «хеканием», и бил с обеих рук, как цепом — не целясь, куда придется. Именно он выбил Юрию Петровичу глаз, сломал ребра и руку и повредил нервы на лице. Бирюков выглядел стариком — обвисшие, бульдожьи щеки, лысина, глубокие морщины на лбу, подергивающийся от тика рот, из которого чистая чекистская рука выбила почти все зубы.
Он понимал, что спасения не будет. Его просто неоткуда ждать. Он был врагом. Для тех, кто сегодня терзал Россию, врагами были все, кто был не с ними. Юрий Петрович был офицер, дворянин, сын дворянина и человек чести. Он не принял сторону «новых якобинцев», не принял ни одну из сторон, а это значит, что он был настоящим врагом! Красный террор не признавал никаких законов, кроме революционной целесообразности. Высшим ее выражением была смерть противника.
Имя того, кто бил пытаемого, история не сохранила. Губатый придумал себе его образ, слушая севший от влажного воздуха голос Ельцова, читавшего протокол. А вот имя второго было зафиксировано на копиях пожелтевших листов с расшифровкой стенограммы допроса. Его звали Анатолий Иванович Бирюков, и был он кузеном Юрия Петровича.
— Гражданин Бирюков, еще раз опишите сделанную вами находку…
— Я уже рассказывал…
Повинуясь кивку головы человека — складного метра, коренастый крепыш шагнул поближе к стулу и, сладострастно засопев, ударил Бирюкова в ухо открытой ладонью. Барабанная перепонка лопнула, как папиросная бумага, и кровь потекла из ушной раковины тонкой струйкой. Юрий Петрович не закричал, не потому что был мужественным. Какое уж тут мужество после недели пыток?! Он просто потерял сознание от боли в момент удара и медленно, словно горячий стеарин, оплыл на сиденье тяжелого стула.
— Что ж ты так стараешься? — брезгливо спросил коренастого Анатолий Иванович и закурил папиросу. — Нежнее надо. Видишь, человек устал…
«…допрос прерван на несколько минут. Обвиняемый сомлел и был облит водою из ведра, после чего пришел в сознание.
В. Повторяю свой вопрос. Опиши еще раз сделанную тобой находку?
О. Жемчуг нашел не я…
В. Это не играет роли, Юра. Еще раз опиши ящик.
О. 14 на 8 и на 5 дюймов Темного дерева.
В. Что в нем?
О. Почти тысяча пятьсот жемчужин. Все отборные. Розовые, белые и полторы сотни черных.
В. Где находился ящик во время путешествия?
О. В сейфе, в каюте Чердынцева.
В. Что за сейф?
О. Английский, последней конструкции. Викентий Палыч рассказывал, что непроницаемый для огня и воды.
В. Большой?
О. Не очень, но тяжелый, фунтов 200. Он предназначен был для самых ценных находок экспедиции, некоторых документов.
В. Где находилась каюта Чердынцева?
О. Вторая по левому борту, следующая за каютой капитана.
В. Где стоял сейф?
О. В углу, за изголовьем койки.
Текст был сух и лаконичен, но разыгравшееся воображение Пименова рисовало ему висящий пластами папиросный дым, скрип пера по плохой бумаге, быстро густеющую темную кровь на грязной коже, запах пота от немытых тел, гуталина от сапог и вяжущий рот, как зеленые яблоки, привкус смертельного страха.
В. На судне были еще какие-нибудь ценности?
О. Да, все рабочие журналы экспедиции, гербарии, биологические образцы, фотографии, антропологические исследования…
В. Ты что, издеваешься, сука? — спросил Анатолий Бирюков. — Ты что такое мне говоришь, а? На кой хрен нам твои бумажки? Что мы с ними делать будем? Наука… Кому сейчас нужна твоя наука, малахольный? Люди с голоду дохнут, враг со всех сторон прет! Нет, Юрочка, нас не интересует расстояние между надбровными дугами папуасов, другие сейчас задачи. Деньги в сейфе были? Не бумажки — золото, камушки. Ну, ты понял?
— Я не знаю… В сейфе Викентия Павловича была только коробка с жемчужинами и остатки средств экспедиции. Правда, мало. Последнее жалование выдавалось в октябре 17-го, деньги кончались. А в сейфе капитана. Откуда мне знать?
— Ну да… — сказал революционный кузен с издевкой в голосе. — Мы все больше о науке, куда нам о материальном думать?
Он закурил очередную вонючую папиросу, посмотрел через табачный дымок на сидящего напротив Юрия Петровича и ухмыльнулся.
— Да успокойся, Юрочка, успокойся… Были деньжата в капитанском сейфе, в судовом журнале все записано… Но денежки смешные, несерьезные денежки. И огород из-за них городить никто не будет. Да и вообще, не по нашему ведомству это все — столичные фокусы… В Петрограде больно интересуются кораблями затонувшими. Так что не на меня обижайся, братец, я бы тебя просто шлепнул. Быстро, по-родственному, не мучая. Ты ж меня в детстве от гнева батюшки выгораживал, даже, помню, провинность мою на себя принял.
Юрий Петрович поднял на него взгляд своего единственного глаза — затекшего, налитого кровью и гноем, почти невидящего. Во взгляде этом не было ненависти и злобы — только боль и бесконечная усталость.
— Да будет тебе, Толенька, — выговорил он, ворочая шершавым от жажды языком. — Чего уж поминать?
— Это чтобы ты понимал, что я вовсе не беспамятный, братец. Я только свой революционный долг исполняю. А мой революционный долг говорит мне, что те, кто не с нами, те против нас. Вот ты, Юра, за нас?
Бирюков покачал головой.
— Вот падла! — весело сказал рукастый, и с размаху ударил Юрия Петровича по голове.
Не будь стул намертво привинчен к полу, Бирюков рухнул бы на бетонную стяжку вместе с ним, а так — голова его мотнулась, капли густой черной крови веером вылетели изо рта, но сознание не покинуло его. Он втянул голову в плечи, сжался, словно пытаясь спрятаться от безжалостного палача и, всхлипывая, закачался на стуле.
— Ты, Данилыч, без команды руками не маши, — сказал Анатолий Иванович строго. — Как прикажу — так можешь хоть убить. А без приказа — не смей! Понял?
— Так я ж чуть-чуть, Иваныч, — развел руками коренастый. — Я ж не в смерть, а так, чисто воспитательно! Он же контрик, сам сказал, что не за нас…
— Ты б, Юра, словами поосторожнее, брось свои дворянские штучки — голос у Анатолия Ивановича был нежным, словно он с нерадивым сыном разговаривал, а не на допросе с арестованным вел беседу. — Я ж ничего не могу против пролетарского гнева.
Бирюков молчал. В роду Анатолия Ивановича пролетариат не встречался, даже о жалованном дворянстве слышно не было. Человек — складной метр — мог бы гордиться своим происхождением, но времена поменялись и предки, дружно переворачивающиеся в гробах, ничего не значили.
Ровным счетом ничего.
Губатый, знавший от Ельцова о том, какая судьба постигла того, кто оставил свой след в истории на этих блеклых ксерокопиях и в архивах Ростовского ЧК, мысленно недобро усмехнулся. За что боролись, как говорится. В каком, бишь, году расстреляли Бирюкова Анатолия Ивановича? Где-то через месяц-два? Во время очередной чистки?
— Еще раз, Юра, повторю, этим кораблем и его грузом интересуются в Питере, в Особом Отделе. Лично товарищ Мейер интересуется. Поэтому ты лучше все хорошенько вспомни и мне расскажи. Тебе-то уж что? Ничего! И защищать вроде некого…
— Я уже все рассказывал, — то ли сказал, то ли простонал Бирюков. — Я когда приехал в Питер — рассказывал. И здесь рассказывал… Что вам еще от меня нужно?
Из угла его глаза выкатилась огромная слеза и покатилась вниз по щеке, к оборванному воротнику.
— Когда затонула «Нота»? — спросил Анатолий Иванович, не утруждая себя объяснениями.
— В ночь с 18-го на 19 июня 1918 года.
— Где?
— Миль сорок от мыса Дооб, рядом с мысом Чуговпас — точнее сказать трудно. Недалеко от берега.
— Недалеко — это сколько?
— До полумили.
— Что случилось?
— Думаю, что мина. Не снаряд — это точно. Мы шли без огней, и попасть в нас было невозможно и с кабельтова. Да и взрыв был глухой… Определенно мина!
— Зачем шли так близко?
— Для безопасности и шли — по-над скалами.
— Странно, — произнес Анатолий Иванович саркастично. — Откуда там мина? Ветром ее надуло, что ли?
Несмотря на связанные за спиной руки, Юрий Петрович попытался пожать плечами, и у него получилось.
— Капитан говорил, что там сильное течение вдоль берега. Вход в Цемесскую бухту минировали, могло сорвать и отнести. Впрочем, я не знаю, я не минер и, по большому счету, не моряк.
— Течение, говоришь? Что ж… Может быть, может быть… Пусть так. Рассказывай дальше.
— Около двух часов ночи я вышел на палубу перекурить. Мы вообще все не спали этой ночью, спорили о том, что видели в Новороссийском порту. Штормило, но не сильно. Было ветрено и дождь… Даже не дождь, а такая противная морось, заползающая под дождевик и бушлат. Я зашел с подветренного борта — со стороны моря и спичку зажечь не получилось бы, не то, что закурить!
— Кто еще был на палубе, кроме тебя?
— Я никого не видел. Вахтенный, наверное, был. Викентий Павлович прошел в рубку. А потом — громыхнуло.
— Слева? Справа?
— Скорее уж — под днищем. Я упал. Тряхнуло здорово, затылком о переборку приложился, встал — вижу, что кормы нет, она нас обгоняет и уходит к берегу под прямым углом, словно ее на буксир взяли. А нос и меня вместе с ним кружит, как в водовороте речном, и под воду затягивает.
— Ты кого-нибудь видел на палубе?
Бирюков покачал головой.
— А Чердынцев твой?
— Тела лично я не видел, но не думаю, чтобы Викентий Павлович остался жив.
— А как ты остался жив?
— Повезло, наверное. Я когда за борт прыгнул, чтобы не затянуло, попал в то же течение, что и корма «Ноты». Меня, правда, о скалу приложило волной, но на берег я выбрался, хоть и вода была холодная для лета, но все-таки не ледяная.
— Опиши место.
— Бухта, как бухта. Таких на побережье полно, но особенность есть. Справа скала, как волнорез — низкая, длинная и в море уходит. А слева — громадная, как причальная стенка. Высокая такая.
— Твою мать! — громко сказал Губатый. — Твою бога душу мать!
Он вскочил.
— Еще раз!
— Что еще раз? — переспросила Ленка.
— Какая скала слева?
Ельцов уткнулся носом в бумаги.
— Слева — высокая, как причальная стенка.
— А справа?
— Низкая. Как волнорез.
— А тут что?
— Да брось ты, Пима, орать, — сказала Изотова с раздражением. — Ты что — самый умный, да? Мы это уже тысячу раз перечитывали…
— Точно, — подтвердил Ельцов. — Как минимум. Я сейчас это читал, чтобы ты еще раз про корму услышал. Тут дальше Бирюков говорит, что каюта Чердынцева, где стоял сейф, располагалась ближе к юту.
— Ну, и хорошо, что читал, знаток ты наш… — сказал Губатый, мысленно просчитывая, насколько существенной может быть ошибка. — И я не сразу понял. Как ты бухту вычислял? По этим скалам?
— Да, — подтвердил Ельцов. — И по могиле Чердынцева. И по расщелине, по которой Бирюков наверх выбрался.
— Ошибся ты, — сказал Пименов просто и снова уселся. — Ошибся, Олег. Как ты привязался?
— По бумаге, естественно!
— Но смотря со стороны моря?
— Ну, да! А как иначе? — удивился Ельцов.
— Когда Бирюков увидел бухту?
— Утром, — быстро проговорила Изотова. — Ночью он ее видеть не мог никак. Темно.
— А где был Бирюков утром?
— На берегу, в чем вопрос? — сказала Изотова. — Но он же моряк.
— Моряк? Он сам говорит, что не моряк, — возразил Губатый. — Плюс к этому он впервые видит бухту именно с берега. И говорит на допросе, что справа у него низкая, как волнорез скала, а слева высокая, как причальная стенка. А у нас? У нас — все наоборот. И могилу Чердынцева ты не нашел. Ты только предполагаешь, что она где-то здесь, под завалом, но ты не нашел ни белый валун, ни крест, а крест, если судить по вашим словам, массивный, из двух шпангоутов.
Ельцов и Ленка переглянулись.
— Другая бухта? — спросила Ленка. Даже не спросила, а, скорее, утвердительно сказала.
— Боюсь, что да… — ответил Губатый. — Но это некритично.
— Ты уж объясни нам, сирым, — сказал Ельцов с плохо скрываемым раздражением, — что значит некритично? Загадками соизволите говорить?
— Некритично означает «похер», — пояснил Пименов. — Это соседняя бухта, никуда перебазироваться не надо, и это новость, внушающая оптимизм. А вторая новость плохая, превращающая нашу экспедицию в прогулку бессмысленную и дорогостоящую… Лена, ты помнишь, что у нас там за рельеф? Правильно! Если корма «Ноты» легла на грунт там — это трындец, потому что там такой свал, что только под скалой больше тридцатки, а в десяти метрах дальше — все пятьдесят…
— Откуда ты знаешь, — спросила Изотова, — мы же там на квадраты не разбивали?
— Я туда «Тайну» проводил и место для якорной стоянки выбирал. Ты можешь мне на слово поверить.
— И мы все эти дни искали в другом месте… — проныл Ельцов.
— Да не расстраивайся ты так.
Ленка молча встала и пошла к лодке.
— Ты куда? — спросил Олег.
— Проверить.
— Ночью? Ты, мать, сдурела наверное…
— А ты завтра будешь проверять? Да? Когда Кущ подтянется? Не хочешь, сиди в палатке… Достал уже!
— Ну, что ты вызверилась?! Что ты сейчас увидишь?
— Я хочу понять — не тянем ли мы пустышку. Белый валун, например, можно найти и сейчас.
— Поехали все вместе, — предложил Губатый примирительно. — Только фонари берите.
— Белый валун, белый валун… — сварливо передразнил Ленкины интонации Ельцов. — Темно, как у негра в жопе, а ты — белый валун! Он под берегом, если завалило его, то ты уши от мертвого осла найдешь, а не валун!
— А тебя, в принципе, никто за рога и не тащит, — отрезала Ленка. — Сиди здесь, копайся в бумагах, следопыт херов! Навычислял в кабинете у себя! Столько дней потеряли!
— Я-то тут при чем? — взвизгнул Олег на повышенных тонах. — Меня чего козлить? Вот же сука! Ну чего ты на меня напускаешься?
— Так! — сказал Губатый жестко. — А ну-ка, закончили базар, голубки! Что за крик на лужайке? Ничего еще не случилось, а вы уже друг другу в горло вцепились! Кузя, не устраивай истерик…
— Я тебе не Кузя! — вскричал Ельцов фальцетом. — Понял ты?! Я и ей не Кузя, и тебе не Кузя! Я… Я…
— Пошел на хер! — сказала Изотова брезгливо. — Разорался, как девица… Поехали, Леша. Пусть успокоится.
— Что, — зашипел Ельцов, как разъяренный кот, — зачесалось? Ты, Леночка, его трахать везешь?
Пименов шагнул вперед, рефлекторно отслеживая, как и куда смещается противник. Ельцов не производил впечатление бойца, но был тяжелее и выше. В такой ситуации бить надо было наверняка, в голову или в пах, чтобы вырубить противника болевым шоком.
— Не сметь, Пима! — заорала Изотова истошно, как перепуганный дневальный в казарме при приближении начальства.
Вот она двигалась со скоростью атакующего гепарда и оказалась между Губатым и Ельцовым раньше своего крика.
— А ну, закончили! — выдохнула она хрипло. — Еще смертоубийства нам не хватало!
Одной рукой Ленка уперлась Пименову в грудь, а вторую протянула над костром, в сторону мужа.
— Ты, Олежек, успокойся! Трахал бы лучше, меньше бы переживал… Выдохни, понял!
— Ж-ж-ж-животное… — выдавил Ельцов с отвращением, обращаясь то ли к Губатому, то ли к супруге.
— Всего и делов-то, — отозвалась Ленка, — что поехать и посмотреть, прав Пима или не прав. Чего ты разорался? Не хочешь ехать — сиди себе, почесывай себе то, что у тебя чешется. А я с тем, что чешется у меня, сама разберусь! Ну? Успокоился? Все? Поехали, Леша…
Ельцов дышал словно беговой конь после финиша — широко раздувая ноздри, с присвистом. Пименову даже показалось, что от Олега исходит острый запах звериного пота, настолько сильный, что перекрывает и свежесть ночного бриза, и йодистый аромат выброшенной на гальку морской травы. Лицо Ельцова, освещенное мерцанием костра, тоже не излучало всегдашнего дружелюбия — губы его прыгали, словно он готов был разрыдаться. А глаза… Теперь тот самый давнишний взгляд, пойманный Губатым случайно, уже не казался параноидальным видением.
Они обогнули скалу, и только когда свет от костра исчез и их окутала густая южная ночь, Изотова процедила сквозь зубы еле слышно: «Дебил!» Мотор работал на малых оборотах, тихо бормотал, а не победно ревел, как днем, когда они на полном газу перескакивали от точки к точке, и поэтому Пименов очень хорошо расслышал краткую характеристику, которую Ленка выдала своему мужу.
— Я не думаю, что надо обострять отношения, — сказал он, не повышая голоса. — Не знаю, как там у вас все складывалось в Питере, но впечатления счастливой пары вы не производите.