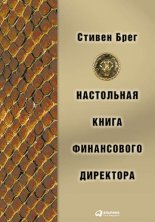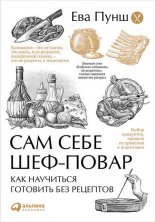Вонгозеро Вагнер Яна
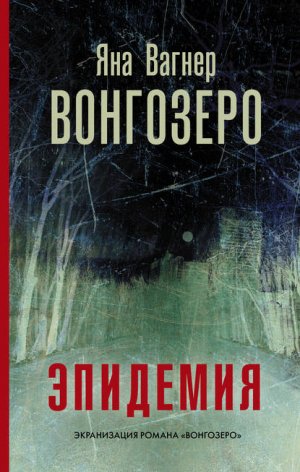
— Есть, Андреич, — отозвался Андрей немедленно и даже, пожалуй, весело — пикап, громыхая прицепом, легко обогнал нас и поехал впереди, оставляя после себя полоску утрамбованного, плотного снега, по которому двигаться сразу же стало значительно легче. Я удивленно взглянула на папу, а разговор продолжался:
— Что там у тебя на навигаторе, Андрюха, скоро поворот?
— Километров через пятнадцать, — ответил «Андрюха», — и потом еще сто километров спокойной дороги, почти все деревни в стороне от трассы, Череповец объезжаем по широкому кругу, а вот за ним уже будет посложнее. Я бы заранее где-нибудь остановился топлива долить, чтобы дальше уже без остановок, ты как?
— Мысль, — сказал папа одобрительно, — давай не доезжая до Череповца, мало ли что там, в окрестностях, город большой.
Что-то явно произошло между ними, пока я спала, пока спал Сережа; оставаясь на связи друг с другом, эти двое мужчин как-то сумели договориться, и в разговоре не чувствовалось больше никакой напряженности. Перехватив мой взгляд, папа коротко улыбнулся:
— Нормальный мужик, хорошо, что мы его встретили. И запасливый — лодка у него с собой резиновая, сеть, снасти — я бы и то, пожалуй, лучше не собрался, — а потом, взглянув на меня, добавил: — Ты как? Отдохнула? Смотри, если надо выйти — давай тут где-нибудь тормознем.
Я взглянула за окно — проплывающий мимо заснеженный, залитый закатным солнцем ельник постепенно начинал редеть и в эту минуту весь уже остался позади, а вместо него по обеим от дороги сторонам стелилось широкое, пустое и пышное, как пуховое одеяло, бело-голубое пространство с редко торчащими голыми шариками кустов. Место для стоянки было неподходящее — впереди, чуть правее, уже блестели разномастные железные крыши деревенских домов, и от этих крыш вверх поднимался дым — нестрашный и мирный дым из печных труб. В этом месте дорога раздваивалась, и узкая ее часть, обсаженная деревьями, уходила вправо, в сторону деревни с крышами и дымящими трубами; поперек, занимая все пространство между деревьями и полностью загораживая проезд, внутри широкого, закопченного и бесснежного пятна торчали две сгоревшие машины, совершенно неуместные посреди всего этого белого спокойствия.
Эти машины сожгли давно — как минимум несколько дней назад; все уже остыло, и никакого дыма не было. Уже нельзя было угадать, какого они были цвета раньше — два одинаковых, серо-черных, покрытых то ли пеплом, то ли инеем изуродованных остова без стекол, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одного из них был открыт капот, обнажая обугленные внутренности, а у второго почему-то остались целы обе передние фары. Если бы машина была одна, все это, пожалуй, было похоже скорее на несчастный случай, аварию; но то, как они аккуратно, спокойно стояли мордами друг к другу, не оставляло никаких сомнений — люди, живущие в этой деревне, привезли их сюда нарочно, а потом облили бензином и подожгли — я представила себе, как они стоят вокруг с отблесками огня на лицах, отступая от разгорающегося огня и вздрагивая, когда от жара начинают лопаться стекла — возможно, еще несколько дней назад обе эти машины стояли у кого-нибудь под навесом, заботливо очищенные от снега, с обязательными иконками и свисающими с зеркал мягкими игрушками, но решение было принято — и они сгорели; ритуальная жертва, последняя возможность для их хозяев спастись от приближающейся опасности.
— Настоящая баррикада, — сказал папа, когда мы проехали мимо, — не поможет, конечно, разве что задержит ненадолго. Кому надо будет — полем доберется.
— Знаете, — ответила я, — пожалуй, я потерплю еще — что-то не хочется мне здесь выходить.
Андрей оказался прав — следующие сто километров действительно были спокойными: молчаливые, укрытые снегом поля и сменяющие их полосы елового леса, умиротворенного и тихого; деревень почти не было — может быть, одну или две удалось разглядеть с дороги, но все они были в стороне. Мы не встретили никого — ни одной машины, ни единого пешехода, снег лежал на дороге нетронутым, ровным слоем, и несмотря на все это нам было ясно — безмятежность покинула эти места, словно вся эта земля, затаившись, напряженно ждала чего-то. Останавливаться не хотелось нигде — мы все откладывали и откладывали этот момент до тех пор, когда сделать это стало совсем уже необходимо — мы приближались к Череповцу, начинало темнеть, нужно было долить топлива, хотя бы немного перекусить и размяться — неподвижно сидеть становилось просто невыносимо.
— Если верить навигатору, дальше дорога будет поживее, — сообщил Андрей, — давайте здесь, удачнее места мы уже не найдем.
Дорога была лесная, с обеих сторон окруженная деревьями, но именно в этом месте в глубь леса уходила едва заметная просека, в какие проезжающие мимо автомобилисты любят загонять свои машины, чтобы не бросать их на трассе, когда углубляются в лес за грибами или по другим каким-нибудь делам; в Подмосковье здесь обязательно торчал бы облупившийся плакат с надписью вроде «Берегите лес», но здесь было пусто.
— Хорошо бы нам здесь съехать с дороги, — сказал папа — он уже вышел из машины и теперь с болезненной гримасой пытался распрямить затекшую спину, — быстро мы не управимся, а через полчаса будет темно, хотя бы на метр вглубь забраться, и то хлеб. Не нравится мне эта выставка-продажа на обочине.
— Да ладно, Андреич, — бодро ответил Леня, хлопнув дверцей Лендкрузера, — посмотри, снегу сколько, сядем, кто нас будет вытаскивать? Не за трактором же бежать в соседнюю деревню. — Он хохотнул и направился было в сторону леса, но папа тут же остановил его:
— Куда собрался? Кто-то должен остаться возле машин, ты молодой, потерпишь чуть-чуть, постой минутку, я скоро тебя сменю. И ружье достань, слышишь?
Едва ступив с дороги в белый, замерзший сверху и потому кажущийся твердым снег, я провалилась почти по колено и порадовалась, что мы не стали заезжать сюда на машинах. Мне ужасно хотелось увидеть Сережу, поговорить с ним, но многочасовая, без остановок, поездка заставила всех нас, без исключения, рассыпаться по лесу — не страшно, мы будем еще доливать топливо, а потом распакуем какую-нибудь еду, и у меня будет полчаса, не меньше, чтобы побыть рядом с ним, пока он ест, а после мы сядем за руль — я и он, наша очередь, и когда все заснут, мы снова сможем поговорить.
— Мальчики, подальше можно отойти куда-нибудь. — Возмущенный Наташин голос раздался где-то совсем рядом, но даже в этом прозрачном, без листьев, лесу я ее уже не видела. Где-то неподалеку хрустели ветки, слышно было, как Ира уговаривает Антошку «потерпи, сейчас я расстегну, повернись ко мне»; обернувшись, я увидела дорогу, четыре больших машины с выключенными фарами, Ленину одинокую фигуру — он открыл багажник Лендкрузера и рылся в нем; мне захотелось отойти подальше, я сделала еще буквально десять шагов за деревья — и все звуки вдруг пропали, все исчезло — Наташино ворчание, Ирины ласковые уговоры, голоса мужчин, остались только я и лес — неподвижные деревья, смыкающиеся кронами где-то над моей головой, снег и тишина. Неожиданно я почувствовала, что не хочу возвращаться прямо сейчас, что мне остро необходимо хотя бы недолго побыть совершенно одной — было очень холодно, я прислонилась щекой к шероховатому, ледяному стволу дерева и несколько минут просто стояла так — абсолютно без мыслей, наблюдая за тем, как на твердой коре от моего дыхания образуется иней.
Пора было возвращаться — на мгновение я испугалась, что не знаю, в какую сторону мне идти, но, опустив глаза вниз, я тут же увидела собственные следы и пошла по ним назад, к машинам. Сначала я заметила красную Наташину куртку, ярким пятном блеснувшую мне навстречу из-за деревьев — она тоже вышла из леса и была уже рядом с Леней, шагах в десяти от Лендкрузера — багажник все еще был открыт, и рядом я увидела две полных пластиковых канистры, которые Леня успел выгрузить на укатанный снег. Они были не одни — преграждая им путь к машине, прямо возле распахнутого багажника, стояли три незнакомых человека — все мужчины, один в грязно-сером ватнике, двое других — в бесформенных овчинных тулупах; на ногах у всех троих были валенки. Оглядевшись, я не увидела вокруг ничего, на чем они могли бы приехать, — вероятно, они пришли пешком по дороге, а может быть, вышли из леса, по той же просеке, которая и заставила нас здесь остановиться. Ветка под моей ногой хрустнула, и все они обернулись ко мне — я успела еще подумать, что могу просто сделать шаг назад, и в наступающих сумерках меня снова не будет видно с дороги, но тут откуда-то справа, совсем рядом, вдруг раздался голос, произнесший приветливо:
— Здравствуйте вам. — Обернувшись, я разглядела говорившего — четвертый мужчина был в огромной, как у канадского лесоруба, рыжей лисьей шапке с огромными пушистыми ушами, подвязанными к макушке, и светло-коричневом распахнутом тулупе с пожелтевшим воротником. Скорее всего, когда я вышла из леса, он стоял прямо возле прицепа, и потому я не сразу заметила его. Незнакомец приблизился еще немного и шутливым жестом стянул с головы свою лисью шапку — он улыбался.
— Здравствуйте вам, — повторил он еще раз, — а мы идем это мимо, и тут товарища вашего увидели, — он пошел прямо на меня, оттесняя меня от леса, я бросила взгляд в сторону Лендкрузера — у Лени должно быть ружье, главное, держаться к нему поближе, чтобы не остаться здесь, возле лисьей шапки, когда все начнется, где же все остальные, почему не выходят — проходя мимо Витары, я вдруг заметила на заднем сиденье Мишку, который, наверное, вернулся раньше и теперь, скорчившись за грудой вещей, напряженно наблюдал за происходящим через стекло. Наши взгляды встретились на мгновение, и я как можно незаметнее покачала головой — не выходи. Важно было, чтобы человек в лисьей шапке не заметил его, так что я повернулась к нему и тоже попыталась улыбнуться.
— Живете здесь? — спросила я; оказалось, что на сильном морозе губы почти не шевелятся — и это было хорошо, потому что иначе он непременно увидел бы, что они дрожат.
— А? Да, мы это… оттуда, — ответил он и неопределенно махнул рукой куда-то за спину, в его речи было что-то странное, но что именно, я не поняла. Мы уже поравнялись с Лендкрузером; последние несколько шагов я почти пробежала, увязая в снегу, наверное, он просто ждет, пока я встану рядом, а потом уже заставит их уйти. Я посмотрела Лене в лицо, он слабо улыбнулся мне, и я почему-то тут же поняла, что все плохо — ружья у него в руках не было.
Оно лежало в багажнике, поверх мешков и сумок — его можно было бы не увидеть, если не знать, что оно там — я узнала вытертый кожаный ремень и едва заметное очертание темного деревянного приклада. До багажника было метра два, не больше, но подойти к нему незаметно было невозможно — для этого пришлось бы сначала растолкать остальных визитеров, топтавшихся между нами и машиной. В отличие от лисьей шапки, никто из них не улыбался — они молча, угрюмо переминались с ноги на ногу. Где-то там, в лесу, Сережа, папа и Андрей, подумала я, они скоро выйдут, и мужчин станет поровну, надо что-то говорить, надо тянуть время — лицо у Лени было растерянное и нахмуренное, я улыбнулась ему, как могла широко — ну давай, идиот, заговори с ними, пожми им руки, пока они не решились сделать что-то такое, после чего уже не получится делать вид, что эта встреча случайна, они не знают, сколько нас, и тоже выжидают, ну давай же!.. Словно услышав мои мысли, Леня повернулся к лисьему — может, оттого, что тот единственный разговаривал, почему-то было ясно, что именно он тут главный, и спросил бодро:
— Так что же, мужики, вы пешком прямо? Далеко деревня ваша?
— Не, недалеко, — отозвался улыбчивый, водружая свою рыжую шапку обратно на голову — у него было красивое, четко очерченное лицо, кирпично-загорелая кожа, какая бывает у людей, которые много пьют и уйму времени проводят на свежем воздухе, и веселые синие глаза, — чего тут ездить? Нормально, мы своим ногам пришли. — Он так и сказал — «своим ногам», и только тут я поняла, что именно мне показалось странным, когда он заговорил со мной, — человек этот сильно, почти преувеличенно окал, словно персонаж из поморской сказки.
За спиной опять затрещали ветки и послышались шаги — обернувшись, я увидела Сережу, торопливо выходящего из-за деревьев; лицо у него было встревоженное, но подойдя ближе, он уже улыбался:
— О, — сказал он радостно, словно увидев старых друзей, — здорово, мужики. Вы чего здесь?
— Да вот, — сказал лисий — говорил по-прежнему только он один, — на машинки ваши смотрим. Хорошие машинки, годные. Вот эта, к примеру, — он пошел к беззащитно распахнутому Лендкрузеру и встал возле, любуясь, засунув руки в карманы; остальные трое расступились, освобождая ему дорогу, — больша-ая, добра сколько помещается. Жрет, наверно, много?
Воспользовавшись моментом, Леня сделал несколько быстрых шагов по направлению к своей машине.
— Немало, — ответил он, голос у него был напряженный, — правда, она дизельная. — Он стоял уже совсем рядом с открытым багажником, ему оставалось только протянуть руку, он повернул голову и сделал легкое, почти незаметное движение вперед, а улыбчивый проследил за его взглядом и тут же увидел ружье — и приклад, и свисающий ремень. Он быстро вынул руки из карманов, одной рукой взял Леню за плечо и легонько повернул к себе, а второй быстро, сильно ткнул его в бок — Леня охнул, колени у него вдруг подогнулись, и, ухватившись рукой за стойку багажника, он тяжело осел на снег. Наташа закричала. Улыбчивый уже отошел на два шага, в правой руке у него блеснуло металлом — обернувшись, я увидела, что два его молчаливых спутника крепко держат Сережу, заведя ему руки за спину, третий замер возле Наташи, зажимая ей рот рукой, а позади них, шагах в двадцати, по просеке, которая еле просматривалась из-за сгущающихся сумерек, бежит еще кто-то — папа или Андрей, разглядеть уже было нельзя.
— Подождите, — сказала я громко, просто потому, что сейчас обязательно надо было что-то сказать, как-то задержать их, отвлечь, чтобы они не смотрели в сторону леса, только больше ничего не пришло мне в голову — ни единого слова, и тогда я просто повторила: — Подождите! — и обвела их глазами, стараясь взглянуть в лицо каждому из этих четверых плохо одетых мужчин, пытаясь найти хотя бы тень сомнения, какую-нибудь слабинку, которая поможет мне подобрать слова и как-то остановить то, что сейчас произойдет. Улыбчивый шагнул к Сереже; они не успеют добежать, думала я лихорадочно, а даже если успеют, он все равно ударит сейчас Сережу ножом, господи, помоги нам. — Да подождите же, — повторила я безнадежно, и тут дверь Витары, стоявшей позади Лендкрузера, бесшумно распахнулась, за спинами нападавших мелькнула какая-то тень, и я сразу поняла, что это Мишка — очень бледный, он замер шагах в десяти — так, чтобы его было видно, и громко сказал:
— Мам!
— Мишка, беги. — Я хотела крикнуть, но голос подвел меня, он не услышал, он сейчас подойдет сюда — наверное, я шевельнулась, потому что улыбчивый вытянул руку и открытой ладонью задержал меня на месте.
— Ты, в шапке, отпусти ее. — Голос у Мишки был испуганный и почти детский; он подошел еще на шаг, мы посмотрели на него и все одновременно увидели у него в руках длинный охотничий карабин, который папа пристроил за Витариным сиденьем. Он с усилием передернул затвор, а затем, пытаясь крепко прижимать приклад к левому плечу, навел тяжелый, раскачивающийся из стороны в сторону ствол на улыбчивого и повторил: — Отойди от нее быстро, ну!
Человек, приближавшийся со стороны леса, уже не бежал; краем глаза я видела, как он замедлился и пошел шагом, стараясь ступать неслышно — ему оставалось еще шагов десять, но я по-прежнему не могла понять, кто это. Остальные стояли к лесу вполоборота и ничего не видели — все их внимание было приковано к Мишке. Улыбчивый убрал руку, сжимавшую мое плечо, и повернул голову:
— Ты же не будешь стрелять, мальчик, — сказал он тихо и почти ласково, — темно уже, а вдруг в мамку попадешь? — и я тут же села, не успев даже подумать, просто с размаху опустилась на снег, больно ударившись копчиком, и крикнула:
— Мишка, стреляй! — А улыбчивый все продолжал наступать в Мишкину сторону, протягивая к нему руки, и тогда Мишка зажмурился, задрал ствол повыше и пальнул куда-то вверх — на конце тяжелого ствола сверкнула короткая яркая вспышка, и с высоты нам на головы посыпался снег и какая-то древесная труха. Выстрел был оглушительно громкий, и у меня немедленно заложило уши, больше всего мне хотелось закрыть глаза и не смотреть, опустить лицо в снег, но вместо этого я подняла голову — улыбчивый больше не двигался, он поднял руки и стоял теперь, загораживая мне обзор.
— Отойди на шаг, Мишка, — раздался папин голос откуда-то справа, — ствол не опускай, все нормально, затвор не дергай, карабин самозарядный!
— Ладно вам, мужики, — произнес улыбчивый, — пошутили — и хватит, — и начал отступать назад, не отворачиваясь от Мишки — чтобы он не наступил на меня, мне пришлось отползти в сторону — он остановился, только упершись спиной в капот стоявшего сзади Паджеро, и тогда я наконец снова увидела Мишку — губа у него была закушена, глаза — круглые, а руки, в которых он держал карабин, заметно дрожали, но стоял он, не шелохнувшись, направляя ствол прямо в грудь замершего возле меня человека.
— Хватит? Пожалуй, что и хватит, — согласился папа, по-прежнему невидимый, — только ты попроси своих шутников убрать руки и отойти подальше, и побыстрее. Пацан у нас молодой, нервный, дернет случайно пальцем — и такую дырку в тебе проделает, — с этими словами он вышел из сумерек и встал рядом с Мишкой, казалось, он сейчас положит руку ему на плечо — я испугалась, что он действительно сейчас сделает это и Мишка выстрелит — просто от неожиданности — вероятно, улыбчивый подумал то же самое, я услышала, как он шумно втянул в себя воздух и произнес сдавленно:
— Все, все, уходим мы. — Пятясь, он начал осторожно отступать, скользя тулупом по забрызганному бамперу Паджеро, а за ним потянулись остальные трое — отпустив Сережу и все еще не произнося ни слова, они сделали несколько шагов назад, а потом повернулись и побежали, быстро сворачивая к лесу и проваливаясь в снег.
Мишка стоял на том же месте с карабином наперевес, и лицо у него было такое, что я даже не стала подниматься на ноги — подползла к нему прямо на четвереньках, пригибая голову, и выпрямилась, только убедившись в том, что страшный ствол, который он сжимает в руках, направлен совсем в другую от меня сторону.
— Ты молодец, — говорил папа ему на ухо, по-прежнему не решаясь положить руку ему на плечо, — все нормально, отпусти, давай я заберу, — но пальцы у Мишки были совсем белые и никак не хотели разжиматься, и тогда я сказала:
— Тшш-шш, малыш, все хорошо, — а он дернул головой, взглянул на меня, на карабин — и резко, одним движением, воткнул его прикладом в снег, прислонив к машине. Мне казалось, он обязательно должен сейчас заплакать, но он не заплакал, только дрожал — сильно, всем телом — все время пока я обнимала его, а подошедший Сережа хлопал его по спине и ерошил ему волосы.
Оказалось, что все уже здесь — Андрей помогал подняться плачущей Наташе, из-за деревьев показались Ира с Антошкой и Марина в белом комбинезоне, с девочкой на руках.
— Где этот?.. — произнес папа сквозь сжатые зубы — карабин уже снова был у него в руках. — Сказал же ему, идиоту, возьми ружье, Леня, твою мать, да где ты? — Он зашел за Лендкрузер и сразу замолчал, а мы с Сережей замерли, переглянулись и, бросив Мишку, поспешили за ним. Леня все так же сидел, прислонившись спиной к багажнику, — когда мы подбежали, он сделал попытку подняться:
— Я нормально, — сказал он, — куртка толстая у меня, куртка… как в кино, ну чего вы? — Он пытался встать, но не мог — ноги его не слушались — лицо у него было удивленное; подошли Андрей и Марина с девочкой — едва взглянув на него, она закричала, а он все упрямо возился, упираясь в снег, изъеденный и совсем черный под его рукой, и рука тоже вся была перепачкана.
— Лень, у тебя кровь, — сказала я.
— Ерунда, мне совсем не больно, — ответил он и только тогда тоже наконец посмотрел вниз.
Такие сцены часто показывают в кино — кровь, лежащий на земле человек и рядом с ним — упавшая на колени, кричащая женщина, и все мы миллион раз уже видели такое — но все равно оказались к этому не готовы, может быть, потому еще, что, кроме этих трех составляющих — кровь, человек на земле и женщина рядом, — все остальное выглядело совершенно по-другому. Вскрикнув всего однажды, она тут же замолчала — и сразу же стало очень тихо, потому что ни один из нас, стоящих вокруг, не решился произнести ни слова, на самом деле никто из нас даже не шевельнулся, словно существовал какой-то заранее известный всем нам сценарий, который нельзя было нарушить, испортить каким-нибудь несвоевременным словом или жестом. Она не стала бросаться на землю рядом с мужем, прижимать к груди его голову — а вместо этого аккуратно опустила девочку, которую держала на руках, и легонько оттолкнула ее — ни к кому конкретно, просто подальше от себя, а потом медленно сделала несколько шагов вперед и осторожно села на снег — очень прямо, белые колени на белом снегу в том месте, где он не успел еще пропитаться Лениной кровью, — и замерла, все такая же безупречная и отстраненная, какой я привыкла ее видеть, и сидела так несколько бесконечных мгновений — не прикасаясь к нему и ничего не говоря, и смотрела на него, а мы, все мы, стояли вокруг и не знали, что именно нужно сейчас делать, так что когда она наконец подняла холеную тонкую руку, ухватила прядь своих длинных шелковых волос и дернула — сильно, и вырвала эту прядь, и снова подняла руку к волосам, — мы почувствовали огромное облегчение и заговорили все разом, и начали действовать.
Все происходило очень быстро — словно в течение паузы, пока мы наблюдали за этой сценой, каждый успел подумать о том, что именно следует сейчас предпринять, не прошло и секунды, как Ира уже сидела на снегу рядом с Мариной и крепко держала ее за руки, Андрей и Сережа расстегивали Ленину куртку и задирали свитер, а Наташа бежала от пикапа, на ходу пытаясь открыть пластмассовый ящичек с красным крестом на крышке. Было уже слишком темно, и папа принес из Витары автомобильный фонарь, в холодном голубом свете которого Ленин живот был какого-то совсем уже неестественного цвета; с места, где я стояла, рану было почти не видно — она не выглядела страшной, недлинная, правда, какая-то вздутая и неровная, но крови было немного — точнее, не так много, как я ожидала, она продолжала медленно вытекать, оставляя на бледном Ленином животе и боках темные блестящие полоски. Наташа справилась наконец с аптечкой, и теперь, сев на корточки, рылась в ней, лицо у нее было отчаянное:
— Черт, черт, я не знаю, что тут нужно, салфетки какие-то, повязки, бинты — вот какая-то, написано — кровоостанавливающая, только она маленькая совсем, да посветите мне кто-нибудь! — Аптечка выскочила у нее из рук и рассыпалась, и Наташа бросилась подбирать валяющиеся теперь на снегу упаковки — бумага и целлофан, все маленькое и какое-то несерьезное, она поднимала их и пыталась отряхнуть и складывала назад, в коробку, откуда они выпадали снова — папа направил фонарь в нашу сторону и сказал громко:
— Аня, ну помоги ты ей, надо перевязать его — и в машину, нам пора уезжать отсюда, они могут вернуться!
Одной салфетки оказалось мало, пришлось приложить сразу две — Наташа зубами разорвала упаковки и прижимала их к ране, пока я обматывала Ленин живот бинтами; получалось у меня плохо, сидеть он почти уже не мог и все пытался завалиться на бок, Андрей и Сережа держали его, но он был тяжелый, а места возле раскрытого Лендкрузерова багажника было совсем мало, и мы очень мешали друг другу. Когда наконец мне удалось кое-как закрепить концы последнего бинта, Леню подняли — еле справившись втроем, и втащили на заднее сиденье Лендкрузера, а папа подошел к Марине, все еще сидевшей на снегу, и, нагнувшись, проговорил отчетливо:
— Я поведу, а ты залезай к нему назад и держи повязку — крепко держи, ты поняла меня? — и тогда она подняла на него глаза и кивнула, а затем встала и пошла к машине, по-прежнему молча, как робот, даже не оглянувшись на девочку, неподвижно стоявшую в нескольких шагах — маленький красный столбик в надвинутом на глаза капюшоне. Ира взяла девочку за руку и потянула за собой к Паджеро, в котором уже сидел мальчик, и та послушно пошла за ней, аккуратно переставляя короткие толстые ножки. Папа повернулся ко мне:
— Аня, справишься сама?
— Справлюсь, — ответила я, — только с чем? Что мы будем теперь делать?
— Не знаю, — ответил он и выругался. — Главное — уехать подальше отсюда.
— Ты же понимаешь, пап, что далеко мы его не довезем, — сказал Сережа, кладя руку сзади мне на шею — на секунду я даже прикрыла глаза, так мне нужно было ощутить сейчас его прикосновение, — ему там даже ноги не вытянуть. Надо искать место для ночлега.
— Вот и ищите, — отозвался папа тут же, — в Лендкрузере нет рации, мы поедем следом, а вы смотрите по сторонам, и смотрите как следует. Мы не можем себе позволить нарваться на кого-нибудь еще, даже если это означает, что ему придется… в общем, вы поняли.
По пути нам попалось два переезда — оба, к счастью, заброшенные и пустые, с поднятыми шлагбаумами и мертвыми светофорами; всякий раз Андрей заранее успевал предупредить нас по рации о том, что они приближаются — «сейчас будет переезд», говорил он, или «деревня справа, хорошо бы побыстрее», и я думала о том, что в бардачке у меня тоже лежит навигатор — Сережин подарок, бесполезная здесь игрушка с картой Москвы и Московской области; никому из нас и в голову не могло прийти, что когда-нибудь от маленькой пластмассовой коробочки будет зависеть что-то по-настоящему важное, а теперь нам оставалось только послушно следовать за пикапом, полагаясь на его предупреждения. Он искал место, подходящее для того, чтобы остановиться, — безопасное и пустое, где мы сможем спрятать машины так, чтобы их не было видно с дороги, долить топлива, накормить детей и поесть самим, и, главное — разобраться наконец с тем, что случилось с одним из нас — чем бы это в конце концов ни кончилось. Мишка теперь сидел рядом со мной, держа в руке микрофон и напряженно глядя в окно; с момента, как он выпустил из рук карабин, мы не успели сказать друг другу ни слова, ничего, малыш, это не страшно, это подождет, нам сейчас главное — найти это чертово место, думала я, а потом я поговорю с тобой обо всем, что произошло только что на дороге, обязательно поговорю.
Череповец весь был справа — в темном зимнем воздухе трудно было определить расстояние, отделяющее нас от промышленных труб с мигающими красными огоньками на верхушках и жилых кварталов, прячущихся где-то позади; это был первый после Твери большой город, который мы проезжали, и я ждала чего угодно — плакатов с предупреждениями, кордонов, очереди из машин, может быть, даже людей, идущих пешком, с вещами — только ничего этого не было, город равнодушно вытянулся вдоль дороги, тускло мерцая в темноте, и что бы ни происходило там в эту минуту — в двух километрах от нас, или в двадцати двух, — я была благодарна за то, что мы никогда этого не узнаем; а затем дорога внезапно изогнулась широкой дугой и увела нас налево и вверх, и я даже не стала смотреть в зеркало заднего вида, бог с вами, люди, разбирайтесь сами со своими болезнями, страхами, сожженными машинами, со своим желанием выжить, я хочу одного — быть от вас как можно дальше.
— Сейчас будет развилка, — сообщил Андрей негромко, — и пока мы до нее не добрались, надо бы решить одну вещь. У нас тут с Наташкой возникла одна идея — если верить карте, тут полно вокруг должно быть дачных поселков, ну таких, садовых, там по идее зимой никого нет, и спокойнее места нам тут точно не найти, ребята. Только нам для этого придется отклониться от маршрута и проехать немного дальше в сторону Вологды. Вы как?
— Как, как, — отозвался Сережа тут же, — показывай дорогу. Что скажешь, Аня?
Я посмотрела на Мишку, он — на меня, а потом он поднял микрофон к губам и ответил:
— Мы согласны, — и это было первое слово, которое я услышала от него с тех пор, как мы сели в машину.
Вероятно, дачные поселки одинаковы везде, где бы ни находились — узкая дорога, редкие деревья, разномастные, аляповатые щитовые домики с полукруглыми, горбатыми крышами, укрытые целлофаном грядки и железные ворота с замком на въезде. Первый, который нам попался, был расположен слишком близко к трассе, отделенный от нее только узкой полоской леса, зато второй мы чуть не проехали сами, несмотря на то что искали его, — так хорошо он был спрятан; дорогу к нему, разумеется, никто не чистил, так что мне пришлось пропустить вперед тяжелый Лендкрузер, а потом и Паджеро, чтобы они хотя бы немного пробили перед нами колею. Это все равно почти не помогло; я старалась ехать след в след, но все двести метров от дороги чувствовала, как подается и уходит вниз снег под Витариными колесами, и очень боялась, что застряну. Когда Витара наконец добралась до ворот, папа с Сережей уже возились с замком, а Андрей стоял возле них с фонарем; я заметила несколько бетонных фонарных столбов, но вокруг было совершенно темно — судя по всему, электричество здесь уже не работало.
Мне совсем не хотелось выходить сейчас, но я все-таки сделала это и подошла к Лендкрузеру — двигатель работал, сквозь тонированные стекла я разглядела только тусклые голубоватые огоньки приборной панели; открыв водительскую дверь, я заглянула внутрь — в салоне было тихо, стоял тяжелый, резкий запах. Переднее пассажирское сиденье было отодвинуто вперед до упора, а на полу, между сиденьями, неудобно скорчившись, сидела Марина — обе ее руки были прижаты к Лениному животу, голова опущена; ни один из них не шевельнулся и никак не отреагировал на открывшуюся дверь, словно оба они заснули или превратились в странную застывшую скульптуру.
— Как он? — прошептала я, словно они на самом деле спали и я боялась разбудить их, но она не ответила и не подняла головы, а только едва заметно пожала плечами, не меняя позы. — Кровь течет еще? — Но она не ответила и на это — просто снова подняла и опустила плечи.
Наверное, мне нужно было сказать что-то вроде «мы почти на месте» или «все будет хорошо», но я не смогла себя заставить — если бы она хотя бы подняла голову, посмотрела на меня, заплакала — мне было бы легче, но ей, казалось, совершенно не нужны были мои слова, и потому я как можно тише захлопнула дверь и вернулась к воротам.
Замок был уже перепилен, и теперь папа с Сережей разводили в стороны тяжелые воротины, сваренные из толстых железных прутьев, — широкие решетки скрипнули и неохотно поддались, и в свете фар мы увидели длинную, уходящую в темноту неширокую улицу, с обеих сторон сжатую разносортными заборами.
— Снега полно, — сказал папа, — не застрять бы.
— Зато точно нет никого, — Андрей посветил фонарем себе под ноги — снег был нетронутый и гладкий, — надо только выбрать дом, — и пошел вперед, пешком, неглубоко проваливаясь, а папа, закинув на плечо карабин, отправился следом за ним:
— Андрюха, ищи дом с трубой, минус двадцать на улице, электричества нет, в холодном доме до утра не доживем.
Дом нашелся почти сразу, в одной из боковых улиц недалеко от въезда — второй этаж был совсем маленький, в одно окно, скорее всего чердак или мансарда, но печных трубы на крыше было целых две — и мы так обрадовались, что не стали искать ничего другого. Участок был крошечный, с какими-то подвязанными кустами и невысокими фруктовыми деревьями. Места на нем не было даже для одной машины, не говоря уже обо всех четырех, так что их пришлось поставить снаружи, за забором, прямо посреди улицы; зато позади дома обнаружился колодец — похожий на вытянутую вверх собачью будку, со снежной шапкой на треугольной крыше, а в самом дальнем углу участка — маленькая бревенчатая баня с пристроенной к ней аккуратной поленницей, доверху набитой дровами.
Холод снаружи был обжигающий — пока Сережа обухом топора сбивал хлипкий замок с входной двери, ведущей на небольшую застекленную веранду, уши у меня замерзли так, что я почти перестала их чувствовать. Внутри было, пожалуй, так же холодно — просто не было ветра; войдя, я машинально нашарила на стене выключатель и щелкнула кнопкой — разумеется, свет не зажегся. Выстуженный, маленький и темный, с заколоченными фанерой окнами, это все же был дом — настоящий, укрывающий от непогоды: стопка пыльных, перевязанных веревкой книг в углу на веранде, три комнаты, застекленный буфет с безмолвными пирамидами чашек и тарелок, часы на стене и, наконец, самое главное — печь, большая, кирпичная, твердо стоящая в самой середине дома. Еще не все успели зайти внутрь, а Сережа, опустившись возле нее на корточки и зажав фонарик в зубах, уже набивал топку дровами, лежавшими тут же, на полу; я присела рядом и какое-то время молча смотрела на то, как разгорается огонь, думая о том, как он спокоен, этот мужчина, которого я выбрала себе в мужья, как уверен он в том, что все обязательно будет хорошо, и ругала себя за то, что за все время, проведенное рядом с ним, я так и не научилась разделять его спокойствие и уверенность, потому что не могу не думать сейчас о том, что этот крошечный затхлый домик — настоящий дворец по сравнению с тем, что ждет нас на озере.
— Ничего, Анька, через два часа здесь можно будет в майках ходить, вот увидишь, — сказал он, повернув ко мне лицо, и в оранжевых отблесках огня я увидела, что он улыбается.
— У Леньки нет двух часов, — произнес вдруг папа откуда-то из-за моей спины, — мы и так уже потеряли много времени. Я послал Андрюху баню растопить — перенесем его туда. Аня, у нас с собой справочник был медицинский, ты бы поискала, а?
— Да что нам даст этот справочник, мы даже повязку не смогли наложить как следует, — сказала я, но послушно поднялась на ноги и пошла назад, к машинам.
Справочник нашелся быстро — собирая вещи, мы вспомнили о нем в последнюю очередь, уже после того, как все остальное было уложено, и Сережа просто воткнул его между двумя большими сумками. Я включила маленькую потолочную лампочку и осталась в машине, чтобы пролистать его в тишине — в холодный, темный дом возвращаться было незачем, а здесь было тепло и спокойно. Я была почти уверена, что ничего не найду, — что тут может быть полезного, в этой тонкой книжке — лекарственные растения, симптомы детских инфекций? К моему удивлению, нужная мне статья нашлась почти сразу — совсем короткая, неподробная, и почти каждый абзац в ней заканчивался фразой «без промедления эвакуировать в хирургическое учреждение», но она была, эта статья, я прочла ее два раза подряд, медленно, пытаясь понять каждое предложение, а потом, загнув страницу, сунула справочник под мышку и пошла обратно, к дому. Когда я открыла дверь, все посмотрели на меня — кроме Андрея, возившегося в бане, и Лени с Мариной, которых решено было оставить в Лендкрузере до тех пор, пока в доме не станет хотя бы немного теплее, они все были здесь, в центральной комнате с печкой. Тут было все так же холодно; на столе, покрытом смешной скатертью с подсолнухами, неровно горела маленькая толстая свеча, и в свете ее дрожащего крошечного огонька почти не видно было их лиц — только полупрозрачный белесый пар от их дыхания.
— Есть две новости — плохая и очень плохая, — сказала я, потому что они ждали от меня каких-то слов, как будто оттого, что книжка была у меня в руках, я одна знала, что нужно делать, — если нож вошел неглубоко, нужно просто зашить рану и как-то остановить кровь, и тогда, если не начнется заражение, он выкарабкается — но ему нужно лежать, дня три или четыре, и все это время нам придется провести здесь.
Они продолжали молча смотреть на меня и ждали, что я скажу дальше, и тогда я закончила, мысленно радуясь, что здесь, в этой комнате, нет Марины, а девочка еще слишком мала, чтобы понять мои слова:
— Если нож вошел глубоко, проткнул брюшную стенку и повредил что-нибудь у него внутри, — сказала я, — мы ничем не сможем ему помочь, даже если зашьем рану и остановим кровь — он все равно умрет. Я только не знаю когда, — добавила я, потому что они все еще молчали, — там не написано. И мне кажется, это будет очень мучительная смерть.
— Что тебе нужно, чтобы зашить рану? — спросил наконец Сережа.
— В каком смысле — что мне нужно? — уточнила я испуганно. — Ты правда думаешь, что зашивать его буду я?
Никто не спорил со мной, но вопрос мой так и остался без ответа — вернулся Андрей, сообщивший, что баня начала прогреваться; стоя на крыльце, я наблюдала за тем, как мужчины осторожно вытаскивают Леню из машины, а затем медленно, проваливаясь в глубокие сугробы, несут его в баню. Дверца Лендкрузера так и осталась открытой, и в слабом свете салонной лампочки видно было, что Марина по-прежнему сидит внутри, сложив руки на коленях, — неизвестно, сколько бы она просидела так, не двигаясь и не поворачивая головы, если бы Наташа не сбегала за ней и не привела ее в дом — войдя, она тут же села в углу, возле стола, и снова замерла; ее прекрасный белоснежный комбинезон спереди весь был испачкан — рукава, грудь и даже колени были покрыты уродливыми бурыми пятнами, на которые она, впрочем, не обращала никакого внимания. Мишка принес из колодца ведро воды — в баню, в баню неси, сказала ему Наташа, пусть поставят на печку, чтобы согрелась, — она снова копалась в аптечке. Я боялась пошевелиться, лишний раз сказать что-нибудь, неужели они действительно рассчитывают на то, что я смогу взять в руки иголку и воткнуть ее прямо в страшный, бледный, перепачканный кровью Ленин живот; что, если он закричит, дернется, что, если я не смогу помочь ему, если все это причинит ему только дополнительные страдания, а потом он умрет — все равно, несмотря на все наши усилия? Что, если он умрет прямо там, пока я буду зашивать его?
Вошел папа:
— Все готово, девочки, — сказал он с порога, — надо идти. Ира, побудь с детишками, а ты, Наташа, помоги Анюте, — и заметив, что мы не двигаемся с места, повысил голос: — Ну что же вы, давайте, шитье — это женское дело.
— Нет-нет-нет, — проговорила Наташа быстро, — я точно не могу, и не просите, я при виде крови сразу в обморок падаю, вот, возьмите — иголка, нитка — самая толстая, какую я смогла найти, бинтов еще целая куча, все, что хотите, только я туда не пойду. — Она подошла ко мне и почти насильно впихнула мне в руки раскрытую пластиковую коробку, а я подумала: прекрасно, я должна идти туда одна, там, наверное, уже пахнет — так же страшно, как пахло в салоне машины, свежей кровью и страхом; я сделала шаг к двери, другой, и тогда Ира вдруг сказала:
— Подожди, я пойду с тобой.
В бане было еще не жарко, но куртки уже можно было снять; пахло скорее приятно — разогретым деревом и смолой, мы оставили верхнюю одежду в предбаннике и зашли в парилку — маленькую и тесную; Леню положили на верхнюю полку, прямо на светлые некрашеные доски; мужики, сказала Ира недовольно, постелили бы что-нибудь; они сняли с него ботинки, куртку и свитер, но брюки оставили — он лежал не шевелясь, с закрытыми глазами, очень бледный и весь какой-то желтый, так что если бы не его отчетливое, неровное дыхание, я подумала бы, что он уже умер. К низкому дощатому потолку они прикрепили несколько связанных между собой фонариков — единственное освещение, которое было здесь доступно, — неровный, чуть дрожащий круг света, который они давали, был настолько мал, что не мог даже захватить целиком лежащего на полке человека, и его босые ноги с короткими расплющенными пальцами оказались уже за пределами этого круга, в темноте.
Я поставила аптечный ящичек на нижнюю полку, выпрямилась и посмотрела на Иру — она стянула через голову шерстяной свитер и осталась в светлой футболке с короткими рукавами; без толстого свитера она казалась совсем худенькой, длинная шея, торчащие девчачьи ключицы, тонкие, покрытые светлым пухом незагорелые руки. Мне было неловко вот так разглядывать ее, но я ничего не могла с собой поделать; похоже, она этого даже не заметила — связав свои длинные волосы узлом на затылке, она подняла голову и сказала:
— Давай руки вымоем, вода уже согрелась, наверное.
Дверь в парилку приоткрылась, на пороге снова показался папа.
— Держи, — сказал он, протягивая мне две бутылки — большую и маленькую, — вам пригодится, тут новокаин, чтобы хоть немного обезболить, и еще вот — спирт, для дезинфекции. А еще мы нашли вот это, — он приоткрыл дверь чуть пошире и осторожно внес невысокую, источающую теплый оранжевый свет стеклянную колбу, — поставьте себе куда-нибудь, чтобы посветлее было, только не переверните — она керосиновая.
Удивительно, но повязка была на месте — она сбилась, перепуталась и изрядно промокла, но по-прежнему плотно прижимала салфетки к ране; я попробовала было развязать стягивающие ее бинты, но безрезультатно. Отойди-ка, сказала Ира. В руках у нее были ножницы, она просунула лезвие под скомканную ленту бинта, и я со страхом увидела, как вздрогнул Ленин живот в том месте, где холодная сталь прикоснулась к коже, я не хочу этого делать, я просто не сумею, я еще даже не видела, что там, под салфетками, а мне уже плохо — не поднимая глаз, я попробовала вдеть нитку в иголку, и даже это было непросто, потому что руки у меня дрожали. Когда я уронила иголку во второй раз, Ира, спокойно стоявшая рядом, сказала:
— Знаешь что, давай-ка я.
— Разве ты умеешь? — спросила я, поднимая на нее глаза.
— Можно подумать, ты умеешь, — ответила она, иронически скривившись, — дай сюда иголку. Мое фирменное блюдо — фаршированная утка, так что я прекрасно сшиваю мясо, — я поежилась; заметив это, она продолжила, слегка повысив голос: — И я не вижу, чем Леня отличается от утки, разве что мозгов поменьше, — говорила она громко и очень уверенно, но лицо и даже поза, в которой она стояла — широко расставив ноги, обхватив руками узкие плечи, — выдавали ее — она боялась, боялась так же сильно, как и я, интересно, зачем тебе это, подумала я, что ты хочешь мне этим доказать — что мы друзья или что ты сильнее меня?
Она взяла бутылку спирта, с тихим хлопком откупорила ее и, подумав, сделала глоток — небольшой, прямо из горлышка, плечи у нее судорожно дернулись, лицо скривилось, она протянула бутылку мне и сказала:
— Глотни.
Я приняла бутылку из ее рук и осторожно понюхала — на глазах у меня выступили слезы.
— На вкус он еще хуже, — заметила Ира, ее бледные щеки уже начали розоветь, — но я бы все равно глотнула на твоем месте.
Я поднесла бутылку к губам — обжигающая отвратительная жидкость наполнила рот, горло сдавило спазмом, я не смогу это проглотить, ни за что не смогу, подумала я — и проглотила, и мне сразу стало немного легче.
Леня очнулся не сразу — может быть, он ослабел от потери крови, а может, новокаин хотя бы немного действовал, — он лежал спокойно все время, пока мы промывали рану спиртом, пытаясь смыть с его желтоватого, бледного живота потеки крови — засохшей и свежей, и даже не вздрогнул, когда Ира первый раз воткнула иголку — я не выдержала и отвернулась, и она тут же сказала:
— Ну уж нет, смотри, я не буду все это делать одна. Главное, в обморок не падай тут, — и только в этот момент Леня пришел в себя — живот его колыхнулся, и он попытался сесть, а я быстро схватила его за плечо, наклонилась над ним и сказала ему прямо в ухо:
— Тихо-тихо, все хорошо, потерпи, у тебя там дырка в животе, надо зашить. — Он жалобно посмотрел на меня и ничего не сказал — только моргнул несколько раз.
— Аня, кровь промокни и возьми ножницы, нитку резать, — сказала Ира сквозь сжатые зубы, и я тут же взяла в руки салфетку — голос у нее был такой, что непонятно было, кого из них мне нужно успокаивать первым, но руки совсем не дрожали — прокол, второй прокол, узелок. Отрезать нитку, промокнуть кровь. Еще прокол, второй прокол, узелок. Я бросила взгляд на его лицо — по щекам у него текли крупные, как у ребенка, слезы — но он молчал, только кусал губу, зажмуривался и делал короткий, резкий вдох всякий раз, когда Ира втыкала иглу.
Я смотрела сверху на ее светлую макушку, уже начинающую темнеть у самых корней — две недели в умирающем городе, за закрытой дверью, боясь выйти из дома даже за едой — тебе было не до того, чтобы красить голову, думала я, интересно, взяла ли ты с собой краску — если нет, ох и странный же вид будет у тебя через пару месяцев, прокол, еще прокол, узелок, господи, какие же гадкие вещи лезут в голову, хорошо, что никто не слышит моих мыслей, у него была толстая куртка, и живот — у него такой живот, а нож был совсем небольшой, с коротким широким лезвием, только почему так мало крови, мы сейчас зашьем его, перебинтуем, а назавтра он весь вздуется, почернеет и начнет мучительно, долго умирать, сколько нужно времени, чтобы умереть от внутреннего кровотечения — день, два, и мы все это время будем сидеть тут и ждать, когда же он наконец умрет, мы ведь не сможем его тут оставить — одного в остывающем доме, и мы будем просто ждать, и мысленно торопить его, потому что каждый потерянный день уменьшает наши шансы добраться до цели, и почувствуем облегчение, когда это закончится, — обязательно, а потом мы закопаем его в землю прямо здесь, за домом, неглубоко, потому что она наверняка промерзла метра на полтора, прокол, еще прокол, узелок, отрезать нитку, промокнуть кровь.
— Все, — выдохнула Ира наконец и выпрямилась, тыльной стороной ладони вытирая лоб, — давай салфетки пластырем приклеим, пусть мужики его перевязывают, нам все равно его не поднять.
Закончив, мы вышли на крыльцо, накинув куртки на плечи, и сели прямо на шаткие деревянные ступеньки — холода пока не чувствовалось. В руках у нее снова была бутылка со спиртом — как только мы сели, она откупорила ее и сделала еще один глоток, гораздо больше предыдущего, и в этот раз почти не поморщилась — а потом опять протянула бутылку мне. Я нашарила в кармане пачку сигарет и закурила.
— Дай мне тоже, — попросила она. — Я вообще-то не курю, боюсь, у меня мама умерла от рака два года назад.
— У меня тоже мама умерла, — неожиданно для себя сказала я и тут же подумала, что ни разу, ни разу за все это время не могла себя заставить произнести эти слова вслух, даже с Сережей, даже про себя.
Она держала сигарету неловко, как школьница, которую учат курить на школьном дворе, пальцы у нее были перепачканы — кровь, йод, в темноте невозможно было разобрать. Какое-то время мы курили молча и еще по разу отхлебнули из бутылки — ночь была тихая и совершенно беззвучная, сквозь заколоченные фанерой окна из дома не пробивалось ни лучика света, было очень темно — и фонари, и керосиновая лампа остались в бане, где на полке тихо лежал Леня с животом, крест-накрест заклеенным пластырем, провалившийся в сон сразу же, как только мы закончили мучить его, и поэтому вначале мы просто услышали, что кто-то идет в нашу сторону от дома, потом впереди засветилось белое пятно, и только когда человек в белом был уже в двух шагах от нас, мы увидели, что это Марина.
Она остановилась прямо перед нами, но ни о чем не спросила — просто стояла и молча смотрела — даже не на нас, а куда-то между нами, мы немного подождали, но, казалось, она может так стоять вечно, и поэтому Ира сказала ей:
— Живот мы ему зашили, а одежду ты уж сама как-нибудь.
Ответа не последовало, и в лице у Марины не произошло никаких перемен — она даже не подняла глаз.
— Знаешь, ему бы холод приложить, чтобы кровь остановилась, ты хотя бы снега набери в пакет, — сказала я; она все так же стояла, не шевелясь, и мне захотелось взять ее за плечи и как следует встряхнуть. Я почти уже поднялась ей навстречу, но тут она наконец подняла голову и посмотрела на нас.
— Вы же меня не бросите? — сказала она.
— То есть?
— Не бросайте меня, — глаза у нее заблестели, — у меня ребенок, вы не можете нас тут бросить, я все буду делать, все, что скажете, я хорошо готовлю, я стирать вам буду, вы только не бросайте меня, — она прижала руки к груди, и я увидела, что руки эти покрыты засохшей кровавой коркой, которая начала трескаться, когда она сжала кулаки, — казалось, это ей совсем не мешает, так вот о чем ты думала, пока сидела, скорчившись, прижимая руки к животу своего мужа, все время, пока мы ехали сюда, торопились, волновались, что не довезем его, пока мы зашивали ему живот, пока пили этот ужасный спирт, вот чего ты боялась, надо же, как странно.
— Ты дура, что ли? — сказала Ира, и мы обе, я и Марина, вздрогнули от того, как резко прозвучал ее голос. — Иди в дом, найди пластиковый пакет, набери в него снега и возвращайся к мужу, он лежит там совсем один, и тебе пора уже что-нибудь для него сделать, ты поняла меня?
Марина постояла еще мгновение — глаза у нее были совсем дикие — а потом, бесшумно повернувшись, растворилась в темноте.
— Дура, — повторила Ира вполголоса и бросила окурок в снег. — Дай мне еще сигарету.
— Знаешь, — сказала я, протягивая ей пачку, — он не сказал мне, что поехал за вами.
Она повернула ко мне голову, но промолчала, словно ждала, что я скажу дальше.
— Я просто хочу, чтобы ты знала, — продолжила я, уже понимая, что говорю сейчас не то, что этого не нужно говорить, тем более сейчас — особенно сейчас, — даже если бы он сказал мне, я бы не возражала.
Какое-то время она сидела молча, не шевелясь, и смотрела на меня — в темноте мне не видно было ее лица; потом она встала.
— Как ты думаешь, — спросила она спокойно, глядя куда-то в сторону, — почему он к тебе ушел?
Я не ответила, и тогда она резко наклонила ко мне лицо и взглянула мне прямо в глаза — холодно и недружелюбно.
— Очень просто, — сказала она, — родился Антошка, у меня были тяжелые роды, я отвлеклась на ребенка и на какое-то время потеряла интерес, понимаешь, и я перестала с ним спать. Только и всего. Поняла? Я просто перестала с ним спать. Если бы не это, он до сих пор был бы со мной, и мы жили бы в этом чудесном деревянном доме, а ты бы сдохла в городе вместе со всеми своими родственниками.
Она бросила незажженную сигарету себе под ноги, повернулась и пошла к дому, оставив меня на крыльце. Мне хотелось сказать: вообще-то, переезд за город — это была моя идея, мне хотелось сказать еще много разных вещей, но я не успела, я так ничего и не сказала, потому что осталась одна в темноте.
Оставшись одна, я замерзла — немедленно, как будто холод просто дожидался этого момента, чтобы наброситься на меня — на улице было градусов двадцать, не меньше, мы провели на крыльце около четверти часа, но почувствовала я это только сейчас — пальцы перестали гнуться, уши и щеки застыли, но я все равно не могла себя заставить пойти сразу за ней — этого не может быть, это какая-то чушь, думала я, возвращаясь в теплый предбанник, какой-то дурацкий, нелепый детский сад, там мой муж и мой сын, я должна сейчас сидеть с ними у огня, за столом, за последние сутки случилось столько всего, о чем нам нужно поговорить, а вместо этого я зачем-то торчу здесь, в этой бане, с чужим мужиком, который мне даже никогда не был особенно симпатичен, в то время как и его жена, и эта другая женщина, которой удивительным образом удается всякий раз заставить меня почувствовать себя так, словно я на самом деле в чем-то перед ней виновата, — обе они сейчас там, в теплом маленьком доме, до которого каких-то десять шагов по темному двору, десять шагов, которые я никак не могу заставить себя сделать.
Я толкнула дверь в парилку и заглянула внутрь — там было тихо и тепло, поток воздуха, который я впустила, качнул привязанные к потолку фонарики и заставил задрожать оранжевый огонек лампы, стоящей на нижней полке. Леня лежал неподвижно, в той же позе, в которой мы оставили его, и дышал тяжело и хрипло, как выброшенный на берег кит, с усилием выталкивая воздух из легких — наверное, ему неудобно было лежать на спине, с запрокинутой головой, на твердых деревянных досках. Я поискала глазами вокруг и наткнулась на сброшенный Ирин свитер, который она забыла забрать, свернула его вчетверо и положила ему под голову; затылок у него был влажный, на висках блестели капельки пота. Когда я наклонялась над ним, он внезапно открыл глаза — я заметила, что они у него совсем светлые, почти прозрачные, с пушистыми, трогательно загнутыми вверх ресницами.
— Спи, Ленька, все самое плохое позади, — сказала я, глядя на него, мне казалось, что сейчас он обязательно спросит «Я умру?» или заговорит о том, чтобы мы не бросали его — как сделала его жена несколько минут назад, и уже приготовилась ответить что-нибудь вроде «не сходи с ума» или «иди ты к черту», но вместо этого он втянул носом воздух и спросил:
— Это что, спирт? Мне оставьте чуть-чуть, — и улыбнулся — пусть криво, слабо, но улыбнулся.
— Я свет выключу, — сказала я тогда и потянулась к висящим над его головой фонарикам, и он тут же, все еще улыбаясь, еле слышным голосом рассказал один из своих гнусных, неприличных анекдотов про лифт, в котором неожиданно погас свет, и, как всегда, рассмеялся первым, не дожидаясь реакции — только в этот раз он сразу замолчал, захлебнувшись собственным смехом и скривившись. Я стояла возле него и ждала, пока приступ боли пройдет — он лежал теперь тихо, осторожно дышал носом и ничего больше не говорил — и неожиданно для себя вдруг погладила его по голове, по мокрой щеке и повторила:
— Ты спи, Ленька. Сейчас Марину к тебе пришлю.
С Мариной я столкнулась на пороге дома; я открыла дверь, но войти не успела — она почти оттолкнула меня и пробежала мимо, не говоря ни слова, даже не взглянув в мою сторону. Веранда была все такая же темная и холодная, и я еле нащупала ручку двери, ведущей внутрь, в тепло и свет, — когда она открылась, мне пришлось сощуриться, несмотря на царивший в комнате полумрак. Все сидели вокруг стола, на котором стояли тарелки; вкусно пахло едой и табачным дымом. Войдя, я услышала обрывок Ириной фразы:
— …да что я такого сказала? Ладно вам, странно, что ей вообще об этом нужно было напоминать.
Что-то было не так за этим столом — и дело было не в том, что кого-то не хватало, — все, кроме Марины, были на месте, но позы у них были напряженные; вначале я подумала, что просто пропустила какое-то выяснение отношений — и не удивилась, она наверняка опять сказала что-то резкое, что-то лишнее, редкий талант у этой женщины — никому не нравиться, я увидела пустой стул — скорее всего Маринин, и села, отодвинув от себя тарелку с остатками еды, и только потом подняла глаза. Дом уже нагрелся — дети были без курток, они уже поели и оба клевали носом — и Антон, и девочка, но все еще сидели тут же, сонные и безучастные ко всему; посреди стола стояла большая, немного облупившаяся эмалированная кастрюля — наверное, хозяйская, — в которой оставалось еще немного макарон с тушенкой, уже покрывшихся пленкой остывающего жира. Едва взглянув в кастрюлю, я поняла, что совершенно не хочу есть — возможно, из-за того, что мы только что делали с Леней, а может быть, из-за спирта, бушевавшего у меня в желудке.
— А-неч-ка, — раздельно произнес вдруг папа, голос у него был странный, и я повернулась к нему — он сидел в дальнем углу стола, полная тарелка возле правого локтя — и то ли его поза, то ли нетронутая еда на столе рядом с ним заставили меня взглянуть на него внимательнее. Больше он ничего не сказал и даже не шевельнулся, он все так же сидел, низко опустив голову, но я как-то сразу, в одно мгновение поняла, что он пьян — мертвецки, почти до бесчувствия, настолько пьян, что еле держится сейчас на своем стуле.
— Он что?.. Он..? — Мне не нужно было глядеть на Андрея и Наташу, которые были совершенно ни при чем, или на Иру, которая невозмутимо ела, не поднимая глаз; у Мишки на лице было несчастное и какое-то брезгливое выражение, а когда я взглянула на Сережу, я увидела, что он зол — очень зол, настолько, что не может даже смотреть на меня, как будто он сердится на меня за то, что я вижу это, как будто это я виновата.
— Не знаю, когда он успел, — отрывисто сказал он, — я нашел еще одну печку — в другой комнате, — он неопределенно махнул рукой куда-то в темноту, в глубь дома, — и пока я возился с дровами… он собирался отнести вам спирт, он донес хотя бы немного?
— Донес, — ответила я, — там была целая бутылка…
— Видимо, не одна, — со злостью сказал Сережа, — черт бы его побрал совсем!
Мы помолчали; тишину нарушал только звук Ириной вилки, звякающей об тарелку, потом папа вдруг завозился, раскачиваясь на своем стуле, и попробовал было засунуть руку в карман, но она только беспомощно скользнула по плотной ткани его вытертой охотничьей куртки — после нескольких бесплодных попыток он снова замер, с рукой, безвольно повисшей вдоль тела, головы он так и не поднял.
— Наверное, надо его спать уложить? — неуверенно сказала я. Ира вдруг громко, отчетливо хихикнула.
— Да-да, — ответила она и положила локти на стол, — и очень желательно как следует его запереть. Если я правильно помню, до следующего акта осталось совсем чуть-чуть.
— Что значит — до следующего акта?.. — спросила я, чувствуя себя очень глупо.
— О, так ты не знаешь, — сказала она весело, — ты ей не рассказывал, Сережа? Он любит пошутить, когда выпьет, наш папа.
— Ир, хватит, — сказал Сережа, поднимаясь, — положим его в дальней комнате. Поможешь, Андрюха? Мишка, подержи дверь.
Казалось, папа и не заметил, что его подняли со стула и несут куда-то — если бы не открытые глаза, бессмысленно смотрящие в одну точку, он был бы похож на человека, который очень крепко спит. Они скрылись за дверью — Мишка держал ее — и через минуту снова появились на пороге, с усилием пытаясь протолкнуть через узкий дверной проем тяжелую кровать с металлической спинкой; вытащив ее, они плотно прижали спинку кровати к косяку двери — так, что открыть ее теперь было невозможно.
— Прости, Мишка, — сказал Сережа, голос у него был виноватый, — придется тебе сегодня спать тут, на проходе.
Мишка пожал плечами и сел на краешек кровати, но тут же вскочил с нее, потому что и хлипкая деревянная дверь, и кровать, прижимавшая ее к косяку, внезапно содрогнулись от сильного толчка, и тут же из-за стены послышался голос, который едва можно было узнать:
— Откройте, черти, — крикнул он, — Серега, кто там еще… Откройте быстро!
— Вот и он, — сказала Ира вполголоса, — старый добрый цирк с конями. — И Сережа болезненно скривился.
Я подошла к Мишке, обняла его, и несколько минут мы просто стояли возле двери и слушали, а с другой ее стороны папа бился об нее плечом, дергал ручку и ругался — отчаянно и зло, и я думала, вот она, причина, по которой его не было на нашей свадьбе, вот почему я видела его всего несколько раз, вот почему Сережа никогда не приглашал его к нам на выходные, а вместо этого встречался с ним отдельно, в городе. Девочка, сидевшая за столом, неожиданно громко заплакала, и Наташа подхватила ее на руки, шепча ей на ухо что-то успокаивающее, и тогда Сережа сильно ударил по тонкой двери ногой — она жалобно затрещала — и закричал:
— Да заткнись ты наконец, черт тебя подери!..
— Ну, ну, — сказала Ира, подходя к нему, — ты же знаешь, это бесполезно. Если не обращать на него внимания, он быстрее успокоится. — Она протянула руку и легонько сжала его плечо, и он тут же кивнул и сел на кровать, мрачно смотря себе под ноги, он никогда мне об этом не рассказывал, ни слова, я просто знала, что между ними что-то не так, хотела бы я знать, что еще осталось за кадром, сколько их еще — важных вещей и незначительных мелочей, которые случились с ним без меня, до меня и которые, похоже, я никогда уже не смогу разделить с ним — в отличие от нее. Чтобы не думать об этом, я попробовала пошутить:
— Видимо, глупо будет сейчас предложить всем нам дернуть немного спирта после ужина, да? — И сразу же пожалела об этом: хмыкнул только Андрей — Наташа была занята девочкой, Сережа даже не обернулся, а Ира подняла брови и закатила глаза.
Минут через десять папа наконец затих; настроения разговаривать ни у кого больше не было, все понимали — лучшее, что мы можем сделать сейчас, после этого бесконечно длинного дня, — это лечь спать. Одна комната из трех была теперь занята — даже с учетом того, что Марина с Леней в эту ночь оставались в бане, куда мужчины отнесли им матрас и несколько одеял, для оставшихся двух комнат нас по-прежнему было слишком много — пятеро взрослых и трое детей.
— Андрюха, давайте с Наташкой в маленькую комнату — дров возьмите с собой, там еще одна печка, — предложил Сережа. Подожди, хотелось мне сказать, так нельзя, мы не можем спать с ней в одной комнате, я не смогу, это неправильно, он поймал мой взгляд и вдруг подмигнул мне, и продолжил: — Ир, уступаем тебе место возле печки — кровать большая, ты же поместишься с двумя детьми? — Она кивнула. — Я тебе спальник сейчас принесу. Пойдем, Мишка, пробежимся до машины.
Присев на корточки возле девочки, которая, успокоившись, снова превратилась в неподвижного, отрешенного болванчика нэцке — маленькие глазки, толстые щечки, Ира снимала с нее сапожки и не обращала на меня никакого внимания, но мне все равно совершенно не хотелось оставаться с ней наедине — накинув куртку, я вышла на холодную веранду и достала сигарету. Сквозь замерзшее стекло я смотрела на то, как они идут по засыпанному снегом двору к воротам, проваливаясь в сугробы и освещая себе дорогу фонариком, — единственные, кто у меня остался, бесценные и незаменимые, два человека, чья жизнь мне важнее всего остального мира.
Едва я успела докурить сигарету и затушить ее прямо о деревянный подоконник (простите, безымянные хозяева), они вернулись; нагруженный двумя спальными мешками, Мишка направился было к входной двери, но я остановила его и еще раз обняла, как всегда в таких случаях удивившись про себя тому, что мой тощий, смешной мальчик, оказывается, выше меня почти на голову, наверное, я никогда к этому по-настоящему не привыкну, щека у него была холодная и колючая — совсем чуть-чуть, покрытая полупрозрачным юношеским пухом; он привычно застыл, терпеливо позволяя мне обнять себя, обе руки у него были заняты; ты сегодня спас нам жизнь, подумала я, и никто даже не успел поблагодарить тебя за это, никто не хлопал тебя по плечу, не говорил тебе, что ты молодец, совсем взрослый, но ты же знаешь, как сильно я люблю тебя, даже если я не говорю этого вслух, ты же знаешь, правда, ты должен знать. В конце концов он, как обычно, осторожно освободился и, смущенно буркнув что-то, толкнул дверь плечом и скрылся в доме, и мы остались на темной веранде вдвоем — на фоне покрытого инеем окна я видела только темный Сережин силуэт, и как только за Мишкой закрылась дверь, он шагнул ко мне и сказал вполголоса:
— У меня для тебя сюрприз, малыш. Пойдем со мной.
Лестница на второй этаж была шаткая, узкая и громко скрипела у нас под ногами; это был и не чердак, и не мансарда, а что-то среднее между тем и другим — с потолком, поднимавшимся в самой верхней своей точке чуть выше человеческого роста и резко падавшим вниз — настолько, что до стен можно было добраться, только встав на четвереньки, с еле различимой в свете фонарика обычной чердачной рухлядью, с маленьким окошком под самой крышей. Единственное во всем доме, оно не было заколочено; подойдя поближе, я увидела небо — черное и прозрачное, с рассыпанными по нему звездами, похожими на булавочные проколы в темно-синей бархатной бумаге, а внизу, под самым окном — неширокий, приземистый топчан. Сережа бросил на него последний спальник, снял куртку и погасил фонарик.
— Иди сюда, маленькая, — тихо позвал он, — я страшно соскучился по тебе.
Матрас был жесткий, со старыми, скрипучими пружинами, часть которых, казалось, готова была прорвать истончившуюся от старости обшивку и вырваться наружу — это чувствовалось даже сквозь толстый спальный мешок; от него пахло пылью и немного сыростью, но все это было не важно — я прижалась губами и носом к теплой Сережиной шее в том месте, где заканчивался ворот его шерстяного свитера, и изо всех сил вдохнула, и задержала дыхание, и закрыла глаза. Вот оно, мое место, именно здесь я должна быть, только здесь мне по-настоящему спокойно, и я готова лежать так неделю, месяц, год, и к черту все остальное; он притянул меня к себе и поцеловал — длинно, нежно, я почувствовала его пальцы, которые одновременно оказались всюду — у меня на бедрах, на шее, на ключицах, звякнула пряжка его ремня, скрипнула молния на моих джинсах, подожди, зашептала я, подожди, перегородки совсем тонкие, слышно было, как Ира тихим голосом убаюкивает детей, они услышат, сказала я, они обязательно нас услышат, плевать, малыш, его горячее дыхание обжигало мне ухо, к черту все, я хочу тебя, пружины жалобно скрипнули, он зажал мне ладонью рот, и все вокруг исчезло — как исчезало всегда, с первого дня, и так же, как всегда, окружающий мир мгновенно схлопнулся, превратился в крошечную точку на краю сознания и пропал совсем, и остались только я и он, и никого, кроме нас.
Потом мы смотрели на звезды и курили одну сигарету на двоих, стряхивая пепел прямо на пол, кому-то, наверное, надо посторожить, сказала я сонно — не волнуйся, малыш, спи, Андрюха разбудит меня через три часа — хочешь, я посижу с тобой, разбуди меня — глупости, спи, маленькая, все будет хорошо — и тогда я заснула, крепко, без сновидений, прижавшись щекой к его теплому плечу, просто провалилась в теплую, беззвучную, безопасную темноту, ни о чем больше не думая и ничего не боясь.
…если открыть на секунду глаза, видно, что снаружи по-прежнему ночь, черное маленькое окошко над нашими головами, квадратный кусок расшитого звездами неба, тихо и холодно, очень холодно, нужно натянуть одеяло до подбородка, но руки не слушаются, небо вдруг сдвигается с места, звезды смещаются, оставляя хвостатые следы, черный квадрат окна надвигается, увеличивается в размерах, пыльный промерзший чердак наконец исчезает, и вокруг не остается никого. Это совсем не страшно — лежать на спине и смотреть вверх, в зимнюю черноту, без мыслей, тревог и страхов, мы так хорошо умеем это в детстве — отойти на шаг в сторону и заставить весь мир исчезнуть, просто отвернувшись от него, выключить звуки, упасть в сугроб, раскинув руки, запрокинуть голову и замереть, ощущая только покой, тишину и холод, неопасный, усыпляющий, чувствовать, как неторопливо, словно огромный кит, движется под тобой планета, не замечающая тебя, не знающая о тебе; ты всего лишь крошечная точка, пунктирная линия, от тебя ничего не зависит, ты просто лежишь на спине, а кто-то везет тебя, тянет вперед, словно на санках. Мама оборачивается и говорит — Аня, ты не замерзла, потерпи немного, мы почти дома, ты не видишь ее лица, только небо, которое движется — вместе с тобой, но медленнее, чем ты; даже если закрыть глаза, даже если заснуть, движение продолжается, и темнота, и холод; холод, не оставляющий тебя.
Я выныриваю на мгновение — Сережи нет, пыльный, сырой топчан, молчаливая чужая рухлядь, обступающая его со всех сторон, жесткие пружины, впивающиеся в спину, и нет сил повернуться; холодно, хочется пить. Молния спального мешка царапает щеку, и трудно держать глаза открытыми — всякий раз, с усилием поднимая веки, я вижу, что стены приблизились на шажок, а потолок чуть опустился, и хотя небо со всеми своими звездами снова зажато в маленькую оконную рамку, если приглядеться, то можно увидеть, как оно дрожит, вспучивая стекло, готовое ворваться и снова накрыть меня с головой. Наверное, так дома сопротивляются вторжению — насылая на заснувшего в них чужака безнадежные, нескончаемые ночные мороки, тоскливые сны, в которые вплетается каждый негодующий вздох ветра в дымовой трубе, каждый незнакомый запах или звук, исторгаемый потревоженным жилищем, принадлежащим кому-то другому, — старые вещи, стены и скрипучие лестницы пытаются хранить верность своим хозяевам, даже если те давно уже сгинули и никогда больше не вернутся; ты можешь делать вид, что не замечаешь этой враждебности, этого возмущения и не чувствуешь попыток вытолкнуть тебя, но стоит тебе заснуть, как ты немедленно становишься беззащитен и слаб и не можешь сопротивляться.
Когда я в следующий раз открыла глаза, все исчезло — сжатое оконной рамой черное небо, скрипы и вздохи; вещи перестали двигаться, стены отступили — из-под потолка, сквозь маленькое окошко заглядывал теперь тусклый бессолнечный зимний рассвет, освещая пыльный захламленный чердак, так напугавший меня ночью и такой будничный теперь. Все было снова в порядке, остался только холод и жажда — спустив ноги с топчана, я какое-то время неподвижно сидела, собираясь с силами, чтобы встать — мне просто нужно уйти отсюда, вниз, в тепло, съесть что-нибудь горячее, и я сразу почувствую себя лучше. Я с трудом зашнуровала ботинки — пальцы никак не хотели слушаться, и шнурки все время выскальзывали — накинула куртку и пошла к лестнице.
Внизу, на веранде, дремал Андрей, плотно завернувшись в свою теплую куртку и спрятав нижнюю часть лица под поднятым воротником; Сережино ружье стояло тут же, прислоненное к стене. Стекла замерзли настолько, что сделались непрозрачными — снаружи не было видно совсем ничего, словно ночью, пока мы спали, чья-то гигантская рука вырвала дом вместе с верандой из земли и утопила в молоке. Услышав мои шаги, Андрей встрепенулся, поднял голову и кивнул мне:
— Адский холод был ночью, — сказал он и зевнул — на подоконнике рядом с ним стояла еще дымящаяся чашка с чаем, пар от которой понемногу плавил покрывшую стекло ледяную корку, — иди внутрь, погрейся. Нам повезло — день сегодня пасмурный, дым из нашей трубы с дороги не видно, можно печку топить спокойно.
Обступившая веранду молочная белизна ослепила меня, но внутри дом был погружен в полумрак — и хотя несколько досок, закрывавших ночью окна, были теперь сорваны, света, проникающего сквозь эти узкие щели, все равно было недостаточно, так что мне пришлось остановиться на пороге, чтобы глаза привыкли к темноте. Уютно пахло свежесваренным кофе.
— Дверь закрывай поскорее, — раздался Ирин голос откуда-то от стола, — детей простудишь.
— Проснулась? — Сережа поднялся мне навстречу. — Я не стал тебя будить, ты так беспокойно спала ночью. Садись за стол, Анька, завтрак уже готов.
При мысли о еде меня замутило.
— Я не хочу есть, — сказала я, — ужасная эта кровать, у меня все тело болит, и я страшно замерзла там, наверху. Я посижу немножко у печки, потом поем, ладно?
Не хотелось даже снимать куртку — словно холод, мучивший меня всю ночь, затаился где-то внутри, под кожей, в костях и позвоночнике, а расстегнувшись, я только выпустила бы его наружу — и он тут же заполнил бы здесь каждый угол, выдавил из этой крошечной комнаты все хранящееся в ней тепло прямо сквозь трещины в рассохшихся окнах, и тогда я никогда уже не согрелась бы. Я прижалась плечом к кирпичному печному боку — не боясь ни испачкаться, ни обжечься; если бы можно было, я легла бы прямо на пол, возле приоткрытой топки, как собака, чтобы не упустить ни капли исходящего от нее тепла, чертова печка, почему-то совсем не греет.
— Что значит — не хочу есть? — спросил Сережа. — Да ты вчера целый день ничего не ела. Давай-ка за стол; Мишка, налей ей чаю. Аня, ты слышишь? Сними хотя бы куртку, здесь жарко.
Даже с места не сдвинусь, думала я, опускаясь на корточки возле печи, шершавый кирпич легонько царапнул мне щеку, надо хотя бы немного согреться, оставьте меня здесь, не нужно мне вашего чая, просто не трогайте меня.
— Анька! — повторил Сережа, голос у него был сердитый. — Да что с тобой такое?
— Ничего, — сказала я, закрывая глаза, — просто мне холодно, мне ужасно холодно. Я не буду есть, мне ничего не нужно, я просто хочу согреться.
— Ты сказала, у тебя болит все тело? — спросила Ира резко, и какое-то неприятное напряжение в ее голосе на мгновение выдернуло меня из равнодушного, сонного забытья, уже начинавшего накрывать меня непроницаемым глухим колпаком, словно я забыла о чем-то и вот-вот вспомню, я с усилием открыла глаза — комната расплывалась и дрожала — и увидела Сережу, поднявшегося со своего места, Мишку с кружкой горячего чая в руках, направляющегося ко мне, а за ними — искаженное страхом Ирино лицо, бледный восклицательный знак, который немедленно швырнул меня на ноги — в один миг, так, что закружилась голова, словно кто-то оглушительно рявкнул мне в ухо; с грохотом обрушился стоявший возле печки стул, который я задела локтем.
— Не подходи ко мне! — крикнула я Мишке, и он сразу остановился как вкопанный — так резко, что немного чая выплеснулось из доверху налитой кружки и увесистой каплей шлепнулось на пол; он ничего еще не понял, так же, как и Сережа, не успевший пока сделать ни шагу, с застывшим, озадаченным выражением. — Не подходите ко мне, — повторила я и прижала обе руки ко рту, и начала отступать назад — до тех пор, пока не уперлась спиной в стену, и все это время я видела только Иру, одной рукой прижимающую к лицу полотенце, а второй — закрывающую лицо сидящего рядом с ней мальчика.
В крошечной каморке с буржуйкой было пыльно и темно — свет с трудом проникал сквозь щели между досками, которыми были заколочены окна снаружи; не было ни лампы, ни свечи. В самом углу, под окном, стояла узкая кровать со скомканным Наташиным спальным мешком, а на полу все еще лежала распахнутая спортивная сумка со сложенной стопками одеждой, об которую я споткнулась, отступая из центральной комнаты — спиной, с прижатыми ко рту руками, задержав дыхание, словно даже воздух, который я выдыхала, был ядовит и опасен для остальных. Единственным достоинством этой маленькой захламленной комнаты была крепкая, металлическая задвижка на двери, прикрученная к косяку четырьмя толстыми шурупами — деревянная дверь рассохлась, перекосилась, и даже плотно закрыть ее было почти невозможно, не говоря уже о том, чтобы защелкнуть эту чертову задвижку, я сломала ноготь и содрала кожу с пальцев, но в конце концов сделала и то и другое и только потом почувствовала, как остатки сил покидают меня, уходят, словно воздух из проколотой покрышки, и не смогла сделать больше ни одного шага, и опустилась на пол прямо на пороге. В ту же минуту ручка двери шевельнулась.
— Открой, Анька, — тихо сказал Сережа из-за двери, — не сходи с ума.
Я не ответила — не потому, что не хотела, просто для того, чтобы произнести хотя бы слово, нужно было бы сейчас поднять голову, вытолкнуть воздух из легких, слава богу, здесь тепло, буржуйка уже погасла, но еще не остыла, надо сделать над собой усилие и добраться до кровати, до нее шагов пять, не больше, это не может быть так уж сложно, я просто посижу здесь немного, а потом попробую сделать это — мне ведь вовсе не обязательно вставать, я могу доползти до нее на четвереньках, а потом подтянуться на руках — и лечь наконец; главное, не ложиться здесь, на полу возле двери, потому что если я сейчас лягу, я точно уже не смогу подняться. За дверью что-то происходило, но голоса доносились до меня словно через толстое ватное одеяло, и какое-то время они были просто набором бессмысленных звуков, и только потом, постепенно, с задержкой всплывало значение отдельных слов:
— Откройте дверь. Надо проветрить — быстро! Антон, иди сюда, надевай куртку. — Это Ира.
— Это невозможно, мы все время были вместе. — это Сережа.
— Что у вас тут за крики? Что случилось? — Это Андрей.
— Собирайте вещи, здесь нельзя оставаться. — Снова Ира.
— Наши вещи там, в комнате! — Это Наташа.
Они говорили и говорили, все разом, и слова, которые они произносили, постепенно смешались, переплелись, превратились в ровный, непрерывный гул. Маленькой я очень любила, зажмурившись и задержав дыхание, опустить голову под воду, кончики пальцев ног упираются в бортик ванной, мама идет по коридору из кухни — десять шагов, раз, два, три, четыре, из-под воды шаги почему-то слышны лучше, девять, десять — и вот она уже здесь. Анюта, ты опять ныряешь, вставай, пора мыть голову, сквозь воду мамин голос звучит глухо, невнятно, под водой спокойно и тепло, но заканчивается воздух, и надо выныривать. Надо выныривать.
Наверное, я заснула — ненадолго, на несколько минут, а может быть, на полчаса — когда я открыла глаза в следующий раз, за дверью уже стояла полная тишина. Что-то изменилось — я даже не сразу поняла, что именно: комната была теперь залита светом — ярким, белым и слепящим — кто-то убрал доски, которыми было заколочено окно, и я удивилась тому, какое оно, оказывается, большое — теперь отчетливо видно было каждую трещину в деревянных половицах, кучки мусора по углам, ободранные оконные рамы и подоконники с оставшимися с лета заснувшими мухами, щепки и золу на полу перед буржуйкой, выцветший полосатый матрас на кровати — все так же сидя на полу возле двери, я неторопливо и тщательно рассматривала комнату, в которой оказалась; теперь, когда дверь была надежно заперта, страха больше не было — почти равнодушно я подумала о том, что скорее всего именно в этой крошечной, чужой комнате, с дурацким отрывным календарем на стене, время на котором остановилось девятнадцатого сентября, я умру.
Ни разу за эти несколько последних, страшных недель, прошедших с момента, когда закрыли город, когда я узнала о том, что мамы больше нет, когда мы смотрели телевизионные репортажи об опустевших, умирающих городах, и потом, когда мы проезжали мимо них на самом деле и видели людей, везущих на санках своих мертвых по засыпанным снегом улицам, под размеренный, далеко разносящийся в неподвижном морозном воздухе металлический звон; и даже потом, во время встречи с мрачными людьми в ржавых овчинных тулупах на безлюдной лесной дороге — ни разу за все это время мне не пришло в голову что я — именно я, я лично — могу умереть, словно все это — эпидемия, наше поспешное бегство, выматывающая, полная неожиданностей дорога и даже то, что случилось с Леней — было всего лишь компьютерной игрой, реалистичной и страшной, но все-таки игрой, в которой всегда оставалась возможность вернуться на шаг назад и отменить одно или несколько последних неверных решений. Что я сделала не так? Когда я ошиблась — в тот раз, когда сняла маску, чтобы поговорить с доброжелательным охранником на заправке, или вчера, в лесу, когда неосторожно выскочила прямо в руки улыбчивому незнакомцу в лисьей шапке?
Я с трудом поднялась на ноги — голова по-прежнему кружилась, в ушах звенело — подошла к окну и, прижавшись лбом к холодному стеклу, подышала на него, чтобы выглянуть на улицу. Окно выходило на внутренний двор — видно было баню с приоткрытой дверью и дорожку следов в глубоком снегу, соединяющую крыльцо бани с домом. Во дворе не было ни души, и в доме тоже стояла полная тишина — на мгновение я даже готова была поверить в то, что, пока я дремала, остальные торопливо покидали вещи в машину и уехали, оставив меня здесь одну. Разумеется, этого быть не могло, но мне обязательно нужно было занять мысли — чем угодно, только бы не провалиться снова в отупляющую, равнодушную сонливость, которая опять начинала накрывать меня, мне мучительно хотелось лечь на кровать, накрыться спальным мешком, закрыть глаза и провалиться в глубокий, милосердный сон — только вот дверь была заперта, я не слышала больше голосов за ней и почему-то знала совершенно точно, что если засну сейчас, то обязательно пропущу момент, когда Сережа сломает эту дверь, и не успею остановить его.