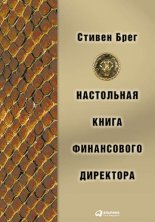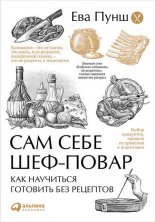Вонгозеро Вагнер Яна
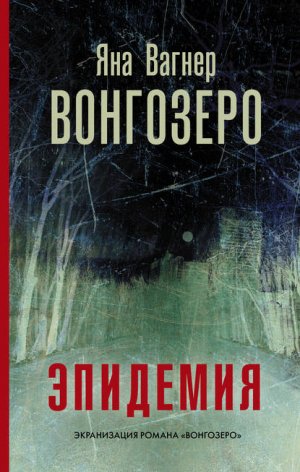
Часы показывали половину четвертого утра.
За моей спиной захрустели шаги.
— Ну, что? — спросила Наташа, подходя. — Как дела у вас? Ира и дети спят, но в Витаре холод такой собачий, Сережа, не у тебя ключи, я не хотела ее будить, надо бы машину завести, погреться немножко, а то дети замерзнут.
Я посмотрела на Сережу — он не ответил. Ну что же ты молчишь, подумала я, давай, скажи ей, давайте все вместе прикинем, надолго ли нам хватит бензина, если мы просто будем стоять здесь, возле этой ямы, непреодолимым барьером преградившей нам путь, отрезавшей нас от цели, посреди стылой, равнодушной пустоши, в которой до самого горизонта нет ни одного огня. Может быть, его будет достаточно, чтобы протянуть всю оставшуюся ночь и даже весь следующий день — а потом мы станем жечь наши вещи, одну за другой, сваливая их в жалкий, еле греющий костер, а потом мы снимем покрышки — сначала с одной машины, а потом и со всех остальных, и они будут гореть, окутывая нас черным, едким и вонючим дымом; а после, в самом конце, мы будем сдирать обивку с сидений, потому что она тоже горит и дает тепло, только обивку Лендкрузера не тронем, потому что она из кожи, а это значит, Лене с Мариной придется замерзнуть раньше остальных, чертовы пижоны, кожаный салон — с ужасом я услышала собственный смех, я была абсолютно, пугающе спокойна, страха не было — только какое-то иррациональное, дурацкое торжество, я сейчас подниму глаза и скажу — я же вам говорила, ну, что вы теперь скажете?
— Мам, — сказал Мишка тихо, — ты чего?
Я повернулась к нему — он смотрел на меня, часто и удивленно моргая, и ресницы у него были совсем белые, а губы от холода едва шевелились, и тогда глупая, неуместная улыбка мигом слетела с меня, и я подпрыгнула к нему, сняла варежки и сжала обеими руками его щеки, его уши — хрупкие, как будто стеклянные от мороза, руки у меня были холодные и не смогли бы согреть его, я сжала сильнее — и он ойкнул от боли и мотнул головой, вырываясь.
— Ты замерз? Ты чувствуешь уши? Где твоя шапка? — Я стала стягивать свою шапку с головы, я его не согрею, мне ни за что его не согреть, господи, что же мне делать, кто угодно, только не Мишка, лучше бы мы остались там, дома, а он отталкивал мои руки и старался освободиться.
— Так, — сказал вдруг Сережа, в один прыжок перемахнув через внушительную кучу снега, отделяющую обочину от поглотившей Лендкрузер ямы, и быстрым движением выдернул из кармана Мишкиной куртки шапку, и я тут же поняла, что все время видела ее краешек, торчавший снаружи; вторым, таким же быстрым движением он натянул эту шапку Мишке на голову до самых бровей, — так, — повторил он, — вы идите в машину и грейтесь, а мы тут еще покопаем, — и тут же, словно разговор с нами был закончен, отвернулся и продолжил: — Надо копать вперед, пап, три мужика здоровых, победим мы эту гребаную яму, в конце концов, срубим дерево, топоры у нас есть, положим доски под колеса, нам все равно вперед надо ехать, не возвращаться же.
— Давайте-ка перекурим это дело, — отозвался папа — сипло, но вполне бодро.
— Потом покурите, по дороге, — в тон ему сказал Андрей, — я замерз, как собака, пошли, посмотрим на эту яму, — и, не дожидаясь ответа, пошел — медленно, увязая в снегу почти по колено, обогнул неподвижный Лендкрузер и двинулся вперед, втыкая лопату в снег через каждые пару шагов, крикнув Сереже через плечо:
— Ты не заводи пока, просто свет включи, ни черта же не видно, — и папа пошел следом за Андреем, обходя машину с другой стороны, а Сережа полез обратно, в кабину.
Мы стояли на обочине — я, Мишка и Наташа, и смотрели на них, позабыв на какое-то мгновение о холоде, надеясь в любую секунду услышать, что яма закончилась, что она оказалась невелика и потребуется совсем немного времени, чтобы вызволить замершую в ней машину и проложить дорогу для остальных, беспомощно столпившихся на ее краю; я обхватила Мишку обеими руками и прижалась щекой к ледяному рукаву его куртки и почувствовала, как он еле заметно дрожит от холода.
— Ну что ты там возишься, Серега? — повторил Андрей нетерпеливо — он уже отошел шагов на семь-восемь и почти скрылся в темноте. — Давай, включай свет! — Но Сережа почему-то не реагировал — с обочины было видно, что он просто сидит в кабине, не двигаясь, а потом он вдруг распахнул дверцу и встал на подножке, внимательно всматриваясь вперед, и тогда мы тоже посмотрели в ту сторону — туда, где и беззвездное небо, и деревья, и снег — все было неразличимо, одинаково, густо и черно, словно там, впереди, не было вообще ничего — край Вселенной, абсолютная пустота, и прямо посреди этой пустоты мы увидели то, на что смотрел Сережа: светлую дрожащую точку, которая — и через несколько мгновений в этом уже не оставалось никаких сомнений — постепенно становилась ярче и увеличивалась в размерах, что могло означать только одно — она приближалась к нам.
— Что это такое? — спросил Мишка и высвободился из моих рук. Я сделала несколько шагов вперед, словно эти несколько шагов позволили бы лучше рассмотреть неизвестную точку, постепенно увеличивавшуюся на наших глазах и похожую теперь скорее на пятно, яркое пятно с размытыми краями.
— Кто-то едет сюда, к нам, с той стороны, да? — спросила Наташа.
Растолкав нас, мимо пробежал папа — стягивая на ходу вязаные перчатки, он рванул было к Витаре, но потом, чертыхнувшись, повернул назад, к Лендкрузеру, и, распахнув заднюю дверь, принялся шарить за водительским сиденьем; когда он снова появился снаружи, в руках у него был карабин.
— Андрюха! — хрипло крикнул он в темноту. — Иди сюда, быстро! — Но Андрей и сам уже торопливо возвращался; он встал рядом с нами и воткнул лопату в снег, возле своих ног — ее черенок был слишком коротким, чтобы на него опереться.
Пятно, приблизившись, распалось на несколько отдельных точек — судя по всему, то, что двигалось нам навстречу, было на самом деле гораздо ближе к нам, чем могло показаться вначале; не прошло и нескольких минут, как уже виден был оранжевый мигающий огонек в самом верху и четыре широко расставленных, ярко-желтых огня под ним; в наступившей тишине отчетливо послышался рокот, совсем не похожий на звук автомобильного двигателя — низкий, глухой и какой-то размеренный, как будто были слышны паузы между каждым его оборотом — словно он, этот звук, принадлежал чему-то гораздо более крупному, чем обычный легковой автомобиль.
— Что это — танк? — спросила Наташа со страхом.
— Похоже, что это грейдер, — ответил Андрей после паузы.
— Что?
— Грейдер. Машина такая, которая чистит дорогу.
— Господи, — сказала она, — кому могло понадобиться в такое время чистить дорогу. И главное — зачем?
— Похоже, мы это как раз сейчас и узнаем, — сказал Андрей.
Я почувствовала, как что-то твердое больно опустилось мне на ногу, и взглянула вниз — плотно прижавшись спиной к моим коленям, пес, казалось, сел своим худым, костлявым задом прямо на мой ботинок и замер.
— Девочки, идите-ка назад, к машинам, — сказал папа вполголоса, — мы тут сами разберемся, — но ни я, ни Наташа не двинулись с места, завороженно наблюдая за тем, как размытое светлое пятно постепенно приобретает очертания. Грейдер оказался похож на трактор — собственно, это и был трактор: большой, желтый, с тремя парами огромных черных колес. Громыхая, он приблизился и замер метрах в десяти от глубоко вкопавшейся в снег морды Лендкрузера, ослепив нас широко расставленными фонарями, со своим огромным, угрожающе задранным ковшом напоминающий скорее гигантское доисторическое животное, чем машину, управляемую человеком, а мы просто стояли и смотрели на него — не пытаясь ни укрыться, ни сбежать, словно все, что могло бы сейчас произойти, вряд ли было бы страшнее медленной и мучительной смерти от холода, грозившей нам, останься мы по эту сторону ямы. У того, кто находился в кабине грейдера, было перед нами, столпившимися на дороге, неоспоримое преимущество — ему было видно нас в мельчайших подробностях, в то время как мы слышали только его голос, прозвучавший сразу после того, как тяжелая машина встала и ее оглушительно рокочущий двигатель умолк:
— Эй, вы! — произнес голос. — Случилось что? — И прежде чем мы, остальные, успели сообразить, что ответить на этот странный вопрос, потому что беспомощно накренившийся Лендкрузер, ярко теперь освещенный, говорил сам за себя, Наташа неожиданно шагнула вперед и заговорила торопливо и громко:
— Здравствуйте! — сказала она. — Мы застряли, понимаете, тут на дороге какая-то яма у вас глубокая, не можем проехать, если бы вы нас дернули немного, мы ужасно замерзли, у нас там дети в машине, может быть, вы нам поможете, нам просто проехать, очень сложная дорога!.. — После этих слов она замолчала, так же неожиданно, как и прежде заговорила, и в течение нескольких минут ее невидимый собеседник ничего не отвечал, как будто ему требовалось время, чтобы внимательно рассмотреть нас и убедиться в том, что мы не представляем для него опасности. Наконец он задал еще один вопрос:
— Много вас?
Именно в этот момент я заметила, что папа исчез — его не было видно в круге света, отбрасываемого яркими фонарями грейдера, в котором мы остались теперь впятером; главное, чтобы она не ляпнула что-нибудь лишнее, подумала я, он же видит, что здесь четыре больших машины, и ни за что не поверит в то, что нас только пятеро, но она сказала:
— С нами дети, и еще у нас там, в машине, раненый, вы не думайте, мы здоровы, нас бы просто дернуть, видите, мы застряли. — Она говорила одновременно настойчиво и просительно, и еще она улыбалась — так, словно и не ожидала от незнакомого человека на грейдере ничего плохого.
— Помочь-то можно, — произнес голос, сильно окая, и я немедленно вспомнила, что именно так, незлобиво и почти дружелюбно, говорил человек в лисьей шапке, встретившийся нам неделю назад на лесной дороге перед Череповцом, — отчего ж не помочь-то хорошим людям, — продолжал он, — если они хорошие, люди-то. Время сейчас неспокойное, помогать надо хорошим людям, так что пускай этот ваш мужик с ружьем уберет его, ружье свое, и выйдет обратно на дорогу, чтобы я его видел, и тогда я, может, тоже стрелять не стану, — он выговаривал слова медленно и как будто с трудом, как человек, которому нечасто приходится произносить такие длинные предложения, — слышишь, мужик? — Теперь в его голосе не осталось уже и следа дружелюбия. — Ты давай, выходи обратно, а то я не стану дожидаться, тоже стрельну сейчас, добром выходи, и тогда поговорим, раз уж мы все тут хорошие люди.
— Пап, — негромко позвал Сережа, — но откуда-то справа уже послышался скрип шагов, и папа не спеша, с явной неохотой вышел из темноты и встал рядом с нами, воткнув карабин прикладом в снег и далеко отставив руку, сжимающую ствол. Лицо у него было раздосадованное, губы поджаты.
Вероятно, обладателю голоса показалось, что теперь, когда мы все у него перед глазами, в то время как сам он по-прежнему остается для нас невидимым, ему ничего не угрожает, потому что он произнес значительно более спокойно:
— Ну, вот. Только ты его на снег положи, ни к чему тебе в руках его держать, ружье-то, — и умолк, ожидая ответа; и папа сипло прокричал куда-то между желтых фонарей, туда, где угадывались очертания кабины:
— Ты, хороший человек, и сам с ружьем, я так понял! Ты меня видишь, а я тебя — нет, так что я погожу пока на снег его класть, давай сначала так поговорим!
Это папино предложение, казалось, заставило незнакомца крепко задуматься, потому что снова наступила тишина, и мы ждали его ответа, чувствуя себя такими же беспомощными в круге света, как мотыльки, попавшие в нематериальный, но от этого не менее прочный плен садовой лампы.
— Ладно, — наконец сказал он. — Стойте, где стоите, я сейчас к вам подойду. — И где-то в самом верху, под четырьмя яркими фонарями, распахнулась дверь, кто-то тяжело выпрыгнул на снег и неторопливо зашагал в нашу сторону.
Даже теперь, на свету, как следует рассмотреть незнакомца нам не удалось: воротник его овечьего тулупа был поднят, а шапка надвинута по самые глаза; судя по голосу, он был далеко не молод, и поэтому я удивилась тому, каким высоким и крепким он оказался — тяжеленный тулуп сидел на нем внатяг. Широко расставив ноги, он остановился возле внушительного металлического ковша и положил на него руку; во второй руке он действительно держал ружье, снятое с плеча.
— Дергать смысла нету, — сказал он, — это не яма, а перемет — дорога тут неровная, с уклоном, а место открытое — вот снегу и нанесло. Дальше еще километра четыре-пять такой же дороги, без меня не проедете.
— Чего вы хотите за то, чтобы помочь нам? — тут же спросила Наташа, и он невесело хмыкнул:
— А что у вас есть такого, что мне надо?
— У нас есть патроны, лекарства и немного еды, — быстро сказала я, потому что мужчины по-прежнему настороженно молчали, а сейчас обязательно нужно было говорить что-нибудь, я чувствовала почему-то, что человек этот совершенно для нас не опасен и единственное, что важно сейчас сделать, — это доказать ему, что и мы, мы тоже не причиним ему никакого вреда, что мы действительно «хорошие люди», я хотела сказать что-то еще, может быть, разбудить и привести сюда детей, чтобы он их увидел, но Сережа положил руку мне на плечо и спросил незнакомца:
— А вы, собственно, что здесь делаете? — И высокий человек с ружьем повернул к нему голову и прежде, чем ответить, какое-то время молча его рассматривал.
— Я-то? — переспросил он после паузы. — Живу я здесь. Тут у нас асфальта нету, грейдер нужен и зимой, и весной тоже, как снег сойдет, иначе не проехать. Я чищу.
— Что, и сейчас тоже? — прищурившись, уточнил Сережа. — И сейчас чистите?
— Сейчас чистить ни к чему, — серьезно сообщил незнакомец, — здесь и раньше-то мало кто ездил, а теперь и вовсе, и по нынешним временам, может, оно и к лучшему. Деревня наша наверху, дорогу хорошо видать. Не сплю я ночами, сон стариковский, короткий, увидал вас на дороге, дай, думаю, посмотрю, что за люди. Так вам помощь-то нужна или еще постоим, поразговариваем?
— Конечно, нужна, — поспешно сказала Наташа и закивала, — очень нужна. Спасибо большое.
— Ну, тогда вот что, — ответил незнакомец, — я снег перед машиной отгребу, как смогу, под колесами сами подкопаете, а потом за мной поедете и выберетесь. — Он повернулся было к грейдеру, чтобы возвратиться в кабину, но в последнюю минуту остановился и бросил папе, глядя на него через плечо: — А ты давай, дядя, ружье свое убирай уже и бери лопату, она сейчас полезней будет.
Для того чтобы убрать рыхлый снег, в котором Лендкрузер сидел уже по самый передний бампер, грейдеру понадобилось всего два движения: с удивительной для такой громоздкой машины ловкостью он крутанулся, встал боком, и за его передними колесами обнаружился еще один ковш, гораздо тоньше и длиннее первого, который выдвинулся, словно лезвие перочинного ножа, и срезал пышную снежную подушку, преграждавшую нам путь, — легко и без усилий, как срезает бритва мыльную пену с подбородка; а потом, подцепив образовавшуюся кучу снега передним, широким ковшом, просто спихнул его с дороги, в поле. Грохот этого трактора, похожего теперь со своими растопыренными ножами на огромный катамаран, разбудил всех остававшихся в машинах — первой прибежала Марина с испуганными, круглыми глазами и, поглядев на грейдер и отчаявшись в этом шуме уточнить у кого-нибудь из нас, что он здесь делает, убежала назад и вернулась уже с Леней; Ира пришла чуть позже — когда грейдер, закончив работу, отъехал чуть в сторону, — за руку она держала мальчика, и, может быть, именно поэтому, когда незнакомец снова показался на дороге, ружья у него в руках уже не было — вероятно, в этот раз он решил оставить его в кабине.
— Все! — крикнул он. — Теперь копайте! — и пока Сережа, папа и Андрей вынимали лопатами оставшийся снег, забившийся Лендкрузеру под днище и между колесами, он наконец подошел к нам и остановился перед мальчиком.
— Звать-то тебя как? — спросил он — и тон его, к которому я уже успела немного привыкнуть, ничуть не изменился оттого, что он обратился к ребенку — он не стал говорить громче, как часто делают те, кто редко общается с детьми, он даже не улыбнулся — а просто задал мальчику вопрос тем же голосом, каким до этого разговаривал с нами.
Мальчик быстро отступил назад и спрятал лицо в складках Ириного стеганого пальто и еле слышно прошептал прямо в эти складки:
— Антон.
— И куда ты едешь, Антон? — спросил тогда незнакомец, и мальчик ответил ему, еще тише:
— …на озеро.
Человек выпрямился и еще раз оглядел нас — троих мужчин, суетившихся возле Лендкрузера, Леню, тяжело опиравшегося на Маринино плечо, окоченевшего Мишку, и сказал:
— Ну вот что, Антон. Озеро твое, видать, далеко отсюда, а время позднее, надо бы тебе в тепле переночевать, — и продолжил, обращаясь уже к Ире:
— Как закончите, поезжайте за мной — тут недалеко, километра четыре, по такой дороге ночью ездить ни к чему — отдохнете, детей погреете, а завтра поедете, — и не дожидаясь ответа, словно вопрос был уже решен, повернулся и зашагал обратно, к своей огромной машине.
Через полчаса работа была завершена — освобожденный Лендкрузер, вцепившись в обнажившийся из-под снега лед своими шипованными колесами, выкарабкался наконец из своей мерзлой ловушки и подкатился к стоящему впереди грейдеру, а за ним, осторожно и медленно, неопасный теперь участок преодолели и все остальные. Сразу после этого грейдер не спеша двинулся вперед, раздвигая перед нами снег — уже не такой глубокий, как в том месте, где мы застряли, но по-прежнему способный осложнить, а то и преградить нам путь; то и дело незнакомец распахивал дверцу и предупреждающе выбрасывал в сторону руку в толстой вязаной перчатке, и тогда нам приходилось останавливаться и ждать, пока грейдер утюжил рыхлую белую поверхность дороги.
Когда мы добрались до деревни, была уже половина шестого утра — все мы устали, замерзли и обессилели настолько, что приглашение отдохнуть и немного поспать в доме этого большого незнакомого человека, который поначалу так насторожил нас, ни у кого не вызвало возражений. Остальная деревня вся была в стороне, в нескольких сотнях метров — она была совсем маленькая, восемь-десять тесно стоящих бревенчатых домов, недоверчиво обращенных к нам своими темными, трехоконными фасадами, с толстыми, как на рождественской открытке, белыми шапками снега на крышах, и только громадный, почерневший от времени сруб нашего хозяина стоял отдельно, почти у самой дороги. Когда мы ставили машины (для этого нам пришлось съехать с дороги и обогнуть этот высокий дом со странной, асимметричной крышей, один скат которой был почти вдвое длиннее другого и доставал почти до самой земли, похожий на заваленный снегом горнолыжный спуск), мы поняли причину этой обособленности — за домом неожиданно обнаружилась расчищенная площадка, и возле навеса, служащего, судя по всему, укрытием для грейдера, на толстых металлических опорах стояла большая, плотно укутанная снегом цистерна.
— Солярка? — с деланым равнодушием спросил Сережа, кивая головой в сторону цистерны, и хозяин кивнул:
— Точно, — и затопал на крыльце, стряхивая снег.
В то, что человек этот живет здесь один, трудно было поверить — с улицы дом казался слишком большим, но когда мы вошли вслед за хозяином внутрь, вместо жилых помещений за входной дверью оказалась просторная неосвещенная двухъярусная галерея, уходящая далеко вправо и явно не заканчивающаяся за углом; где-то в самой глубине этой галереи кто-то невидимый — какое-то большое животное, может быть, корова или свинья — гулко завозился и затопал, видимо, услышав наши шаги. Места в этих странных сенях оказалось так много, что все мы — двенадцать человек, включая хозяина, — поместились в них легко, не мешая друг другу; только когда входная дверь была, наконец, закрыта, он распахнул вторую, ведущую куда-то во внутренние помещения дома.
Внутри наш хозяин скинул тулуп и шапку и жестом предложил нам сделать то же самое — и тогда я наконец смогла рассмотреть его как следует. Он оказался совершенно лыс, с густыми, кустистыми белыми бровями и такой же белой бородой, но возраст его определить было невозможно — я одинаково готова была бы поверить в то, что ему не больше шестидесяти, и в то, что ему все семьдесят пять. Смущало то, что был он невероятно могуч — крупнее любого из наших мужчин — и держался очень прямо; я бы не удивилась, если бы в этот момент откуда-то из недр этого огромного, странного дома вынырнула какая-нибудь миловидная молодая женщина и назвалась бы его женой — но единственным, кто встретил нас, оказалась старая лохматая собака, лежащая на полу, возле печки; когда мы вошли, она повернула к нам голову со слезящимися, мутными глазами, но не встала, а просто слабо вильнула хвостом. Наклонившись, он похлопал ее по спине, а потом сказал, словно в оправдание:
— Старая она, кости у ней стынут, остальных-то я во дворе держу, а эту в дом взял, жалко. Вы давайте, кобеля своего сюда лучше заводите, здесь ему безопасней, они у меня закрытые, но утром я их выпущу, порвут.
Я подумала о том, что пока мы подъезжали, пока ставили машины, пока выгружали вещи, необходимые для ночлега, я не видела во дворе никаких собак; на самом деле, кроме цистерны и навеса для грейдера, на этом странном дворе не было вообще ничего — ни поленницы, ни колодца, ни даже плохонького сарая. Все разъяснилось почти сразу же, когда Марина смущенно попросила показать нам туалет — осторожно следуя за хозяином по неосвещенной галерее, мы с удивлением поняли, что и пресловутый этот туалет, и дрова, и хлев, и даже колодец — словом, все, что обычно бывает расположено снаружи, во дворе, в этом необычном доме было спрятано под крышей; по сути, большая часть этого громадного дома и была двором, просто убранным за толстые, серые бревенчатые стены. Строго наказав нам «спичек не жечь, у меня там сено наверху, я дверь оставлю отворенной, назад дорогу найдете», он удалился, предоставив нас самим себе, и пока Марина в отчаянии сражалась в полутьме со своим белоснежным комбинезоном, а мы, остальные женщины, ждали своей очереди, я повернулась к Ире и еле слышным шепотом произнесла то, что занимало сейчас — и я была в этом абсолютно уверена — мысли каждого из нас:
— Ты видела эту цистерну? Если она хотя бы наполовину полная… — И она молча кивнула мне и прижала палец к губам.
Несмотря на внушительные размеры, жилых помещений в доме оказалось мало — всего две небольшие клетушки, устроенные вокруг печи, и мы ни за что не разместились бы здесь, если бы не наши добротные спальные мешки. Не задавая нам никаких вопросов, старик одним махом разрешил все возможные проблемы и споры, скомандовав «мужики наверх, на чердак, бабы с дитями — на печку»; и пока мужчины, скрипя почти вертикальной лестницей, больше похожей на обычную стремянку, по одному переправлялись наверх, в задней комнате мы действительно обнаружили на печи просторное спальное место, наверняка принадлежавшее самому хозяину. Пока мы с трудом — потому что для четырех женщин и двоих детей места все-таки было недостаточно — укладывались на этой печи, ведущая на чердак лестница снова заскрипела — кто-то спускался вниз, и пес, улегшийся было рядом на полу, резво вскочил на ноги и зарычал, так что мне пришлось спустить вниз руку и положить ему на холку.
— Куда он делся? — послышался из соседней комнаты папин голос; говорил он еле слышно, почти шепотом.
— За дровами, наверное, пошел, — ответил Сережа, — только что был здесь.
— Ты, главное, не заводи разговор раньше времени, — начал папа, но тут стукнула входная дверь, и уже знакомый раскатистый, словно не умеющий шептать голос спросил:
— А вы чего не ложитесь?
— Да не по-человечески как-то, — проговорил папа, и что-то стеклянно звякнуло о поверхность стола, — из снега ты нас вытащил, домой к себе привел, давай, что ли, познакомимся, хозяин.
— Можно и познакомиться, — согласился тот, — только водка-то зачем? Утро уже, я по утрам не пью.
— Это не водка, а спирт, — обиженно сказал папа, — давай хотя бы по маленькой, за знакомство, и мы пойдем наверх — надолго мы у тебя не задержимся, так что нам и правда надо поспать.
— Ну, давай, если по маленькой, — ответил хозяин.
Несмотря на чудовищную усталость, заснуть сразу я не смогла и поэтому просто лежала с открытыми глазами, и слушала разговор, происходивший в соседней комнате, за неплотно прикрытой дверью; может быть, потому, что место, которое мне досталось, было самым неудобным — с самого края печи, там, где уже заканчивался брошенный на нее матрас, но скорее потому, что пыталась угадать, что именно задумали папа с Сережей, спустившиеся с чердака с бутылкой спирта, вместо того чтобы отдохнуть после суток тяжелейшей дороги — просто напоить этого большого, сильного человека и украсть топливо, которое было нам сейчас так необходимо, или попытаться как-то задобрить его, чтобы он отдал его сам? С момента, когда мы увидели цистерну, нам ни разу еще не удалось поговорить об этом, потому что хозяин все время находился рядом — наверное, только оставшись одни, на чердаке, они наконец решили что-то, и мне очень важно было понять — что же именно они решили.
Если у нашего хозяина и была какая-то конкретная причина выехать посреди ночи на грейдере, увидев свет наших машин на вымершей ночной дороге, а затем, не задавая никаких вопросов, впустить одиннадцать совершенно незнакомых человек к себе в дом на ночлег, такая причина могла быть только одна — любопытство. По его словам, информационная связь с остальным миром, и раньше очень тонкая в этих краях, прервалась теперь совершенно — вслед за мобильной связью в середине ноября умерло телевидение, а затем, очень быстро — и радио, и новости о том, что происходит вокруг, поступали теперь единственным способом, древним, как мир — с теми, кто проезжал мимо; да вот только в последние полторы недели мимо никто уже не проезжал, и новостей не стало совсем. Михалыч (так он назвал себя сам, настаивая, что полные имя его и отчество звучат слишком длинно) выслушал историю нашего путешествия очень внимательно — в то, что Москва погибла, он так и не поверил, сказав «да попрятались они, лекарства ждут — вот появится лекарство, они и вылезут»; вообще оказалось, что и он, и все, с кем он разговаривал в эти дни, были твердо уверены в том, что какой-то порядок непременно должен был сохраниться — и где-то там, в центре, обязательно существует безопасный островок нормальной жизни. Он держался за эту уверенность так яростно, словно мысль о том, что всех их, остальных, просто бросили умирать от неизвестной болезни без врачей, без поставок продовольствия, без помощи, пугала этих людей меньше, чем осознание того, что их попросту некому было бросать, и потому он отмахнулся и от наших московских номеров, и от всего остального, что говорили ему папа с Сережей, видимо, про себя посчитав нас какими-то неправильными москвичами, которые по неизвестной причине просто оказались недостойны возможности переждать чуму в безопасном месте.
В судьбу городов, которые мы проезжали последними, он поверил более охотно; гибель Вологды и Череповца его не удивила, словно он был готов к такому исходу и ожидал его, а вот покинутые жителями Кириллов и Вытегра его как будто даже обрадовали: «Ушли, значит, — сказал он удовлетворенно, — сообразили, что нечего в городах делать», — словно продолжая какой-то спор, начатый им давным-давно. Сережин рассказ о зачищенных деревнях заставил его замолчать — надолго, но тоже, видимо, не удивил; после длинной паузы, нарушавшейся только звуком разливаемой по стаканам жидкости, он сказал только «ну что же, пусть попробуют к нам сюда явиться, уж мы их встретим», и потом сам рассказал о том, как две недели назад прямо по льду, пешком, в деревню пришли два человека — то ли священники, то ли монахи — «у нас тут монастырь на мысу, между озерами, там, считай, дороги вообще нету, тайга да болото, летом разве что на лодке, но далеко, по реке да через озеро все пятнадцать километров, а зимой только так — когда лед крепко встанет», и предложили жителям деревни убежище в своем неприступном монастыре, отрезанном от зараженных, умирающих городов километрами заболоченного леса и воды и потому безопасном. На сборы у всякого, кто захотел бы принять это предложение, была всего лишь неделя, к концу которой — и на этот счет пришедшие высказались очень определенно — монастырь закроется совсем и больше никого уже не примет, чтобы не подвергать опасности жизнь его обитателей. «Только ни к чему он нам, монастырь этот, — сказал потом наш хозяин, — места у нас глухие, чужих и раньше-то почти не было, а сейчас и вовсе, мы тут сколько лет живем, хозяйство свое, скотина, ничего нам не нужно, разве что без электричества тяжеловато — но и тут приспособились, жили же как-то раньше. Охотимся, рыбачим помаленьку, переждем, нормально. Две семьи только из наших туда уехали, — с детишками потому что, да из Октябрьского еще семьи три-четыре, а остальные остались, ничего. Вы когда про озеро говорили, я сначала подумал — вы туда, в монастырь, только они, видать, закрылись, как и собирались, больше уж никто оттуда не приходил».
К моему удивлению, Сережа вдруг рассказал ему о том, куда именно мы едем, — может быть, оттого, что человек этот оказался на нашем пути первым, кому не было от нас нужно совсем ничего, и кто, напротив, сам оказался для нас полезен; а может, он рассчитывал на то, что хозяин наш, в свою очередь, расскажет что-нибудь о предстоящих нам четырехстах километрах — самых ненаселенных, но и самых труднопроходимых. Он оказался прав, потому что, услышав про наш маршрут, старик сказал: «С неделю назад приезжали к нам из Нигижмы — живая Нигижма, так что вы осторожней там, не ждут они уже чужих никого — а если прижмут вас, скажите, что от Михалыча, прямо так и скажите — да хотя бы, что вы родня моя, чтоб уж точно пропустили»; о том же, что может ожидать нас дальше, за еще живой Нигижмой, мысли у него были самые нерадостные. «У нас тихо, потому что не добраться, — сказал он хмуро, — если я дорогу не чищу, то ее и нет, дороги-то, а там, дальше, чем больше народу, тем хуже. Уже и в Пудоже болеют — а вы ж еще через Медвежьегорск пойдете, так там уж точно, а еще я слышал — постреливать начали, повылазили разные лихие люди, и болеют, и стреляют, в общем, плохая там дорога, очень плохая — да вам уже возвращаться-то поздно, так что вы побыстрей поезжайте, не останавливайтесь нигде».
Если папа с Сережей и планировали напоить старика, затея эта ни к чему не привела — спирт всего лишь заставил его разговориться, в то время как оба они, ничего не евшие и не спавшие целые сутки, уже еле ворочали языками. О цистерне с соляркой, стоящей снаружи, во дворе, не было еще сказано ни слова, а хозяин уже, посмеиваясь, прогнал их наверх, спать, сказав на прощание:
— Я собак выпущу, так что по нужде осторожней выбирайтесь, а еще лучше — вовсе без меня не выходите. Я уж спать не буду, хватит, если что — позовете меня, — и пока папа с Сережей, чертыхаясь, с трудом забирались по шаткой лестнице наверх, на чердак, я наконец выдохнула — первый раз с начала этого тихого разговора, потому что все время, пока эти трое мужчин за неплотно прикрытой дверью пили спирт и говорили — мирно и по-дружески, я ждала; я готовилась к тому, что случится что-нибудь такое, из-за чего нам придется поспешно покинуть этот приютивший нас дом. За окном все еще было совершенно темно, и только из-под двери выбивался неяркий свет от горевшей в соседней комнате керосиновой лампы, и когда нетвердые шаги на чердаке наконец смолкли, а хозяин, скрипнув дверью, вышел куда-то и наступила полная тишина, я еще какое-то время просто лежала на спине, на жестком краешке матраса, без сна — испуганная тем, как сильно, как остро я разочарована тем, что ничего из того, к чему я была готова, так и не произошло. Он ничего тебе не сделал, думала я, ничего — разве что спас от смерти, что такое с тобой случилось, черт возьми, если ты не можешь теперь заснуть, потому что в голову тебе лезут эти непрошеные, гадкие мысли. Мальчик, тесно зажатый между мной и Ирой, вдруг шевельнулся и глубоко вздохнул во сне; я немного повернулась, чтобы лечь хотя бы немного поудобнее, и увидела, что она тоже не спит — а так же, как и я, молча, напряженно лежит в темноте с открытыми глазами.
Мы проснулись уже затемно, когда ранние северные сумерки снова окутали эту маленькую, затаившуюся деревню — первыми, как это всегда бывает, завозились дети, с пробуждением которых пришлось подняться и нам; открыв глаза в темноте, я вначале подумала, что так и не успела заснуть, — и только посмотрев на часы, поняла, что мы проспали весь день, что снова наступил вечер, а это означало, что мы потеряли еще одни сутки, целые сутки, в то время как с каждым часом лежащая перед нами дорога становится все опаснее и труднее. Сонные и разбитые после нескольких часов, проведенных в тесноте на жестком, неудобном матрасе, мы заглянули в соседнюю комнату — кроме старой собаки, по-прежнему лежащей возле печки, там никого не было. Мужчины, судя по всему, все еще спали, и о ночном разговоре, случившемся здесь, в этой комнате, говорила только изрядно початая бутылка, оставшаяся на столе, — стаканы были уже куда-то убраны. Выходить из комнаты поодиночке нам не хотелось, и, широко распахнув дверь, чтобы хоть немного осветить мрачную наружную галерею, мы неуверенной стайкой добрались до отхожего места и обратно, а потом устроились на длинной лавке, стоящей у простого деревянного стола, который не был даже накрыт скатертью, не зная, что нам делать дальше. На печи стоял полный чайник с отбитой эмалью — только вот искать чай здесь, в этой комнате, показалось нам невежливым, а выйти на улицу, к машинам, мы побоялись, вовремя вспомнив о собаках, которых собирался выпускать наш хозяин.
— Я бы душу продала сейчас за горячий душ, — сказала Наташа, — после этого вонючего матраса я вся пыльная, как будто мы на полу спали, он там вообще не убирает, наверное.
А ведь мы по-прежнему все такие же городские девочки, подумала я горько, интересно, сколько еще времени нам потребуется для того, чтобы перестать мечтать о горячем душе или о чистом туалете. Или о туалете вообще.
— Надо разбудить их, — неуверенно предложила Марина, — сколько сейчас времени? Ехать же пора. Только поесть надо сначала, куда он делся вообще, этот мужик?
Мы с Ирой одновременно поднялись — я для того, чтобы подняться на чердак и разбудить мужчин, а она, вероятно, чтобы выйти в сени и попытаться разыскать нашего хозяина, исчезнувшего где-то в недрах необъятного дома; но я едва успела подойти к лестнице, ведущей наверх, а она — взяться за ручку входной двери, как на улице вдруг раздался оглушительный, многоголосый собачий лай, услышав который пес, как-то весь мгновенно ощетинившись, вздыбил шерсть на холке, наклонил голову и глухо заворчал. Мы услышали, как внешняя, уличная дверь распахнулась, кто-то затопал в сенях, а потом — Ира поспешно отняла руку от двери и отступила на несколько шагов назад — открылась и вторая дверь, и в комнату ввалились два незнакомых человека, оба с бородами на красных от холода лицах, принесшие с собой свежий морозный запах, перемешанный с крепким спиртным духом. Несколько мгновений они молча стояли на пороге, неприветливо рассматривая нас; пес ворчал уже громче, нехорошо оскалив крупные желтоватые зубы, и, возможно, по этой причине ни один из вошедших не сделал ни шагу вперед, хотя они даже не взглянули на него.
— Да тут бабы одни, — сказал один из них, тот, что был меньше ростом, с маленькими колючими глазками; второй, повыше и постарше, покачал головой:
— Не может быть. Четыре машины, ты ж видел. А вот мы сейчас Михалыча спросим. Михалыч-то где? — спросил он и поднял на нас глаза — мутные и совсем без выражения, я попыталась вспомнить, смотрел ли на меня кто-нибудь так раньше — равнодушно и пусто, и не смогла, и просто пожала плечами, молча, не потому что не хотела отвечать, а потому, что не сумела себя заставить открыть рот; на чердаке уже слышен был какой-то шум, они проснулись, подумала я, они сейчас спустятся, хорошо бы они догадались взять с собой ружья, они же не оставили их в машинах, только не после того, что случилось с Леней — но тут в дверном проеме вдруг возникла могучая фигура хозяина, на фоне которой оба незваных гостя, так испугавшие нас, сразу же съежились и показались незначительными и жалкими. Одним быстрым, неуловимым для глаза движением плеча хозяин, стоявший позади этих двух незнакомых мужчин, мгновенно оттер их обратно, в сени, и плотно прикрыл за собой дверь, из-за которой раздался его зычный голос:
— Вы чего здесь?!
В этот момент люк, ведущий на чердак, распахнулся, и вниз торопливо спустился папа — лицо у него было помятое, но на плече, как я и надеялась, висел карабин; следом показался Сережа — тоже вооруженный. Они быстро взглянули на нас и, убедившись, что мы в порядке, осторожно подошли к двери, прислушиваясь, — а по лестнице уже слетели Андрей, Мишка, и — последним — Леня, которому спуск по вертикальным ступеням давался труднее всех. Из-за двери доносились голоса — я могла разобрать только отдельные слова, но мне показалось, что собеседников у нашего хозяина прибавилось; кто-то вдруг отчетливо произнес:
— Так ты опять дорогу, выходит, почистил? Мы же договаривались… — И дальше голоса загудели все разом, совсем уже неразличимо, слышно было только гулкий бас хозяина, каждое слово которого выдавалось из общего гвалта, словно камень из воды — «бабы с дитями», — сказал он сначала, и потом еще — «здоровые все, говорю же — здоровые!», но голоса эти, которых теперь уже явно было больше, чем два, продолжали звучать с нарастающей громкостью, пока наконец старик не взревел матерно и почти нечленораздельно, и тогда шум за дверью неожиданно утих, сменившись тихим, недовольным ворчанием, а потом внешняя дверь хлопнула — собаки снова резко взлаяли и умолкли, словно люди, показавшиеся во дворе, были им знакомы, — и стало тихо.
— Ну вот что, — сказал хозяин, вернувшись к нам — лицо у него было мрачное, — я хотел вам предложить еще одну ночь переждать, больно дорога нехороша, но по всему выходит, что надо бы вам нынче же уехать.
Мы смотрели на него молча, и тогда он, оглядев нас, продолжил, досадливо сморщившись:
— Сразу они не полезут, но долго я их не удержу. Вы не подумайте чего — они люди неплохие; ну как неплохие — нормальные они, обычные, просто слишком уж у вас всего с собой много. Они не голодают пока — да и не будут они голодать, нас озеро кормит, и запасов у нас полно, но вот вещи ваши, машины, ружья вон, — он говорил теперь так, словно сердился на нас за то, что одним своим появлением здесь, в этом спокойном и мирном месте, мы нарушили какой-то хрупкий баланс, с трудом достигнутое равновесие, которого никак теперь не поправить, даже если мы уедем сейчас же, сию минуту, — словом, собирайтесь и езжайте с богом.
Несмотря на то что мы не ели уже больше суток и понимали, что даже получасовая задержка могла дать нам возможность если не поесть самим, то хотя бы покормить детей, что-то в его голосе заставило нас без возражений, торопливо начать собирать вещи; удалившись ненадолго — загнать и запереть собак, все еще изредка принимавшихся нервно лаять где-то снаружи, в темноте — он вернулся, чтобы помочь нам перенести вещи на улицу, в остывшие за короткий зимний день машины. Все четыре двигателя уже работали, но, не сговариваясь, ни у одной из них мы не включили фар — горели только несколько тусклых габаритных огоньков пикапа, в неярком свете которых мы поспешно, стараясь не шуметь и не хлопать дверцами автомобилей, забрасывали внутрь спальные мешки и сумки. Лежащая в нескольких сотнях метров от нас деревня уже не казалась сонной и безлюдной — на улице по-прежнему не было видно ни одного человека, но окна теперь смотрели настороженно и пристально, и от этих невидимых взглядов, которых, возможно, и не было на самом деле, мы чувствовали себя особенно неуютно. Дети уже сидели в машинах, Леня устроился на заднем сиденье Лендкрузера, и даже пес, отбежавший, наконец, облегчиться куда-то недалеко, за сугробы, и мигом вернувшийся обратно, уже занял свое место — только мы все никак не уезжали, потому что у нас оставалось еще одно дело — важное, жизненно важное дело, — к которому мы по какой-то причине никак не могли подступиться; чтобы выиграть еще немного времени, мужчины закурили, стоя на площадке между вполголоса тарахтящих машин, а хозяин все настойчиво говорил что-то о Нигижме, «третий дом по правой стороне, там живет такой Иван Алексеич, вы к нему сразу, ты понял? понял?» — и обращался к Сереже, только Сережа не смотрел на него, не мог смотреть, а вместо этого все поворачивался к папе, пытаясь поймать его взгляд, и когда они наконец посмотрели друг на друга — я задержала дыхание, потому что поняла, что вот, сейчас, сейчас это произойдет — Ира вдруг быстро выступила вперед, загородила собой массивную фигуру хозяина и, прервав его на полуслове, положила свою маленькую руку без перчатки на огромный задубевший рукав его тулупа, и сказала с нажимом, отчетливо:
— Скажите, у вас же корова там, внутри, да? Корова? — и как только он непонимающе кивнул, продолжила: — Нам бы молока немного с собой, детям, они не ели уже целые сутки, молока бы нам, пожалуйста, а?
Если старик и удивился этой странной просьбе, прозвучавшей не к месту и не вовремя, на лице у него ничего не отразилось — коротко глянув на нее сверху вниз, он кивнул и, повернувшись, зашел обратно, в дом. Как только он исчез, она постояла еще немного, словно прислушиваясь — мы, остальные, все еще не шевелились, замерев от неожиданности, а потом в два прыжка оказалась возле Витары и, даже не закрывая водительской дверцы, резко, с ревом сдала назад, приперев Витариным бампером широкую, полукруглую входную дверь — окоченевший на морозе пластик гулко стукнул по деревянным доскам.
— Ну?! — сказала она, обернувшись к Сереже и взглянув на него из-за руля коротко и зло. — Что вы стоите? Где канистры? Или вы грейдер собирались угонять? — и от этого ее окрика Сережа вздрогнул, бросил недокуренную сигарету себе под ноги и торопливо побежал к машине и распахнул багажник; следом за ним метнулся Андрей, а папа, на ходу сдергивая карабин с плеча, направился к цистерне и принялся старательно откапывать какую-то громоздкую конструкцию, прилепившуюся с ее ближайшего к нам торца.
— Молоко — детям? — переспросила я, все еще не веря своим ушам, и она ответила тихо и устало, словно все силы, которые у нее были, она вложила в этот свой прыжок за руль и резкий, в полтора метра маневр, который, похоже, стоил Витаре бампера:
— По крайней мере, это лучше, чем то, что они задумали.
— Да он же вернется сейчас, через несколько минут, — сказала я безнадежно, — как только сообразит, зачем ты его отослала, он же слышал этот грохот наверняка, вся деревня, наверное, слышала…
— Анька, — проговорила она медленно и горько, опустив голову, и я подумала — она первый раз назвала меня так, не «малыш», не «Аня», а вот так — как зовет меня Сережа, словно мы с ней просто добрые знакомые, словно ничего и не было. — Он не вернется, — сказала она. — Он уже все понял, он, наверное, еще вчера это понял, сразу же, как только мы увидели цистерну, он просто ждал, что мы будем делать, а они все пили с ним этот дурацкий спирт, и трепались, и ничего не делали, а сейчас у них уже не осталось времени, чтобы сделать это правильно.
Как можно сделать это правильно, подумала я, уже понимая, что она права, мы же еще недавно были — хорошие люди, он так и сказал, хорошие люди, и оставила ее там же, за рулем Витары, и тоже распахнула багажник — это же, наверное, очень долго — сливать из цистерны столько солярки, разливая ее в канистры, в одну за другой, в спешке, в темноте, нам ни за что не успеть, разве что он действительно понял все и не вернется, потому что решил дать нам спокойно уехать, не поднимая шума и не пугая детей. В туго набитом Витарином багажнике было только две канистры — маленькие, десятилитровые, которые папа привез с собой из Рязани, я схватила их и побежала к цистерне, возле которой уже возились мужчины, и когда я уже почти добежала до них, папа вдруг выпрямился, выставил вперед карабин и сказал негромко:
— Стой.
Он смотрел куда-то поверх моей головы и немного вправо; было ясно, что обращается он не ко мне — но я тоже остановилась и медленно повернула голову, и возле самой стены дома увидела старика; шапки на нем уже не было, а тулуп его был распахнут, словно накинут второпях, но стоял он спокойно, и в руках у него ничего не было, ни ружья, ни топора — ничего. Почему-то первой мыслью, пришедшей мне в голову, было — у него же сейчас замерзнет голова, он, наверное, выронил шапку, пока обегал дом, ну конечно, не может быть, чтобы в таком огромном доме был только один выход, как глупо, а потом я подумала — он вернулся. Вернулся, а ведь она сказала — он ни за что не выйдет.
— Нам нужно всего литров триста, — сказал папа все так же, вполголоса, — мы лишнего брать не будем, нам просто доехать до места, ты же сам говорил — плохая дорога, мы за весь путь не нашли почти никакого топлива, а дальше, если ты правду сказал, останавливаться вообще будет нельзя. Ты, главное, стой спокойно, мы сейчас сольем — немного, можешь сам посмотреть — и уедем, и ты нас больше не увидишь никогда, ты хороший мужик, Михалыч, и при других обстоятельствах — сам понимаешь…
Старик молчал.
— Ну зачем тебе столько солярки — одному, — сказал папа уже громче, — это же на целую зиму хватило бы дороги чистить, да кому они сейчас сдались, твои дороги, а мы без этой солярки не доберемся, доедем разве что до Пудожа — и все, она нам нужна, понимаешь, нужна как воздух! — тут он умолк, продолжая исподлобья, с вызовом смотреть на старика, и в наступившей тишине слышно было только, как за его спиной щелкает заправочный пистолет, и с тяжелыми, неравномерными всплесками хлюпает внутри пластиковой канистры переливаемое топливо.
Старик подождал немного — словно полагая, что папа скажет еще что-нибудь, — а потом медленно покачал головой и произнес:
— Странные вы люди, — он сказал это беззлобно и даже, пожалуй, с каким-то удивлением, — не по-людски у вас все как-то, ей-богу. У меня там тыщи две с половиной литров еще осталось. Что ж вы не попросили? — И потом уже просто стоял, равнодушно и молча, словно потеряв к нам всякий интерес, в течение всего времени, пока Сережа с Андреем возились с канистрами, и потом, когда была заполнена последняя — и папа, уже опустивший карабин, повторил еще раз «вот видишь, ровно триста, я же говорил — мы лишнего не возьмем», и пока они поспешно распихивали потяжелевшие канистры по машинам, и потом, когда Сережа, вернувшись, но не поднимая глаз, проговорил «может, тебе патроны нужны? для ружья? или лекарства? у нас есть — ты не сердечник, нет? возьми, пригодится — не тебе, может, еще кому-нибудь? нет?», и даже тогда, когда мы уже все закончили и последний раз взглянули на него, стоящего в той же позе, с непокрытой головой, возле стены своего громадного, пустого дома — даже тогда он не произнес больше ни единого слова. Ни одного.
Когда мы выехали на дорогу, ведущую дальше, к Нигижме, пошел мелкий, негустой снег.
Мы ехали быстро — насколько это было возможно по засыпанной снегом дороге, и я поймала себя на том, что все время оборачиваюсь назад, чтобы убедиться, что дорога позади нас пуста; почему-то я была уверена, что человек, приютивший нас в эту ночь и позволивший забрать свое топливо, не бросится за нами в погоню сразу после нашего поспешного отъезда, но вот те, другие, приходившие к нему в дом сегодня, запросто могли это сделать — особенно теперь, когда мы дали им повод, когда мы первыми нарушили правила. Вероятно, эта мысль пришла в голову всем без исключения — и потому до самой Нигижмы мы ехали, не останавливаясь и даже не переговариваясь по рации, несмотря на то что нам срочно нужно было покормить детей, поесть самим и залить наконец топлива в опустевшие баки. Подгонял нас еще и начинающийся снегопад — пока безобидный, но способный в любую минуту набрать силу и преградить нам путь, в этот раз — окончательно.
Если бы не предупреждение старика о том, что Нигижма еще жива, мы бы ни за что об этом не догадались — проезжая сквозь эту темную, настороженно молчащую деревню, можно было предположить, что она уже погибла или что жители покинули ее — мне показалось, правда, что за одним из обращенных к дороге окон мелькнул и пропал какой-то тусклый огонек, но и он запросто мог быть всего лишь отражением наших фар.
— Ты думаешь, здесь кто-нибудь остался? — спросила я у Сережи, и он ответил:
— Не знаю, Ань. Неделя теперь — большой срок, здесь могло случиться все, что угодно, а старик об этом даже не узнал бы. — А я подумала, действительно — что такое неделя?
Две недели назад мы еще были дома — город к тому моменту уже закрыли, но мама еще была жива, и папа еще не постучал ночью в балконную дверь нашей гостиной, чтобы сообщить нам о том, какие мы беспечные дураки; две недели назад у нас в запасе было еще целых несколько дней до момента, когда наш привычный мир неожиданно рухнул — весь, целиком, не оставив никакой надежды на то, что весь этот ужас как-нибудь иссякнет, закончится сам собой, что мы можем просто затаиться и переждать его. Невозможно было поверить в то, что две недели назад в это время мы втроем — я, Сережа и Мишка — наверное, сидели за ужином в нашей уютной, светлой кухне, под абажуром из цветного стекла, и самой большой моей заботой было — что приготовить завтра на обед. Хотя нет, конечно нет, две недели назад мы уже попытались проникнуть в город — и я, и Сережа, и уже начали беспокоиться о тех, кто остался внутри, за кордонами, но надежда — надежда у нас еще была; мы никого еще не потеряли тогда, чужие люди еще не застрелили Ленину собаку, еще не сгорел дотла ближайший к дороге пряничный домик в соседнем коттеджном поселке, и мы ни разу еще даже не задумались о бегстве, чувствуя себя в полной безопасности в стенах своего прекрасного, нового дома. Невозможно представить, что все это было у нас каких-нибудь две недели назад.
Именно поэтому было очень легко поверить в то, что одной недели, в течение которой с Нигижмой не было связи, с лихвой хватило бы для того, чтобы болезнь добралась сюда и погубила всех ее немногочисленных жителей, или те самые появившиеся в округе «лихие люди», как назвал их старик, нашли наконец сюда дорогу; и деревня эта кажется такой безлюдной и мертвой потому, что она на самом деле безлюдна и мертва и нет уже никакого Ивана Алексеича в третьем доме справа, к которому мы даже могли бы обратиться за помощью, если бы у нас хватило теперь на это совести. Правда, все могло быть иначе — возможно, четыре больших, тяжело загруженных автомобиля, издалека заметных на пустынной дороге, заставили обитателей деревни запереться в домах, спрятаться, и сейчас они наблюдают за нами из темноты своих окон, провожая нас глазами: кто-то — с недоверием и страхом, а кто-то, очень может быть, через прицел охотничьего ружья.
— Не нравится мне здесь, — сказала я, поежившись, — поехали быстрее.
— Пап, давай поскорее проскочим, — тут же сказал Сережа в микрофон, словно ждал этих моих слов, и папа ответил ворчливо:
— Не могу быстрее, дорога видишь какая, не хватало еще посреди деревни завязнуть. Не паникуйте, если они сразу на нас не набросились, то дадут нам проехать.
Я смогла выдохнуть только километра через три-четыре после того, как неприветливая Нигижма скрылась за поворотом и пропала, словно ее и не было, и заснеженные, казавшиеся бесконечными поля по обеим сторонам дороги снова сменились густым лесом. В этот момент Андрей сказал:
— Все, ребята, не знаю, как у вас, а я все топливо сжег, бак пустой, больше мы не протянем, давайте остановимся.
— Давай отъедем еще хотя бы километров на пять, — предложил папа, — нехорошо вот так, у них под носом…
— Я последних пятнадцать километров тяну на честном слове. — Андрей говорил тихо, почти шепотом, но слышно было, с каким трудом он заставляет себя сдерживаться и не кричать, — между прочим, я все топливо спалил, пока Лендкрузер ваш вытаскивал, так что если я говорю, что больше мы не протянем, значит, не протянем, — едва закончив фразу, он остановил машину, и нам ничего не оставалось, как последовать его примеру.
Стоило мне распахнуть пассажирскую дверь, как пес тут же вскочил и попытался даже просочиться между спинкой моего сиденья и боковой стойкой; как только я выпустила его, он немедленно бросился в лес, петляя между деревьями, и исчез, а я с тревогой смотрела ему вслед, думая о том, что неожиданно для себя самой из всей нашей странной компании я выбрала не человека, а этого большого, незнакомого и, пожалуй, даже не слишком дружелюбного зверя, чтобы добавить в короткий список тех, за кого я готова волноваться. Этот список — или, скорее, круг, всю мою жизнь был невелик, а в последние несколько лет сжался катастрофически и вмещал уже только самых близких — маму, Сережу, Мишку, даже Ленка — и та была последнее время скорее снаружи, чем внутри; и дело было даже не в том, насколько им удалось поладить с Сережей, просто с тех пор, как он появился, весь остальной мир как-то обесцветился и отступил, сделался неважен, как будто кто-то отделил от меня всех, кого я знала раньше — друзей, знакомых, коллег — прозрачным, притупляющим звуки и запахи колпаком, и все они, оставшиеся снаружи, превратились в тени на стене, узнаваемые, но не имеющие больше значения. И вот теперь этот желтый, мрачный пес, приходящий и уходящий, когда ему вздумается, заставляет меня искать его глазами, беспокоиться о том, что он не успеет вернуться, и о том, что я не сумею уговорить остальных подождать его.
Я вышла на обочину и, выудив смятую пачку из кармана, на ощупь нашла в ней последнюю сигарету. За моей спиной мужчины сосредоточенно выгружали на снег тяжелые, уютно всплескивающие двадцатилитровые канистры, перекрикиваясь — «Андреич, посвети, я лючок не вижу», «Мишка, хорош, эта последняя, больше не влезет», а я все шла по застывшему краю дороги с незажженной сигаретой в руке и не могла заставить себя остановиться, мне вдруг остро, непреодолимо захотелось отойти как можно дальше, чтобы и свет фар, и человеческие голоса на какое-то время исчезли — ненадолго, хотя бы на минуту, на пять минут остаться одной в этой морозной, свежей темноте; мне просто нужна была пауза после ночи, проведенной с чужими женщинами в тесной и душной комнате, и я сделала пять шагов, десять, когда Сережа окликнул меня:
— Анька! Ты куда?
Я не остановилась; я даже не смогла ему ответить, а просто помахала рукой и шагнула еще один раз, и еще, я отойду недалеко, просто чтобы не видеть никого из вас, я никого не хочу сейчас видеть, я так устала от того, что рядом все время кто-то есть, оставьте меня, дайте мне хотя бы немного времени. Я прекрасно понимала, что далеко не уйду — мне нужно было не одиночество, а всего лишь его иллюзия, безопасный суррогат; достигнув места, где свет автомобильных фар сделался едва различим, а звуки слились в однородный гул, я остановилась и замерла. Сразу они меня не хватятся, подумала я, у меня есть в запасе минут пять, а то и десять, я подожду, я просто постою здесь, в тишине, а когда они будут готовы, они позовут меня, я услышу и вернусь.
Снег, лежавший вдоль дороги, был нетронутым и чистым, и не заботясь о том, как глупо это, наверное, могло бы выглядеть со стороны, я опустилась на колени, а затем легла на спину и запрокинула голову; только сейчас я заметила, что снегопад прекратился — так же неожиданно, как и начался. Лежать было холодно и мягко, словно на пуховой перине в нетопленой спальне — над моей головой, в черном безлунном небе отчетливо проступили вдруг крупные, яркие звезды, а я лежала на спине и курила — с наслаждением, неторопливо, здесь темно, и они ни за что меня не увидят и не станут спрашивать — какого черта ты лежишь на снегу; это невозможно объяснить, я ни за что не смогла бы объяснить им — никому, даже Сереже, зачем мне это нужно. Краем уха я все еще слышала шум голосов, хлопанье дверей — но звуки эти казались очень далекими, почти ненастоящими; казалось, можно сделать над собой легкое усилие — и перестать их слышать совсем, и мне уже почти это удалось, как вдруг я поняла, что в однотонный гул этих успокаивающих звуков вплетается еще один, посторонний и совершенно сейчас неуместный, и какое-то время еще лежала так же спокойно, просто пытаясь понять, что это за звук, и сделала даже одну или две затяжки и только потом поняла и, приподнявшись на локте, вгляделась в непроглядную черноту, укрывшую от наших глаз петляющую, ведущую к Нигижме дорогу — и тогда я вскочила, отбросила недокуренную сигарету и побежала назад, к машинам, стараясь как можно скорее сократить расстояние, отделяющее меня от остальных.
Когда я подбежала, заправка была почти уже закончена, хотя канистры, теперь пустые, еще не успели убрать и они вповалку лежали на снегу — на шум моих шагов Сережа повернулся ко мне, и я крикнула ему, задыхаясь:
— Машина! Там машина!.. — И по тому, как он отчаянно обернулся куда-то в сторону непролазной стены деревьев, я поняла, что опоздала, что нам ни за что уже не успеть. Я стала искать глазами Мишку — и увидела его; на заднем сиденье Лендкрузера я различила Ленину массивную фигуру и рядом с ним, светлым пятном — белый Маринин комбинезон; папа, Андрей, Наташа — все были тут же, рядом, и только Витара стояла пустая, с распахнутой дверцей — ни Иры, ни мальчика в ней не было.
— Ира! — крикнула я так громко, насколько могла — и как только эхо моего голоса стихло, шум мотора приближающегося к нам автомобиля стал уже отчетливо слышен, а свет его фар вдруг пронзил насквозь казавшийся непрозрачным частокол голых, обледеневших стволов в нескольких сотнях метров от нас, вспыхнул на заснеженных ветках.
— Аня, иди в лес, — выдохнул Сережа, уже шаря за сиденьями Паджеро, чтобы вытащить ружье, — девочки, все идите в лес!.. — И поскольку мы не двигались с места, остолбеневшие, испуганные, он обернулся, больно схватил меня за плечо свободной рукой и рявкнул прямо мне в лицо:
— Аня, ты слышишь меня?! Иди в лес! — И толкнул меня — сильно, так, что я почти потеряла равновесие, и, продолжая смотреть на меня — настойчиво, пристально, сказал еще:
— Найди там Ирку с Антоном, и не выходите, пока я не позову вас. Ты поняла меня? — И тогда я медленно попятилась, все еще глядя на него, а он повторил: — Ты поняла? — и когда я кивнула, сразу же повернулся назад, к дороге, только я не успела больше сделать ни шагу, потому что автомобиль, который я так поздно услышала, был уже совсем рядом. Метрах в тридцати от нас он резко сбавил скорость и, все больше замедляясь, словно нехотя подкатился еще немного ближе — так, что я смогла разглядеть его: приземистый, грязно-зеленого цвета УАЗ-«буханку» с маленькими, широко расставленными круглыми фонарями.
Почти поравнявшись с нами, «буханка» резко вильнула влево, на встречную полосу, и замерла, тихо урча и выпуская пар из выхлопной трубы; дверцы ее оставались закрытыми, и на дорогу никто не вышел.
— Зайдите за машину, — бросил Сережа вполголоса, не оборачиваясь, но мы и без его слов уже инстинктивно отступили под защиту наших высоких, перегруженных автомобилей; пригнувшись, он осторожно обошел пикап, плотно уперся локтями в широкий капот и вскинул ружье.
Позади что-то хрустнуло — обернувшись, я увидела Иру с мальчиком, медленно выбирающихся из леса; не может быть, чтобы она не слышала, она всегда такая осторожная, подумала я, но она даже не смотрела в нашу сторону — только себе под ноги, перешагивая через поваленные тонкие стволы, торчащие из сугробов, и говорила мальчику:
— …что значит — не голодный, надо поесть, обязательно, мы сейчас попросим папу открыть тебе банку вкусного мяса…
— …а собаке дадим мясо? — тонким голосом спросил мальчик, но она ему уже не ответила, потому что увидела наконец наши напряженно застывшие фигуры, Сережу с ружьем в руках и чужую машину на противоположной стороне дороги, и тогда она одной рукой быстро зажала мальчику рот — он возмущенно пискнул и дернулся, а второй одним движением притянула его к себе и упала вместе с ним в снег там же, где стояла, и больше уже не шевелилась.
В этот момент с дороги послышался какой-то звук — я перевела взгляд в ту сторону и увидела, что пассажирская дверь «буханки» распахнулась и какой-то человек — невысокий, коренастый, одетый в один только свитер какого-то нелепого, ржаво-коричневого цвета, принялся неуклюже вылезать из нее. Затем он поступил очень странно: вместо того чтобы попытаться разглядеть нас или как-то к нам обратиться, человек этот, уже весь находясь снаружи, зачем-то встал к нам спиной, просунул голову в по-прежнему распахнутую дверь и прокричал куда-то в салон — не раздраженно, а даже скорее весело:
— Да не открывается у тебя окно, говорят тебе! Ни хрена у тебя в машине не работает!
Кто-то невидимый изнутри «буханки» — по всей вероятности, тот, кто сидел за рулем, что-то отвечал ему — настойчиво и встревоженно, но слов я не расслышала, а человек, стоящий на дороге, только махнул на него рукой комичным, преувеличенным жестом, означавшим что-то вроде «а, толку с тобой разговаривать», обернулся и бодро зашагал в нашу сторону, крича:
— Не бойтесь! Я доктор! Доктор я! — и поднял перед собой руку с прямоугольным пластиковым чемоданом, какие бывают у врачей «Скорой помощи»; в чемодане что-то отчетливо громыхнуло.
— А ну, стой! — крикнул папа и чуть качнулся к свету, чтобы приближающийся к нам человек увидел карабин, который он держал в руках. Человек остановился, но чемодана не опустил — а, напротив, поднял его еще выше и повторил все так же громко:
— Доктор, говорят же вам! У вас все в порядке? Помощь не нужна? — И тогда я еще раз взглянула на «буханку» и действительно увидела на передней ее двери яркий белый прямоугольник с красными буквами «МЕДСЛУЖБА» и ниже — отчетливый красный крест в белом кружке.
— Нам не нужен доктор! — крикнул папа человеку с чемоданом. — Проезжайте себе мимо!
— Вы уверены? — спросил человек, напряженно вглядываясь вперед, словно пытаясь разглядеть лицо своего вооруженного собеседника. — А что ж вы тогда тут торчите? Ничего не случилось?
— Да в порядке мы, ядрить твою… — со злостью рявкнул папа, — никто нам не нужен!
Человек с чемоданом постоял еще немного, словно ожидая продолжения, а потом опустил руку и сказал — как мне показалось, разочарованно:
— Ну, не нужен так не нужен, — и повернулся было, чтобы направиться назад, к «буханке», как вдруг тонкий голос откуда-то справа прокричал ему в спину:
— Подождите! — и он тут же замер и вскинул голову. — Не уезжайте! Нам нужен доктор!
— Маринка, — зашипел папа, повернувшись в ее сторону, — а ну вернись на место. — Но она уже выскочила на дорогу и бежала к человеку с чемоданом, высокая, с упрямой тонкой спиной, и ни разу не обернулась к нам, а добежав, неожиданно поскользнулась и едва не упала — так, что ему пришлось подхватить ее свободной рукой, и пока он поднимал ее, она уже говорила ему торопливо и жалобно:
— Не уезжайте, они ничего вам не сделают, там мой муж, его ударили ножом, очень плохо заживает, пойдемте, я покажу, — и потащила его к машине, в которой на заднем сиденье, беспомощно скрючившись, сидел Леня, а мы смотрели, как они подходят к Лендкрузеру, как она, протянув руку куда-то вверх, нашаривает кнопку и включает свет в салоне, а потом поспешно вытаскивает из машины девочку, за ней — детское автомобильное кресло, бросает его прямо на обочину и с усилием пытается сдвинуть вперед широкие передние сиденья, которые не сдвигаются, и она сражается с ними до тех пор, пока человек с чемоданом не говорит:
— Погодите, дайте, я попробую.
Девочка, стоящая теперь снаружи, на снегу, в расстегнутом до середины комбинезончике и с непокрытой головой, захныкала — но Марина, казалось, даже этого не услышала. Человеку с чемоданом удалось победить передние сиденья, и теперь он по пояс скрылся внутри большой черной машины. Снаружи видны были только его ноги, стоящие на высокой подножке, а Марина обежала Лендкрузер с другой стороны и, распахнув водительскую дверь, тоже просунула голову в салон, продолжая взволнованно что-то говорить. Девочка захныкала громче, и тогда Наташа, сидевшая на корточках возле пикапа, вдруг воскликнула:
— Да что же это такое, черт побери, она ей даже шапку не надела, — и выпрямилась: — Марина! — крикнула она. — Где шапка Дашкина? — но не получила ответа и, подойдя к плачущей девочке, принялась натягивать той капюшон на голову, продолжая рассерженно говорить: — Как будто его только что ножом пырнули, господи боже, королева драмы, не плачь, не плачь, солнышко, все в порядке, к папе доктор пришел, сейчас мы тебя застегнем…
Мы, остальные, по-прежнему скорчившиеся за машинами, чувствовали себя теперь очень глупо — никто больше не пытался окликнуть Марину или Наташу, и вот уже Андрей, выпрямившись во весь свой высокий рост, вышел из укрытия и пошел к жене, а за ним, неуверенно оглянувшись на меня, показался Мишка, прятавшийся за Витарой, — к своему удивлению, я увидела у него в руках одно из Сережиных ружей. Последним, досадливо сплюнув себе под ноги, сдался папа; не успел он подойти к Лендкрузеру, человек с чемоданом высунулся наружу и, все так же стоя на подножке, прокричал в сторону «буханки»:
— Коля! Принеси мне черную сумку мою, она где-то сзади должна быть! Коля, слышишь? А, ладно, сам схожу, — и, легко спрыгнув с подножки, торопливо зашагал через дорогу, а недоверчивый его напарник уже выходил ему навстречу — не заглушив, впрочем, двигателя и не захлопывая дверцы; обойдя машину, он все тем же недовольным, встревоженным голосом говорил человеку с чемоданом:
— Не знаю я, где твоя сумка, вечно суешь ее куда попало, сам и ищи! — И пока тот рылся в салоне «буханки», снова запихнувшись в нее почти по пояс и явив нашим взглядам стоптанные подошвы своих ботинок, непропорционально больших для такого невысокого человека, насупленный Коля с длинным, худым лицом, покрытым седоватой щетиной, стоял рядом, мрачно и безо всякой приветливости рассматривая нас; в руке у него была вызывающе зажата увесистая монтировка.
Спустя несколько мучительно долгих минут черная сумка была, наконец, обнаружена и переправлена в Лендкрузер. Недолго помаявшись возле своей «буханки», мрачный Коля заглушил-таки двигатель и, пошарив еще немного в салоне, вытащил оттуда что-то бесформенное и мягкое, а потом, засунув монтировку под мышку — он пока явно не готов был расстаться с ней — независимо проследовал мимо нас, стоявших вокруг Лендкрузера, всего раз стрельнув в нас колючим, презрительным взглядом, и проговорил ворчливо прямо в обширную ржаво-коричневую спину:
— Ты оденься хоть, Пал Сергеич, замерзнешь ведь — дверь-то открыта, а на улице мороз, — и попытался просунуть в салон свой бесформенный сверток, оказавшийся толстой зимней курткой, но «Пал Сергеич» только досадливо отмахнулся от него, не оборачиваясь, и тогда Коля прижал куртку к груди и так и остался стоять неподалеку, покачивая головой, словно родитель, уставший от проделок своего непоседливого ребенка, говоря себе под нос:
— Не бойтесь, главное. Из ружья в него целятся, так он кричит — не бойтесь. А у нас из оружия — одна только эта монтировка. Сколько раз ему говорил — не суйся ты, Сергеич, черт тебя задери совсем, — нет, надо ему непременно влезть, — тут он поднял голову и яростно сверкнул на нас глазами: — А вы тоже хороши, им помощь предлагают, а они давай из ружья целиться! — Возмущенно фыркнув, он помолчал немного, а потом произнес уже другим голосом:
— Закурить у вас нету? Мы уж дней пять как не курили.
Через десять минут, выкурив подряд две сигареты из пачки, которую папа нехотя, с таким же неприветливым видом, как и у нашего нового знакомца, протянул ему, и деловито засунув еще одну из этих сигарет себе за ухо, сумрачный Коля поведал нам о том, что «если кто замерз, пускай в машине посидит — Пал Сергеич как дорвался до пациента, его уже никак не остановить, залечит по самое тово…», со знанием дела прогулялся вдоль наших припаркованных у обочины машин, попинал колеса, а возле Лендкрузера произнес «это ж сколько она жрет у вас, вокруг заправки только и кататься» и бросил нежный, ласкающий взгляд на стоящую с противоположной стороны «буханку». Мне казалось, что ему не терпится, чтобы мы его расспросили, но стоило мне задать ему первый вопрос, как он тут же снова поскучнел, насупился и пробурчал что-то вроде «вот Пал Сергеич закончит, его и спрашивайте, я что — я баранку крутить».
Наконец и доктор, и Марина показались снаружи, оставив Леню лежать на заднем сиденье:
— Вот, — сказал он, — возьмите, — и протянул ей какой-то маленький белый тюбик, — расходуйте экономно, больше у меня, к сожалению, уже не осталось. Рану обрабатывать минимум два раза в сутки — дней на пять-шесть вам точно хватит. И — вы запомнили? — не торопитесь снимать швы, сами увидите, когда это можно будет сделать, — а она стояла, сжимая драгоценный тюбик в руках, высокая, почти на голову выше этого коренастого, низкорослого человека, похожая на породистую тонкокостную арабскую лошадь рядом со скучным рабочим осликом, и просто кивала ему, кивала на каждое его слово, ухитряясь при этом каким-то непостижимым образом смотреть на него снизу вверх, и на лице у нее были написаны одновременно священный ужас и обожание.
Доктор наконец сделал несколько шагов по направлению к нам, с явным облегчением вырываясь за пределы Марининой благодарности, угрожающе сгущавшейся с каждой секундой — казалось, еще мгновение, и она бросится перед ним на колени или, чего доброго, начнет целовать ему руки.
— Не волнуйтесь, все с ним будет в порядке. Небольшое воспаление есть, но под воздействием местных антибиотиков скоро все заживет, при нормальных обстоятельствах я бы назначил еще и внутрь, но запасы мои очень ограничены и могут потребоваться для куда более серьезных случаев. Мои поздравления тому из вас, кто его зашивал, — шов хороший, аккуратный, чувствуется крепкая мужская рука, — и тут он, любезно улыбаясь, почему-то посмотрел на папу, который все так же хмуро кивнул в сторону Иры, стоявшей тут же, с мальчиком, опасливо выглядывающим из-за ее ноги:
— Вообще-то это она шила.
— О! — сказал доктор и посмотрел на нее. — О, — повторил он, когда она подняла глаза, и целых две или три минуты больше ничего не говорил.
— Послушайте, — вставил вдруг Сережа, — Павел Сергеевич, да? — Тут доктор оторвал от Иры взгляд и часто, приветливо закивал. — Что вы вообще здесь делаете — вдвоем, в таком месте и в такое время? Куда вы едете? Откуда?
— А потому что вожжа кому-то под хвост попала, — нависая над плотным плечом доктора, сообщила внезапно возникшая из темноты вытянутая Колина физиономия, и доктор засмеялся:
— Николай, безусловно, несколько склонен к красочным эвфемизмам, но тут, боюсь, он совершенно прав. Именно что вожжа, — и, перебивая друг друга, они принялись рассказывать — точнее, говорил в основном доктор, а мрачный Коля в случаях, когда ему казалось, что рассказ неполон, вставлял несколько слов от себя: о том, как почти три недели назад, уже после того, как пришло известие, что Москва и Питер закрылись на карантин, главврач больницы, в которой оба они работали, долго говорил о чем-то по телефону с Петрозаводском, и из-за закрытой двери его кабинета доносился время от времени его раздраженный голос: «нет, это вы мне скажите, что делать!» и «у меня уже пять случаев в одном только городе, и еще из района должны вот-вот привезти с похожими симптомами!», а затем с оглушительным грохотом швырнул трубку на рычаг, вышел к персоналу, собравшемуся снаружи, и хмуро произнес: «В общем, так. Надо ехать в Петрозаводск».
Почему-то все они были уверены тогда, что вакцина есть — может быть, в ограниченном количестве, экспериментальная, не прошедшая испытаний — но есть, просто по какой-то причине в их крошечный районный центр ее не шлют, потому что она нужнее в столицах, чем на окраине, до которой, как водится, столицам этим нет никакого дела. Решено было снарядить экспедицию в управление здравоохранения, «ну и тут мы с Николаем, надо сказать, оказались идеальными кандидатами, потому что оба мы не семейные», — сказал доктор и, взглянув зачем-то на Иру, слегка порозовел. На прощание главврач сказал: «Паша, ты просто сядь у них там в приемной и не двигайся с места, и не слушай никаких обещаний, понял? Без вакцины не возвращайся», — а потом они ехали всю ночь — почти четыреста километров по скверной, мерзлой дороге и к утру следующего дня были уже в Петрозаводске. В управлении до них действительно никому не было дела — так что, просидев до обеда в приемной, наш доктор вынужден был нарушить все мыслимые и немыслимые правила и просто ворвался в кабинет замначальника управления, прервав его посреди планерки, продолжавшейся всю первую половину дня, и разразившись прямо с порога пламенной речью, текст которой он вертел в голове, ворочаясь без сна на переднем сиденье тряской «буханки», но не успел он дойти и до середины своих аргументов, сидевший во главе стола пожилой, измученный человек с грустным, как у спаниеля, лицом закричал ему с неожиданной яростью: «Пять случаев, говорите? А у меня пять тысяч случаев за две недели! И каждый день еще по пятьсот! И с Питером связи нет со вчерашнего дня! Нету у меня вакцины, нету, и ни у кого нету, они там ждут, пока мы все вымрем к такой-то матери!» — тут он сделал паузу, чтобы перевести дух, а затем сказал уже чуть спокойнее: «Ваша главная удача, мой дорогой, заключается в том, что вы далеко и вас мало — поверьте мне, вы там у себя в гораздо более выигрышном положении, чем мы здесь, так что забирайте то, на чем вы там приехали, и уё…вайте отсюда поскорее обратно к себе в район, и молитесь, черти, молитесь на свои пять случаев». Доктор наш, безусловно, на этом не сдался и до конца дня толкался в тесных коридорах управления, хватая за рукав пробегавших мимо людей, перехватывая разговоры, пытаясь куда-то еще звонить, что-то доказывать, и только к вечеру наконец понял, что этот смертельно уставший человек, кричавший на него в своем кабинете, был совершенно прав — эпидемия вышла из-под контроля, если он вообще был, этот контроль, и то, что теперь происходит, — уже стихийная, неуправляемая катастрофа.
Единственное, чего ему удалось добиться, — небольшой прямоугольной бумажки с печатью, с указанием выдать ему, Красильникову Павлу Сергеевичу, на петрозаводском аптечном складе две тысячи доз противовирусного препарата; «Только он не поможет, — безнадежно сказали ему, — он от гриппа, но не от этого гриппа», а когда он, сжимая драгоценную бумажку в руке, выбежал на улицу, выяснилось, что Колю с его санитарной «буханкой» угнали на принудительную эвакуацию заболевших, и тогда он пешком, спрашивая дорогу, побежал к аптечному складу, с ужасом наблюдая опустевшие улицы с редкими санитарными машинами, прохожими без лиц, в одинаковых белых и зеленых масках, пункты выдачи продовольствия и лекарств с молчаливыми, тревожными очередями — словом, все, что было всем нам и без его рассказа уже знакомо слишком хорошо.
К моменту, когда Коля наконец нашелся — измочаленный и перепуганный насмерть, в съехавшем набок респираторе, вожделенные две тысячи доз, упакованные в три небольших прямоугольных сумки, были уже получены, и несмотря на усталость и шок, оба они, оказалось, готовы были немедленно выезжать обратно, чтобы поскорее сбежать из трехсоттысячного города, уже бившегося в безнадежной агонии у них на глазах; к счастью, перед вынужденным рейдом опустевший «буханкин» бак доверху залили бензином, и потому они прыгнули в машину и рванули к выезду из города. Только вот уехать им не удалось — не доезжая до выезда на трассу нескольких километров, они уперлись в глухую, стоячую пробку, состоящую из машин, переполненных такими же, как они, обезумевшими от страха людьми и груженных чемоданами и тюками, наспех закрепленными на крышах и торчащими из незакрытых багажников, и пока Павел Сергеевич оставался в «буханке», то и дело оборачиваясь на бережно сложенные сзади сумки с лекарствами, Коля быстро сбегал вперед и вскоре вернулся с известием, что из города уехать нельзя — выезд перегорожен грузовиками, возле которых стоят вооруженные люди и никого не выпускают. С грехом пополам развернувшись через боковые улицы, они, петляя, сделали еще несколько попыток покинуть город — но на всех выездах ситуация была совершенно такая же: с опозданием на неделю в Петрозаводске ввели карантин, и отчаянная эта мера призвана была скорее не спасти обреченный город, помочь которому было уже нельзя, а защитить от безжалостной болезни тех, кто остался снаружи.
О том, что они делали в осажденном городе в течение трех недель карантина, сказано было немного — «говорю же, надо ему непременно влезть» — с какой-то пасмурной гордостью сообщил Коля, завладевший еще одной сигаретой из папиных запасов; мы поняли только, что одну из трех сумок, добытых на опустевшем аптечном складе, пришлось-таки распечатать — и, возможно, именно это, хотя, может быть, и какая-то другая, необъяснимая удача помогли им обоим не заразиться, несмотря на два десятка дней, проведенных в тесном контакте с умирающими вокруг людьми. «Понимаете, это бесценный клинический опыт, — волнуясь, сказал наш доктор, поочередно заглядывая нам в глаза, словно ему было смертельно важно убедить именно нас, — этот вирус, безусловно, очень опасен, но убивает не он — я уверен, уверен, что заболевшего человека можно спасти, если бы как-то удалось предотвратить геморрагическую пневмонию, которая развивается только на четвертый-шестой день. Инкубационный период короткий, необычно короткий — иногда это несколько часов, максимум — сутки, и это, конечно, очень плохо для пациента, но в целом, в целом это хорошо, понимаете? Если бы в самом начале грамотно наладили диагностику, заболевших можно было бы вполне эффективно изолировать — только они же, как всегда, до последнего делали вид, что все не так страшно, чтобы не было паники, а потом уже было поздно!..» — закончил он с отчаянием в голосе и замолчал.
После паузы они рассказали нам, что когда три недели спустя бесполезные уже кордоны пали, потому что часть охранявших их военных заразилась, а вторая — разбежалась по окрестностям, оба они погрузились в свою «буханку» и предприняли еще одну попытку вернуться домой; из города они выехали беспрепятственно, но по дороге к Медвежьегорску, не доезжая до Шуи, им навстречу попалась искореженная, помятая машина с растрепанной, белой от ужаса женщиной за рулем. Разглядев красный крест на борту «буханки», женщина эта остановила машину и бросилась практически им под колеса, и когда они остановились («Надо же ему влезть!» — с мрачным удовлетворением снова сказал Коля), выяснилось, что на заднем сиденье искореженной машины лежит муж этой женщины с пулей в животе, и пока доктор предпринимал бесполезные, отчаянные попытки его спасти, женщина перестала рыдать и обессиленно опустилась на землю, прижавшись спиной к грязному колесу; из ее рассказа, прерываемого то и дело резкими, судорожными вдохами, Коля понял, что лежащую слева от трассы Шую разграбили и сожгли, а почти сразу за ней они с мужем наткнулись на засаду, из которой им пришлось вырываться, тараня перегородившие им дорогу машины, и какие-то люди сделали им вслед несколько выстрелов, один из которых лишил их машину заднего стекла, а второй — и это подтвердил бледный, перепачканный кровью Павел Сергеевич, — стоил жизни ее мужу.
Они взяли эту женщину с собой — убедившись в том, что муж мертв, она покорно позволила усадить себя в «буханку», не взяв из своей изуродованной машины ни единой вещи, и за все время, пока они возвращались к Петрозаводску, не произнесла больше ни слова — все эти сорок минут с заднего сиденья раздавался только мерный, пугающий их обоих, стук ее головы о боковое стекло автомобиля всякий раз, когда он подпрыгивали на ухабе. В центре города она вдруг попросила их остановиться и затем, безразлично отмахнувшись от их уговоров поехать с ними дальше, все-таки попробовать вырваться, медленно ушла от них прочь; проводив ее глазами до тех пор, пока она не скрылась на одной из узких боковых улиц, они приняли решение возвращаться другой дорогой, обогнув Онежское озеро с левой стороны, через Вытегру и Нигижму — ни один здравомыслящий человек не отважился бы в такие времена выбрать этот маршрут, но широкая мурманская трасса была теперь для них недоступна, и если они все же хотели добраться до дома — с опозданием на три недели и с лекарством, которое было не в состоянии — и это они уже знали точно — никому помочь, другого выхода у них не было.
Несколько раз по дороге они едва не пропали — один раз, когда застряли в перемете, похожем на тот, который и нам едва не стоил жизни, но который оказался короче, и поэтому они вдвоем, работая без перерыва несколько часов, смогли раскидать его и расчистить путь для «буханки»; второй — когда они каким-то непостижимым образом, с трудом продвигаясь по рыхлому снегу, пробили колесо, и немедленно выяснилось, что запаски в «буханке» нет — она сгинула еще в Петрозаводске, во время одного из эвакуационных рейдов, и тогда Коля, чудовищно матерясь и замерзая до костей, бесконечных два часа пытался исправить ситуацию подручными средствами и в результате разбортировал-таки колесо и ухитрился как-то заделать застывшую на морозе покрышку — ее приходилось подкачивать каждые тридцать-сорок километров, но ехать дальше было можно. Они провели в дороге восемнадцать часов без перерыва — и все это время Коля был за рулем, «у меня и прав нет, так и не собрался, знаете» — застенчиво сообщил доктор. Опасаясь засад, они не рискнули попроситься на ночлег ни в одной из лежавших на их пути деревень, но когда увидели наши машины, припаркованные у обочины, все же остановились, «понимаете, я увидел мальчика, вот этого» — доктор указал на Антона, прижавшегося к Ириному бедру, — «Николай был очень против того, чтобы мы останавливались — особенно теперь, когда мы почти добрались, но я подумал — с вами дети, и может быть, у вас что-то случилось», — тут он замолчал и опять улыбнулся, словно извиняясь за то, что рассказ получился таким длинным.
Некоторое время никто не произносил ни слова; мы молчали, переваривая эту сбивчивую историю.
— А где она, эта ваша больница? — наконец спросил Сережа.
— Так в Пудоже. Я разве не сказал? — удивился доктор. — Здесь уже недалеко, километров пятнадцать.
— Послушайте, — сказала вдруг Марина настойчиво и положила свою узкую руку на рукав мятой куртки, которую где-то в середине разговора Коля безапелляционно нахлобучил-таки доктору на плечи и несколько раз возмущенно водружал ее, сползающую, на место, когда тот особенно оживленно размахивал руками, — мы слышали, что в Пудоже уже неспокойно. Не надо вам одним туда ехать — подождите нас, мы только зальем топливо и поедем все вместе, хорошо?
— Неспокойно? — переспросил доктор, грустно улыбаясь. — А разве где-то сейчас спокойно?
— И все равно, — с твердостью, которой я ни разу у нее не замечала, сказала Марина, — так безопаснее, как вы не понимаете! Мало ли что там, в этом вашем Пудоже, могло случиться за три недели. Подождите немного, мы уже почти готовы ехать — мы же готовы, да, готовы же?
— Нет, — вдруг сказала Ира, — мы не готовы, — и все мы с удивлением посмотрели на нее.
— Ну да, мы не поели, — произнесла Марина с отчаянием, — но мы же можем сделать это по дороге, Ира, или сейчас — но быстро, это десять минут, им нельзя дальше одним..
— Дело не в этом, — сказала Ира медленно. — Мы не можем ехать дальше, потому что в Витаре кончился бензин.
Разумеется, я этого ожидала. Об этом невозможно было забыть: все время, пока мы двигались вперед, уменьшая расстояние, отделяющее нас от маленького дома на озере, обещающего нам долгожданный покой и безопасность, невозможно было думать ни о чем другом, кроме этого: хватит ли нам топлива, чтобы добраться. Я помнила об этом, пока сама сидела за рулем, наблюдая за движением тоненькой красной стрелки — в нем не было плавности, в этом движении, стрелка могла не двигаться час, полтора, а затем делала резкий рывок — и каждый раз такой же рывок делало мое сердце, потому что машина — не только Витара, любая из наших четырех машин — означала на этой длинной, опасной дороге жизнь, была ее синонимом. Я помнила об этом, когда мы нашли брошенный грузовик, и потом — на пустых заправках возле Кириллова, и когда мы грабили цистерну — несколько раз за эти десять с лишним дней нам везло, и у трех дизельных автомобилей было теперь достаточно топлива, чтобы доехать до цели, но бензина — если не считать жалких нескольких литров, обнаруженных папой в дачном поселке — бензина мы не нашли нигде. Просто я оказалась не готова к тому, что это случится так скоро, и потому я все-таки переспросила, чувствуя себя при этом очень глупо: «Как — кончился? Уже?»
— На самом деле его хватит еще километров на десять-пятнадцать, — ответила Ира, — но лампочка горит, и мы подумали, будет лучше, если мы решим этот вопрос здесь, а не посреди города, в котором неизвестно что творится…
— Я просто не успел тебе сказать, — быстро перебил ее Сережа, — Витару придется оставить здесь, Аня. Мы сейчас перегрузим вещи, и сесть придется поплотнее. Ничего, не страшно, осталось километров триста пятьдесят, дотянем как-нибудь, — и продолжил, уже обращаясь к доктору: — Слушайте, может, вы и правда нас подождете? Нам просто вещи перекинуть, вряд ли это займет больше получаса.
— Вы простите, — тут же виновато ответил доктор, прижимая к груди свою широкую короткопалую ладонь, — больше мы с вами задерживаться никак не можем. Они ждут нас — три недели уже ждут, и мы просто не имеем права, понимаете? Мы не везем им никакой вакцины, разумеется, но они должны знать… в общем, спасибо, но мы поедем сейчас.
— Ну что ж, — Сережа пожал плечами, — тогда счастливо. И удачи. — Он протянул доктору руку, которую тот немедленно и с большим воодушевлением пожал, а затем повернулся и пошел к пикапу: — Андрюха, расчехляй прицеп — основное к тебе придется сложить, наверное…
— Много не влезет, — озабоченно отозвался Андрей, — мы почти под завязку его уже набили. Разве что канистры пустые выбросить?
— Только не все, — тут же подключился папа, и все они, включая Мишку, сгрудились вокруг прицепа и погрузились в спор, словно перелистнув страницу, на которой случилась эта встреча на ночной дороге, словно ни застенчивого доктора, ни мрачного, недоверчивого Коли, опустошившего папину пачку сигарет, больше не существовало.
— Не надо вам ехать одному, — повторила Марина доктору, — полчаса ведь ничего не решают, — но он только замотал головой и начал поспешно, даже с какой-то опаской отступать назад, как будто боялся, что она сейчас повиснет у него на рукаве и не отпустит совсем, — да подождите же! Уже поздно, вечер, он, наверное, спит давно, этот ваш главврач…