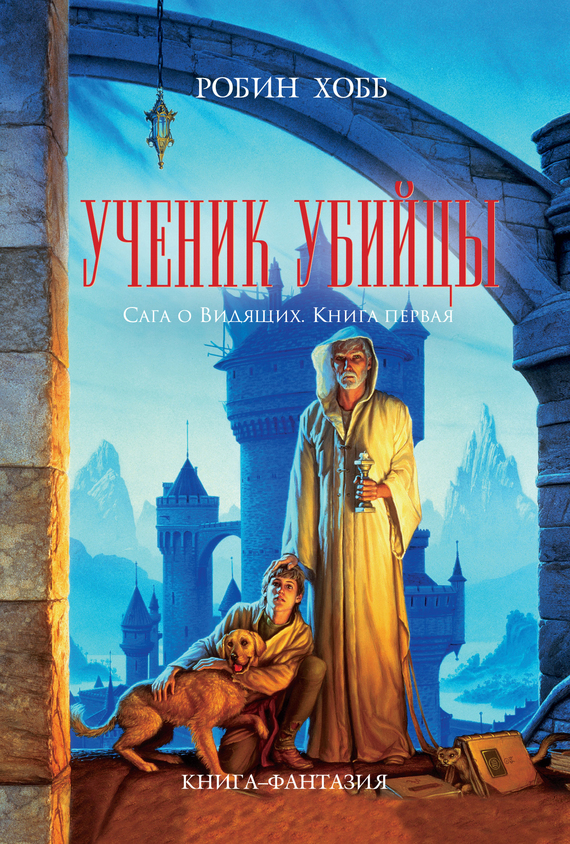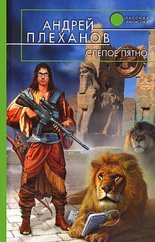Первый, случайный, единственный Берсенева Анна

Полина невольно улыбнулась и даже чуть не засмеялась. Знает же Юрка, кого и как надо приводить в чувство! В мединституте этому учат, что ли?
Коридор был длинный и тусклый, остро пахло лекарствами и тяжело, кисло – чем-то еще, чего не хотелось даже представлять, возле стен стояли облезлые каталки и гинекологические кресла, которые казались Полине жуткими, как орудия пыток, и она поэтому старалась на них не смотреть, сердито думая: «Надо же в двадцать лет быть такой дурой!»
Ей хотелось взять Юру за руку, но это был бы уж полный идиотизм.
Возле последней двери он остановился и, бросив на сестру быстрый взгляд, сказал:
– Успокойся, отдышись. Она и так возбуждена больше, чем надо, а успокоительное ей сейчас лучше не колоть. Так что ты должна сработать как транквилизатор.
– Ты не сердись, Юр, – извиняющимся тоном пробормотала Полина. – Я сейчас успокоюсь. Просто жутковато тут как-то…
– Разве? – удивился Юра. – А я и не заметил. Больница как больница, не Кремлевская, конечно, но ничего особенного.
Только войдя в палату, Полина догадалась, что это, конечно, не реанимация; значит, оттуда Еву все-таки уже перевели. Палата была большая и какая-то пустынная. Краем глаза Полина успела заметить, что, кроме Евиной, занята только угловая кровать, одна из четырех; толстая, как гора, женщина лежала на ней лицом к стене.
А Ева лежала так, что ее было видно сразу от двери. Ее невозможно было не увидеть сразу, даже в полумраке палаты, освещенной только маленькой лампой, стоящей на тумбочке.
Она была вся какая-то… светящаяся, так, наверное. Полина никогда не видела, чтобы человек светился, как на картине Рембрандта, и теперь с трудом верила собственным глазам. Ева светилась вся, от лежащих на одеяле рук до разметавшихся по подушке русых волос, но свет этот был не счастливый и не спокойный, а тревожный, почти страшный.
Артем сидел на стуле у кровати и держал Еву за руку, ко второй ее руке тянулась трубочка от капельницы. Он обернулся на скрип двери, и Полина увидела его лицо так отчетливо, как будто и он был освещен этим странным и страшным, от Евы исходящим светом.
– Все приехали. – Ева улыбнулась. Голос у нее был слабый, но все-таки это был ее живой голос и ее улыбка. – Сейчас еще мама с папой придут… Как будто я умираю.
– Мама с папой не придут, рыбка. – Полина с удивлением расслышала в собственном голосе насмешливые интонации, хотя меньше всего ей сейчас хотелось смеяться. – Ты же не умираешь, с чего бы мы всем семейством сюда приперлись? Ладно Юрка, блат составить, а родителям-то зачем? Они тебе клюквенный морс варят. Или ты мне не рада?
– Ну что ты, Полиночка, конечно, рада. Но вообще-то я прекрасно себя чувствую, вот, прошу, чтобы Тема ушел, а он…
Полина быстро взглянула на Артема, опасаясь увидеть в его глазах то, что чувствовала в себе: не утихающую от Евиных слов, леденящую тревогу. Но глаза у него были обычные – такие, какими она, хотя особо и не приглядывалась, но все-таки видела их и раньше: внимательные, широко поставленные. Он смотрел на Еву пристально, неотрывно, но он и всегда так на нее смотрел; между ними словно нить была натянута.
– Тема, может быть, ты все-таки пойдешь? – полувопросительно сказала Ева. – Ты с утра уже здесь, я знаю, не уходил ведь, да? А я пока с Полинкой поболтаю, я же ее сто лет не видела, – добавила она.
– Правильно, пойдем, – кивнул Артему и Юра. – Я там чай заварил в ординаторской, у дежурного врача бутерброды нашлись. Пойдем перекусим.
Полина улыбнулась. Юра всегда заваривал чай сам, никому не доверяя это важное мероприятие, и чай у него получался такой, что мама называла его «уголовным чифирем» и не понимала, как Юрочка может это пить.
– Да я не голодный, – пожал плечами Артем. – Ева, я…
– А Ева пока поспит, – перебил его Юра. – Ты ее тоже сильно-то не убалтывай, – велел он Полине. – Посиди, пока капельница не закончится, а больше незачем. Паникеры вы все-таки, – добавил он уже в дверях, пропуская перед собою Артема.
Как только за ними закрылась дверь, Полина села на стул, на котором только что сидел Артем. Она тоже хотела взять сестру за руку, но постеснялась этого сентиментального жеста. Впрочем, Ева сама взяла ее за руку – даже не взяла, а схватила, крепко сжала пальцы, и Полина почувствовала, какие они у нее горячие и неожиданно сильные.
– У тебя температура, что ли, рыбка? – спросила она, уже с трудом скрывая свой страх.
– Не знаю. Неважно, – коротко ответила Ева. – Полиночка, пока их нет… Я же понимаю, все не так хорошо, как Юра старается показать, он же врач, ему притвориться нетрудно, а я должна… Я хочу, чтобы ты мне пообещала, – твердо сказала она, глядя на Полину темными, так странно в этом исходящем от нее свете темными, глазами.
– Палец уже резать? – сердито спросила Полина, сдерживая дрожь. – Или сойдет шариковой ручкой расписаться? Ты, рыбка, как Мефистофель, ей-богу!
Но Ева не обратила внимания на ее тон и не успокоилась.
– По-моему, выкидыш они остановили, – торопливо сказала она. – Во всяком случае, пока. Но все равно что-то не так, я еще в реанимации слышала, как врачи переговаривались, они думали, что я еще без сознания, а я уже в сознании была, только глаза еще не открывались, и Юра поэтому здесь, не уходит, потому что все не так… Может быть, это из-за того, что я такая старая уже? Но, в общем, это неважно, из-за чего, я потом спрошу, а сейчас неважно… Если что-то случится… Полина, прошу тебя, пообещай мне, что ты его не оставишь.
– Кого? – уже не скрывая испуг, спросила Полина.
– Тему, Тему, кого же! – нетерпеливо и сердито воскликнула Ева.
– Тьфу ты, рыбка! – рассердилась и Полина. – Совсем ты сдурела! Он что, младенец?
– Младенцев, если родятся, родители и так не оставят, я же понимаю. – Ева быстро покачала головой; глаза ее лихорадочно блестели, на щеках горели алые пятна. – Его мама не оставит, и наша молодая еще, хотя все равно тяжело, но… Но его! Как он будет с ними, один, а их ведь трое, это уже точно, это ужас какой-то, Полина, как он останется совсем один, даже не только из-за детей, но совсем один?!
Тут Полина наконец догадалась, что сестра все-таки не в себе. Конечно, глаза ее были открыты, конечно, говорила она связно, то есть правильно соединяла подлежащие со сказуемыми, но при этом несла такой бред, который мог родиться только в смещенном сознании.
«Может, ее все-таки транквилизаторами накололи?» – подумала Полина.
Примерно так разговаривали те ее знакомые, которые сидели на игле или даже просто курили «травку». Вроде все понятно, но в речи присутствует небольшой сдвиг времени и пространства, из-за которого она выглядит бредом. Не раз наблюдая подобное состояние, Полина точно знала только одно: переубеждать находящегося в нем человека надо весьма осторожно.
– Во-первых, один он не останется, – сказала она, поглаживая Евин палец. – Ты что, в дикой пещере – сама помрешь, детишки выживут? Такое, рыбка, в наше время только в Уганде какой-нибудь бывает, а тут все-таки местность хоть и относительно, но цивилизованная. А во-вторых, он тебя любит и сам о тебе думает больше, чем ты о нем.
Она специально сказала про «любит» во-вторых и добилась того, чего хотела. Евины пальцы разжались, она улыбнулась, и лихорадочный блеск в ее глазах притушился, и глаза затуманились.
– Правда? – спросила она. – Знаешь, а мне до сих пор не верится, что меня можно любить, особенно здесь не верится – здесь так мрачно…
– Ничего не мрачно, – пожала плечами Полина. – Обыкновенная больница, не Кремлевская, конечно, но ничего особенного. Что он, дурак, больниц бояться?
– Все-таки ты мне пообещай, а? – жалобно попросила Ева. – Может быть, это просто оттого, что я упала и головой, наверное, ударилась, но… Ты знаешь, мне как-то странно, и мне хочется… хочется уплыть, не быть… Я сопротивляюсь, потому что он же здесь, но у меня нет сил… Пообещай…
– Да обещаю, обещаю, – решительно сказала Полина. – Торжественно клянусь, что будешь ты живая-здоровая, и будет твой Темка тебя любить, как Иван-царевич свою Царевну-лягушку, и жить вы будете долго и счастливо и умрете в один день. Подходит клятва, рыбка?
– Подходит… – Евины глаза закрывались, ресницы вздрагивали. – Как Царевну-лягушку… Я что, такая же страшная?
– Ты такая же необыкновенная, – усмехнулась Полина.
– Хорошо как, что ты пришла. – Ева улыбнулась уже с закрытыми глазами. – Это ты необыкновенная, Полиночка, от тебя какой-то силой так и веет. Видишь, я сразу расслабилась и сплю, а все время ведь так боялась, что и спать не могла…
– Ну и спи, рыбка, что тебе еще делать? Юрка тебя вылечит, – добавила она – кажется, больше для себя, чем для сестры.
– Уснула? – спросил Юра у нее за спиной. И как он так вошел, что она не слышала? – Давно пора, а то совсем она измучилась.
– Она что, правда головой ударилась? – шепнула Полина.
– Правда, – нехотя ответил Юра. – Сотрясение легкое, но ей сейчас, конечно, и легкое ни к чему. И без того хватает…
– Юр, а она не умрет? – чуть не плача, спросила Полина. – Почему она так говорит, как будто…
– Потому что головой ударилась. А если все глупости слушать, которые больные говорят, то никакого сердца не хватит, – сердито сказал он.
Полина отлично знала, когда Юрка сердится: когда происходит что-нибудь такое, чему он хотел бы помешать, но не может.
– Может, я ночью здесь побуду? – спросила она.
– С Артемом решите. Кто-нибудь должен побыть обязательно, но только один.
– А почему обязательно? – тут же переспросила она.
– Потому что сейчас за ней надо наблюдать постоянно.
– Почему постоянно? – не унималась Полина.
– Потому что могут произойти отрицательные изменения. – Юра смотрел ей прямо в глаза, и глаза у него были совсем темные. – Их нельзя упустить, но без присмотра это вполне возможно, потому что возможно все. А у меня дежурство, и на ночь я остаться не могу. Утром опять приеду.
– Я останусь, Юра. – Оказывается, Артем тоже вошел в палату и стоял у двери. – Ты иди пока домой, Полинка.
– Логичнее было бы, чтобы осталась она, – пожал плечами Юра. – Все-таки здесь гинекология.
– Я останусь, – повторил Артем, и Юра не стал спорить.
Они вышли в коридор. Юра давал Артему какие-то наставления, он слушал и кивал, а Полина смотрела на него и думала: «Странно как… Сознание теряет – и только о нем… О чужом, в общем-то, человеке. Как это получилось, и так быстро, за год какой-нибудь всего? И что это вообще такое?»
– Юра, ты не беспокойся, – сказал Артем. – Хоть ты-то не думаешь, что за меня беспокоиться надо?
– Не думаю, – улыбнулся Юра.
– А она вот думает, – вздохнул Артем. – И как ее переубедить? Ну что мне, бороду отпустить для солидности? – усмехнулся он и добавил: – Она особенно насчет больниц почему-то волнуется. Смешно даже! Тем более у меня мама очень болела, когда мне лет пятнадцать было, а мы же с ней одни жили, и я тогда еще ко всему этому привык.
– Мне пора, Артем, – сказал Юра. – Значит, чуть что – сразу к дежурному, а если его на месте не будет, пусть из-под земли достанут.
– Не беспокойся, – повторил Артем.
Глава 7
Когда они вышли из больницы, было уже темно. Но в ноябре ведь темнело очень рано, а часов Полина никогда не носила, поэтому время определить не могла.
– Ты совсем торопишься? – спросила она Юру. – Совсем-совсем?
– Полчаса у меня есть. Можем через парк пройти, – предложил он. – Здесь Лефортовский парк рядом. Пойдем?
– Я с тобой давным-давно не гуляла, – сказала Полина, идя рядом с братом по засыпанной листьями широкой аллее. – И даже, кажется, вообще никогда с тобой не гуляла. Точно, Юр! Может, ты меня в коляске только возил, и то вряд ли.
– По-моему, все-таки не возил. – Ей показалось, что он улыбнулся и синева проступила в его глазах, хотя в темноте, конечно, ничего этого нельзя было разглядеть. – Я же всегда собой был занят.
– Ты – собой? – засмеялась Полина. – Это когда это, интересно? Когда в Армению на землетрясение летал или, может, в Абхазию?
– Ладно-ладно, не преувеличивай мой героизм. Ничего особенного я там не делал – то же, что и все.
– Она правда не умрет? – помолчав, спросила Полина. – Что с ней все-таки, а, Юр? Объясни!
– Умереть не умрет, но я же не гинеколог, как я тебе объясню? – Он пожал плечами. – Могу только повторить то, что мне сказали: у нее угроза выкидыша. Говорит это тебе о чем-нибудь?
– А тебе? – тут же переспросила Полина.
– Вообще-то да, – тем же недовольным тоном, что и в палате, словно нехотя, сказал он. – У меня однажды такой случай был, как раз в Абхазии, в Ткварчели, когда мы там во время блокады работали. Сотрясение мозга и угроза выкидыша.
– И что?
– Что… Там у нас из медикаментов одна зеленка была, так что сравнение некорректное. И вообще, надо посмотреть динамику. Обещаю держать тебя в курсе дела, – улыбнулся он. – Расскажи хоть, как ты-то живешь? И почему ты, в самом деле, родителей со своим этим Игорем не познакомишь? Зачем их обижать?
– Никого я не обижаю, – пожала плечами Полина. – Это что, честь великая, с ним познакомиться? Зачем им это надо?
– Хотя бы затем, что он близкий тебе человек.
– Он – близкий? – усмехнулась она. – Кто тебе сказал?
– Но живешь же ты с ним почему-то, и…
– Брось ты, Юр, – перебила его Полина. – Живу я с ним не почему-то, а потому, что мне это во всех отношениях удобно. И потому что… Потому что мне его жалко, – неожиданно для себя добавила она.
Этого Полина вообще-то говорить не собиралась. Это и была та глубокая, чересчур сентиментальная составляющая ее отношения к Игорю, которой она стыдилась.
Но она так любила Юру, что с ним не стыдилась даже того, чего стыдилась наедине с собою.
– Понимаешь, – стала она объяснять, хотя Юра молча шел рядом и никаких объяснений не требовал, – жить с ним, спать с ним – это же такая малость, которой смешно для него жалеть. Конечно, он существо вообще-то странное, ему что я, что дерево под окном, что божья коровка, разницы мало. По первости-то меня это дико раздражало. И что он как-то… непосредственно, напрямую ничего не чувствует, и что для него вне его схемы жизнь вообще не существует – это еще больше раздражало. Это меня, положим, и сейчас раздражает. Я от него потому в первый раз и сбежала, но сейчас… Сейчас я стараюсь на это внимания не обращать. Ну, он такой, а не другой. Ему тридцать пять лет, а его даже мальчишкой не назовешь, просто человек без возраста. И что теперь? Зато с ним не напряжно. И молчит в основном, тоже, знаешь, большое дело, – улыбнулась она.
– А другие что, слишком болтливые? – спросил Юра.
– Ого! У меня, Юр, у самой язык без костей, ты же знаешь, но и мне последний примерно год как-то стало чересчур. Тут ко мне недавно один мальчонка клеился. Зовут, представь себе, Псой Пушкин – ударение на последнем слоге, смотри не перепутай. Роман в стихах написал, просил проиллюстрировать.
– И что ты? – Полина видела, что Юра еле сдерживает смех. – Проиллюстрировала? А про что роман-то?
– Роман про голубую Атлантиду, – объяснила она. – В которой живут братья Кол и Кал с мужем их Поносом.
Тут Юра наконец расхохотался.
– Да-а, мадемуазель Полин, – сказал он, вытирая глаза, на которых от смеха выступили слезы, – с тобой не соскучишься!
– Со мной, может, и не соскучишься, а вот я соскучилась. Этого же всего выше крыши, Юр! Мне уже казаться начало, что только это одно и есть… Вот, например, еще один товарищ, тот занимается процессом демумификации.
– В смысле?
– В смысле, мумии оживляет. Ездил с показательными выступлениями по Европе, в Голландии зацепился. Теперь у него своя передача на телеканале для наркоманов. А если кому все это не больно нравится, то можно начальство среднего звена портретировать, как Шилов. А у Игоря на Соколе петух по утрам поет, козы блеют… В общем, он наименьшее из зол, – заключила она. – И я уже мозаику делать начала в его сарае.
– Почему вдруг мозаику? – удивился Юра. – Ты же вроде акварелью последнее время увлекалась.
– Вот именно что увлекалась, – кивнула Полина. – Могла этим увлечься, могла тем, а могла и ничем. А мозаика… Знаешь, со мной никогда такого не было, – смущенно улыбнулась она. – Чтобы я только пальцами прикоснулась и сразу поняла: вот без этого жить не могу, а почему, и не объяснить.
– А я, по правде говоря, мозаику вообще как искусство не воспринимал, – сказал Юра. – Мне казалось, это что-то декоративное. Вроде клумбы.
– И ничего не декоративное! – горячо возразила Полина. – А в Ватикане? Но я вообще-то не про Ватикан думаю… Я когда за мозаику взялась, знаешь, как себя почувствовала? Как первобытный человек, когда наскальные рисунки делал. Мы их в школе проходили, это те, которые в Якутии на Ленских столбах нашли. Я еще тогда, помню, подумала: он, наверное, такой кайф ловил, что сознание терял от счастья, этот первобытный человек, когда всю свою жизнь рисовал – оленей, охоту, богов всяких… Вот и у меня так с мозаикой получилось. Непонятно я говорю, да, Юр?
От волнения Полина оскользнулась на мокрых листьях и чуть не упала.
– Ну что ты, все понятно. – Юра подхватил ее под руку. – По-моему, ты правильно живешь, мадемуазель Полин.
– Ты первый человек, от которого я это слышу! – засмеялась она. – А все, наоборот, говорят, что у меня черт-те что в голове.
– Ну, что у тебя в голове, я не знаю. – Он щелкнул зажигалкой, и тусклый огонек осветил его улыбку. – Но мне кажется, ты правильно отделяешь главное от неглавного.
– Ничего себе! – Полина даже приостановилась от удивления. – А я, представляешь, только сегодня про это думала, но к себе это как-то не относила…
– А к кому же ты это относила?
– К маме. К тебе, – пожала плечами Полина.
Теперь удивился Юра:
– Ко мне? Да у меня ведь все очень просто, Полин. Работа, еще работа, потом опять работа, потом немного отдых и снова работа. Что и от чего мне отделять?
– А Женя? – съехидничала Полина. – Она у тебя как, работа или отдых?
Юра засмеялся:
– Ты, как всегда, не в бровь, а в глаз! Женя… Говорить красивые слова?
– Ладно, можешь не говорить, – разрешила Полина. – Я и так знаю. А интересно было бы красавицей побыть! – хихикнула она. – Типа Жени. Чтоб такой мужчина, как ты, был в меня без памяти влюблен и готов был ради меня идти на край света.
– Полинка, с ума с тобой сойдешь! – Юра поперхнулся дымом и закашлялся. – На какой еще край света?
– А ты разве не готов? – Она постучала его кулаком по спине. – Помнишь, про мороз и солнце, день чудесный рассказывал?
– А! – вспомнил Юра. – Да просто к слову пришлось.
Беседа про «мороз и солнце, день чудесный» произошла в тот самый день, когда Ева сообщила сестре о своей беременности. После того нелегкого для нее разговора Ева долго не могла успокоиться. Но потом приехал за Ванечкой Юра, и, до того как Женя вернулась с вечернего эфира, они сидели втроем на кухне, пили чай и разговаривали о чем-то таком простом и неповторимом, что Полина любила больше всего и о чем могла разговаривать только с ними.
– Может быть, вы что-нибудь придумаете, – вдруг вспомнила тогда Ева. – Понимаете, у меня завтра первый урок по Пушкину в девятом классе, и надо объяснить, что такое поэтический образ.
– А ты ни разу не объясняла, что ли? – удивилась Полина. – Выучила бы наизусть, да и шпарила каждый год. И вообще, рыбка, не бери ты это в голову. Им в девятом классе сколько лет, пятнадцать? Где они, а где поэтический образ! Ну, скажи, что «мороз и солнце, день чудесный» – это поэтический, а «Федя, пошел на хрен» – это не поэтический.
– Нет, все-таки надо по-другому, – не обращая внимания на чертиков, скачущих в Полининых глазах, возразила Ева. – Надо так, чтобы они вот именно поняли, какое отношение имеет поэтический образ к их жизни. Как он накладывается на их жизнь и как ее меняет. Это трудно объяснить, и это раз и навсегда не выучишь.
– Да никак он ее не меняет, потому что… – начала было Полина, но заметила, что Юра усмехнулся, и спросила: – Не так, что ли, Юр?
– Может быть, и так, – пожал он плечами. – Я от поэзии, мягко говоря, далек, но поэтический образ… Можешь им привести, например, такой случай его наложения на реальность. Вот входит обычный человек в обычную свою комнату. Первое января, на работу ему не надо, проснулся он поздно, покурил на кухне и доел салат оливье. А женщина, которую он любит, спит еще. И январь такой хороший – не слякоть, как обычно, а мороз. Мороз и солнце, день чудесный. Конечно, он лет с пяти эти стихи помнит, нормальный же он человек. И когда он смотрит на эту женщину… Понимаете, он и так ее любит больше, чем… В общем, сильно он ее любит. Но когда он вспоминает, то есть даже не вспоминает, а как-то внутри себя чувствует вот эти строчки про мороз и солнце, то они… Черт, и правда ведь толком не объяснишь! – Юра улыбнулся и потер ладонью лоб. Полина с удивлением заметила, как взволновался ее брат от этого, для него, конечно, длинного монолога. – В общем, когда его чувство к ней соединяется с этими строчками, то это чувство приобретает совершенно другой масштаб. Очень большой масштаб. Хотя почему это так, все равно ведь непонятно, так что пример получается невразумительный, – смущенно заключил он.
– Юрка, ты прям как Писарев! – завопила Полина и даже в ладоши захлопала. – Или нет, Писарев, кажется, Пушкина, наоборот, не любил, потому что был дурак. Ну, в общем, ты лучше всех.
Привлеченный Полиниными аплодисментами, в кухню заглянул Ванечка, тут же раздался звонок в дверь – приехала Женя, и разговор о поэтических образах прервался. Впрочем, Полина считала, что он не прервался, а был вполне завершен.
Об этом разговоре она и напомнила сейчас брату, смутив его так, что это было заметно даже в темноте.
– Слушай, – быстро поменял он тему, – а где тот парень, которому ты гарсоньерку продала?
– А фиг его знает, – пожала плечами Полина. – Я его и видела-то три раза в жизни, в общей сложности полчаса. Документы все он оформил, ключи от чертановской конуры мне вручил, чего от него еще? Я бы и как его зовут не запомнила, если бы не кот, – добавила она и пояснила: – Они с котом тезки, потому что рыжие оба. Его, значит, тоже Егором зовут. Георгием.
– Так это его, что ли, кот? – удивился Юра. – А почему у нас живет?
– Потому что девать было некуда. Он куда-то уезжал, вот и оставил. Сказал, через месяц вернется и заберет.
– Однако уже полгода прошло, – сказал Юра.
– А зачем он тебе? – удивилась Полина. – Или тебе кот мешает?
– Кот мне, конечно, не мешает, но Женя обмен затеяла, – объяснил он. – Свою квартиру и ту, чертановскую, хочет на трехкомнатную обменять. И уже даже, оказывается, вариант подходящий нашла. Прямо на Аэропорте, представляешь? В соседнем доме. Можно бы Ваньку в садик отдать, который у родителей во дворе, мама бы забирала иногда, а то у нас с Женей, видишь, какая жизнь, вечно вечера заняты.
– Ну и меняйся, – сказала Полина. – Чертановская квартира же твоя, какое тебе дело до прежних владельцев?
– Но вещи-то свои он оттуда не забрал, – напомнил Юра. – Куда я их дену, если обменяюсь?
– На помойку вынесешь, – хмыкнула Полина. – Видал ты эти вещи? Матрас на полу, как в «Двенадцати стульях», и шкаф без дверцы. Коробок, правда, много, но и в них, похоже, не золотые слитки.
– Ладно, объявится же он когда-нибудь, – сказал Юра.
Они шли по пустынному парку так медленно, что только теперь дошли до старинной плотины. Яуза темнела под невысоким берегом, шумела в плотине вода, но, несмотря на этот шум, было слышно, как листья отрываются от веток и падают на другие, уже опавшие, листья.
– Плотина эта как-то красиво называется, – сказал Юра. – Что-то с Венерой связанное, только я забыл, что именно. А здесь папа маме предложение сделал, знаешь? Он же в Бауманском учился, это рядом совсем. Он ее пригласил на институтский вечер, потом они в парке гуляли. В общем, все как в кино.
– Ух ты! – восхитилась Полина. – Надо же, как мило. Историческая местность, оказывается. И что?
– И ничего, – улыбнулся Юра. – Она ему отказала.
– Как это? – не поняла Полина. – Почему отказала?
– Потому что не любила.
– Ни фига себе… – Полина почувствовала, что от изумления у нее открывается рот. – Нет, Юр, ты расскажи, расскажи! Что значит – не любила? Потом-то согласилась, как жизнь свидетельствует.
– Потом согласилась, – кивнул он. – Потому что пожалела его. Он ведь под машину попал, ногу отняли, а протезы тогда были – только до собеса доковылять, а он на инженера-ракетчика учился, на Байконуре мечтал работать… В общем, аховая была ситуация. Она и пожалела. Еву в Чернигове с родителями оставила и к нему приехала. Говорит, почувствовала, что надо сделать так, а не иначе. Ну, это же мама, – улыбнулся он. – Она же все насквозь чувствует. И как она сделает, так, значит, и надо.
– Что-то ты путаешь, – потрясенно протянула Полина. – По-моему, она его очень даже любит…
– Конечно, любит. С папой жить и не полюбить – это труднопредставимо. Да отомри ты, мадемуазель Полин! – засмеялся он. – Что тут такого особенного?
– Да все особенное! По-твоему, можно из жалости полюбить?
– Полюбить из чего хочешь можно, – пожал плечами Юра. – И кого хочешь.
– Да знаю я, – махнула рукой Полина. – Любовь зла, полюбишь и козла. Тем более они-то шире всего и представлены. Да-а, Юр, все вы, выходит, одного поля ягодки! Кроме меня, конечно. Даже у мамы с папой романтическая какая-то история, оказывается. Чего уж на Еву удивляться, ей-то сам Бог велел.
– Еву надо срочно на Маросейку перевозить. – Юра нахмурился. – В институт, где она наблюдается. Здесь специалистов нет, а у нее не тот случай и не тот возраст, чтобы рисковать.
– По-моему, она уже рискнула, – невесело усмехнулась Полина. – Она, конечно, героическая женщина, кто спорит, но я как представлю, какой их конец света ждет, когда она родит… Бр-р!
– Пусть еще родит сначала, – напомнил Юра и суеверно постучал по Полининой голове. – Конец света! Разве это конец света? Совсем наоборот.
– Ну, ей-то я не говорю, конечно, но все-таки… Темка-то и правда не банкир без материальных проблем, и лет ему не тридцать и даже не двадцать пять, – сказала Полина.
– Ты когда что-нибудь рассудительное пытаешься говорить, то на тебя без смеха смотреть невозможно. – Юра и в самом деле улыбнулся. – Артем все понимает как надо, я это, между прочим, еще полгода назад заметил, – помолчав, сказал он. – Когда на него братки ни за что наехали и он меня просил, чтобы я Еву уговорил его бросить. И вообще, по-моему, когда кажется, что все не по-людски, то на самом деле, значит, все правильно.
– Ну да, левой ногой правое ухо чесать как-то лучше всего получается, я давно заметила, – кивнула Полина. – Такая у нас, видимо, страна, что для нас только так и естественно.
– Да ты, я смотрю, политически подкованная девушка! – снова улыбнулся Юра. – Лекции про текущий момент не посещаешь?
– Ты в Чечне целый курс прослушал, не иначе, – хмыкнула она. – С практическими занятиями.
– Все, Полинка, пойдем к метро. – Юра отбросил окурок. – Запас свободного времени исчерпан.
– Знаешь, я все-таки в больницу вернусь, – сказала она. – Уговорю Темку поспать сбегать, они же тут рядом живут.
– Ладно, – кивнул Юра. – Только я тогда тебя обратно провожу, а то тьма здесь кромешная, в исторической этой местности.
Конечно, она тревожилась за Еву, и, конечно, Артему надо было отдохнуть, но все-таки Полина даже себе не хотела признаваться в том главном, что удерживало ее здесь… При мысли о том, что сейчас зачем-то надо будет долго ехать в метро, входить в темный дом на Соколе, видеть Игоря, – при мысли об этом ей становилось так тошно, как будто она должна была не совершить все эти привычные действия, а вывернуться наизнанку или превратиться во что-нибудь бессмысленное – в рыбу, что ли.
Глава 8
Самым неприятным в промозглом сарае оказался не холод, а отсутствие нормального света. Потолок был низким, лампочка под потолком – тусклой, и поэтому такой же тусклой казалась даже золотая смальта, не говоря уже об осколках гранита и зеленого мрамора.
Зато, отбивая молотком эти осколки от крупных глыб, Полина согревалась. Правда, плечи гудели вечером так, словно она весь день разгружала вагоны, но к этому она уже привыкла. Смешно было думать о каких-то плечах, вообще о чем-то внешнем, когда прямо на ее глазах – да что там на глазах, под ее руками! – медленно и как-то очень серьезно возникало то, что она даже в своем воображении не могла представить досконально, а видела лишь в общих чертах, как неясный и манящий образ.
«Вот это будет тот день, когда я на лугу рисовала, – говорила она себе, собирая вместе зеленоватые осколки мрамора и терракотовые – от старого глиняного кувшина, который нашла здесь же, в сарае. – Чингисханчики, мышиные кармашки… А вот теперь – Игорь».
Игорь получался в виде длинной, гибкой, разными цветами переливающейся линии. Линия обвивала изображение Зеленой Тары, которую Полине пришлось повторить самостоятельно из мраморной крошки, потому что саму танку ей заполучить не удалось, – и эта линия была в точности Игорь: такая же гладкая, приятная на ощупь, сразу холодная, но быстро согревающаяся под ладонью. Как это получалось, почему именно так, Полина и сама не понимала, но восторг не проходил – ни от долгого крошения камней, ни от возни с кусачками, и она чувствовала, что все делает правильно. Вспыхивали, как свечные огни на соснах, кусочки золотой смальты, и вся мозаика была живым, чистым, ничем не замутненным воспоминанием.
Если не считать английских и итальянских книжек, Полина училась этой работе интуитивно. Но ей всегда было не занимать интуиции, поэтому учеба шла довольно легко. Вернее, пошла легко, как только она почувствовала, каким именно способом в мозаике делается то, что в рисунке делает рука художника, – вот это мгновенное, прямое, изнутри идущее движение, в результате которого и получается рисунок. В мозаике такое движение было невозможно. Вернее, оно было совсем другое, медленное, оно требовало долгой сосредоточенности, к которой Полина вообще-то не привыкла, но привыкала сейчас.
Одним словом, ей было о чем размышлять в холодном сарае, куда она по-прежнему, несмотря на ранние морозы, уходила каждый день ни свет ни заря.
За всеми этими делами, мыслями, чувствами Полине было совершенно не до того, чтобы думать о посторонних вещах. Но думать приходилось – точнее, не о многих вещах, а об одной-единственной посторонней вещи, которая в последнюю неделю тревожила ее и пугала.
Полина всегда была беспечна в том, что называлось скучными словами «женские дела». Она представить не могла, как можно вести какой-то календарь критических дней, высчитывать, когда секс опасен и когда якобы неопасен, что ни месяц нервничать… С Игорем она не церемонилась – никаких пошлостей про цветочки в противогазах во внимание не принимала. Впрочем, он, скорее всего, и не знал всех этих пошлостей, потому что не интересовался разговорами, которые ведутся в мужских компаниях. Правда, не интересовался он и способами предохранения как таковыми, поэтому походы в аптеку были Полининым личным делом. Но, в конце концов, делом не таким уж и утомительным. А если она по безалаберности своей забывала вовремя запастись презервативами, как в тот раз, когда ему вдруг приспичило «вернуться к себе прежнему» прямо на тибетском ковре, то просто глотала таблетку, после которой, правда, чувствовала себя отвратительно из-за тошноты, зато всегда спокойно.
Но таблетку она проглотила больше двух месяцев назад, а тошнота все не проходила, даже, наоборот, усиливалась, и уже глупо было, как страус, прятать голову в песок и уговаривать себя, что просто изменилась погода, что у нее и раньше так бывало… Раньше так не бывало, это было понятно даже без календаря.
Еву уже перевели в Институт акушерства у Покровских Ворот, и Полина обычно забегала к ней ненадолго: и так хватало посетителей – то мама, то папа, то Артем. Но в один из своих приходов к сестре она решила задержаться, чтобы поговорить с молодой врачихой, которая вызвала у нее наибольшее доверие.
Результат этого разговора, точнее, не столько разговора, сколько осмотра, оказался предсказуем, но от этого не стал приятнее.
– Запустила ты, – сказала врач. С виду она казалась почти Полининой ровесницей. – Десять недель уже, и чем ты думала, этим самым местом? Рожать ведь не собираешься?
– Еще не хватало, – пробормотала Полина, передергиваясь при взгляде на кресло, с которого она только что слезла. Но уверенность, звучащая в голосе врача, показалась ей почему-то обидной, и она спросила: – А как ты догадалась, что не собираюсь?
– Такие не рожают, – засмеялась та. – Сразу же видно, что не замужем. И лет тебе еще не сорок, зачем тебе ребенок без мужа! Правильно же?
– Правильно, – вздохнула Полина.
Все было правильно, ничего во всем этом не было особенного. И так ей, можно сказать, везло: год, ну, пусть с перерывом, жить с мужчиной и ни разу не залететь… И никаких детей она, конечно, иметь не собиралась, поэтому надо было прямо сейчас выяснить, где можно избавиться от этой неприятности, и поторопиться, потому что срок был критический. Почему настроение у нее при этом такое, что хоть об стенку головой, тоже было понятно. Кто бы на ее месте радовался?
Она записала адрес больницы, где «все сделают в лучшем виде и за божеские деньги», отдала врачихе специально принесенную бутылку испанского вина и вышла из кабинета.
Когда она вернулась на Сокол, Игорь был дома. Да он и целыми днями был дома: после завершения денежной работы процесс медитации обычно растягивался надолго. Полине было непонятно, как может взрослый человек средь бела дня вслух читать мантры, словно детсадовец на елке, и без смеха выговаривать «сахасрара» или «Гампопа». Но, в конце концов, на это можно было обращать не больше внимания, чем на включенное радио.
К ее удивлению, Игорь услышал, как хлопнула входная дверь. Когда Полина вошла в просторную прихожую, он появился на лестнице, ведущей на второй этаж.
– Ты куда ходила? – спросил он, глядя сверху, как она обметает веником от снега ярко-красные, с вышивкой валенки.
Точно такая же, валяная, но не красная, а зеленая была у нее и шапочка. Валенки и шапочку Полина купила в прошлом году в Измайлове, где торговала картинами ее строгановская подружка Катя. Папа еще сказал тогда, что в этом наряде она похожа на землянику под листочком.
– Или на малину, – добавил он, и Полина вспомнила, как папа когда-то пел ей песенку: «Солнышко на дворе, а в саду тропинка… Сладкая ты моя, ягодка Полинка!» – а слух у него был такой, что мама смеялась и умоляла не подвергать ребенка стрессу.
– Сестру навещала, – буркнула она. – Как это ты заметил мое отсутствие? Есть захотел?
Игорь раздражал ее сейчас просто до невозможности! Даже его босые, с белыми ступнями ноги раздражали, даже то, как он шлепал ими по деревянным ступенькам лестницы.
– Нет, не есть. – Он покачал головой и спустился вниз. – Почувствовал себя одиноко.
– Значит, трахаться, – усмехнулась она.
– В общем, да, – кивнул он. – А что тебя так возмущает? Я еще понимаю, если бы ты придерживалась какого-то обряда, который это запрещал бы…
«Ну, и что ему скажешь? – вздохнув, подумала Полина. – Обряд у человека, в мантрах перерыв наметился, хочет справить физиологическую нужду. Справит – танку нарисует».
До сих пор ее это вполне устраивало, и она понимала, что глупо сердиться на то, к чему он привык.