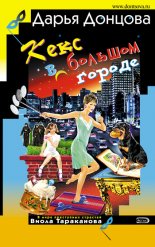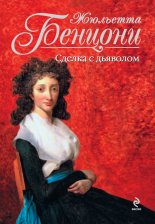Великий Сатанг Вершинин Лев
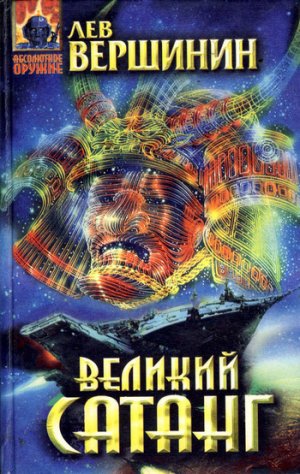
Так мог ли я, учитывая все это, отказать в пустяковой просьбе бывшему главврачу авиньонской психушки?
И бродя по сияющим коридорам, рассматривая оборудование, беседуя с персоналом, я никак не предполагал, что наутро мне предстоит выщипывать сединки…
Все произошло удивительно быстро. Потом мне сказали, что не прошло и двух минут, но мне они показались часами. Коридор опустел мгновенно; исчезли сестрички, лаборанты и даже мой дружок-главврач, миг назад крутившийся рядом со своими пояснениями. Я стоял посреди белизны один-одинешенек, а навстречу огромными, грациозно-оленьими прыжками мчался молодой изумительно красивый негр в развевающемся, чудом удерживающемся на широких иссиня-черных плечах белом халате, и в уши мои ворвался внезапно дикий, истошный и при всем том не лишенный некоей членораздельности вой: «Яввооаа! Яввоа! Яжжеввоооажжо! Яввоа-а-а!»; негр мчался медленно-медленно, словно в кошмаре, и за ним поспешали санитары, но не очень торопились догнать, потому что в правой руке бегущего впереди был здоровенный, криво, словно сабля, изогнутый осколок стекла, выписывающий в светящемся воздухе замысловатые восьмерки; и кровь, красная на черном, текла, и хлестала, и капала на пол, но негр, похоже, не замечал этого…
— Явво-о-оааааа!
Ослепительно ласковые, печальные глаза заглянули мне прямо в душу, близко-близко.
— Я — Вождь А!
И острый-преострый кончик стеклянной сабли замер у моего подбородка, чуть-чуть касаясь кожи.
— Скажи, брат, ведь я — Железный Вождь А Ладжок?
— Да! — уверенно ответил я, и голос мой ничуть не дрожал. — Ты — Железный Вождь А!
— Но ты ведь не лжешь мне, брат? — нежно спросил негр, и глаза его наполнились слезами. — Ты ведь знаешь, что я — Железный Вождь А Ладжок?..
— Воистину так, о Вождь! — звонко выкрикнул я, щелкая отсутствующими на больничных тапочках каблуками. И стеклянное лезвие слегка дрогнуло.
— Зачем же они лгут мне, брат?..
— Они заблуждаются, о Вождь! Прости им заблуждения их, ибо не ведают, что творят, — посмел посоветовать я.
Негр нахмурился. Затем пальцы его разжались, осколок упал на пол и разбился вдребезги, а санитары кинулись вперед. Не сопротивляясь, он горделиво позволил связать себя и увести, но до той секунды, пока не исчез за поворотом коридора, все оборачивался ко мне и посылал царственные, милостиво всепрощающие кивки…
А я, держа руки по швам, выкрикивал здравицы. И только минут двадцать спустя меня наконец сумели привести в чувство.
Главврач, трясясь и бледнея, суетился вокруг, бормоча что-то о дурацких накладках, о наплыве буйных, о вспышке мании величия, почему-то вдруг о Дархае, об идеях квэхва, и снова о накладках и о том, что век будет обязан; все это доползало до меня расплывчато, словно через войлочную стенку, но я поднялся и, машинально кивая и поддакивая, выпил с ним по стакану чего-то, вроде бы спирта, не знаю, и пообещал, что, конечно, никогда и никому… а потом вышел на улицу и долго стоял, прижавшись лбом к шершавому дереву, и дышал, дышал, дышал…
Выпитое комком висело в желудке, очень хотелось блевать, но никак не получалось.
Нет, ребята, мне далеко до Алека, и еще дальше — до покойника Рамоса, они храбрые парни по жизни, а я нет, я, честно говоря, балаболка и порядочный трус. И не в моих правилах лезть на рожон, если только не ради репортажа. Но почему-то в меня стреляли не шесть раз, как в Холмса, а целых восемь, хотя Алек об этом, конечно, не знает. И никто не знает. Не знают, что я, болтунишка и паникер, высаживался на Карфаго с ударными отрядами наших «астрофизиков», что мне в заброшенной штольне набрасывали на шею удавку бравые ребятишки любезнейшего дона Аттилио, что я захлебывался ядовитой грязюкой в предгорьях Вигдкунь-Янг’манга, когда собирал материалы о действиях повстанцев генерала Татао. И не знают, разумеется, что свой знаменитый сюжет о Дархае я лично понимаете? — лично снимал под Коранг-Гхотхалом, у того овражка, через который рвались правительственные части, пытаясь предотвратить соединение оранжевых отрядов «дедушки Тана» с ченгами лесных джугаистов.
Потом меня поразили егээсовские танкетки, накрытые тем знаменитым залпом. Их пушки напоминали подплавленные штопоры, скрученные морским узлом. Каратели те, кто сумел каким-то чудом уцелеть, — бежали, прикрепив к огрызкам деревьев записки: «Мы отступаем, потому что нгенги прислали вам оружие массового уничтожения. Но мы вернемся!»
Они не вернулись.
Обо всем этом я давно уже не заикаюсь в компаниях. Какой смысл? Алек, например, хоть и молчит всегда, вызывает уважительный интерес. Со мною наоборот: даже если верят, слушают вполуха. И даже обидно, что все эти нервы, и пять ранений, и — что уж скрывать! — мокрые от ужаса штаны, были не более чем рутинной работой, этаким пьедесталом для нескольких всеми уже забытых тысяч слов и двух-трех километров пленки…
Впрочем, если бы не все это, разве мне бы доверили «делать мнения»?..
В последний раз, крайне внимательно, я изучил укладку.
Нег, слава Богу, седина искоренена. Можно и за работу. Которая, кстати, уже почти завершена, как и обещано заказчику. Работенка — первый сорт! Загляденье! Не грех и самому полюбоваться…
Врубив «ноутбук», я перечитал — одну за одной — все три статьи и черновик четвертой.
Нет, в самом деле, пальчики оближешь! Особенно заголовки, впрочем, они мне всегда удавались. «Война или мир? — вот в чем вопрос!» — чем плохо? Не без кокетства, конечно, но сойдет; «Оружие и мечта — две вещи несовместные» — уже лучше; «Гонка вооружений: идеалы или интересы?» — суховато, зато по существу. И я уже знал, что последняя, подводящая резюме циклу статья будет названа просто и без особых претензий — «Прощай, оружие!».
Обесточил комп. Упаковал дискеты. С наслаждением потянулся, покидал шмотье в чемодан, благо езжу всегда налегке — и тринадцать часов спустя, наглотавшись люминала и проспав всю дорогу, спускался по трапу в Хрущовой-Никитовке. Вообще-то я предпочитаю рейсы, приземляющиеся на мысе Кеннеди, но сегодня мыс был переполнен — Земля принимала дархайских туристов. С полчаса я подергивался, натыкаясь взглядом на значки с портретом их вождика (поневоле вспоминался кафельный коридор, красное на черном и рвущее душу протяжное «Яввоаа!»), но достаточно быстро глаз привык. Тем паче что до отпуска оставалось только побегать по Лондону, что я и начал делать с тринадцати сорока по Галактическому…
Не нарушая традицию, по редакциям я пошел в алфавитном порядке: «Абракадабра», «Авоська», «Агинская правда»… и так до самого закутка с «Яхвистським прапором». Много времени эта процедура все равно никогда не занимала, что лишний раз подтверждает разумность идеи сконцентрировать редакции всех изданий Галактики не только на одной планете, но и в одном городе. Кстати, когда небезызвестного Уго фон дер Вельтзена спросили, зачем он настоял на переносе всей прессы в Лондон, он, тогда еще весьма влиятельный член Совета Земли, вполне жизнерадостный и ни капельки не парализованный бодрячок, подхихикивая, ответил: «О! Чтобы была возможность хоть как-то затыкать им глотку!» Н-да. Бедный Уго круто переоценил свои силы: в борьбе со свободой слова он заработал инсульт, а слово так и осталось свободным. По мере возможности, разумеется…
Кстати же, кроме моей мамы и Берты Исааковны, мало кто помнит теперь, что именно юный стажер ОМГА Сан-Каро был тем, кто указал господину фон дер Вельтзену на достойное его место, в смысле — на больничную койку. Всего лишь три простеньких вопроса, но таких, после которых в стажерах не засиживаются…
За пару минут до шести с Лондоном было покончено. Я промчался по переходам и галереям Пресс-Центра, являя собою маленький, буйный, но ужасно демократичный тайфунчик. Едва завидев меня, главные подпрыгивали в креслах, и уши у них делались, как у спаниеля. Еще бы: явился Король! И дискетки мои рвали с руками, даже не заикаясь об эксклюзиве, тем паче что каждому было намекнуто, что итоговая статья достанется именно ему, только ему и никому иному, кроме него.
А вот отмечать начало законного отпуска в баре не пожелалось. Там неплохо, нет слов, но, с другой стороны, вполне возможны маложелательные встречи с Жаклин, Фросей, Терезой, Офрой, Гюльджамал или, чего доброго, с Сян Таоминь, или, паче того, с Индирой… хотя нет, Индюшечка, я слышал, уже опять замужем, так что отсюда, слава Богу, опасности нет, зато у стойки вечно сшиваются Наоми, Рэйчел, придурочная Людмила — да кто ж их всех упомнит? Вот так вот нарвешься и море визга с выяснениями отношений. На фига мне, пардон, все это? Существует, в конце концов, презумпция невиновности, и лично мне вполне хватает печального опыта моего дружбана Алека с его идиоткой первой супругой, паскудой второй и его же трехлетними стенаниями по Катьке Мак-Келли. Плавали, знаем… а на собственных ошибках учатся только клинические кретины.
И я отбыл отдыхать полноценно. Естественно, в Одессу.
В самолете был сплошной Дархай. Дархайцы слева, дархайцы справа, спереди и сзади — тоже дархайцы. А дархаец-попутчик — это трагедия, особенно для журналиста. Мало того, что свихнувшийся негр никак не выскакивал из памяти, так еще и в соседнем кресле оказался квэхвист-агитатор. Естественно, в пятнистом комбинезоне. И конечно же, по должности говорливый…
Видите ли, ребятки, я в принципе ничего не имею против дархайцев. Я в свое время съел с ними пуд соли, и там, в горах, у меня осталось немало добрых приятелей, а генерал Тан Татао, на мой взгляд, вообще личность уникальная. Но что касается идей квэхва — увольте! Я ведь тоже не вчерашний и читывал «Оранжевую Истину», и с листовками лесных джугаистов из Фронта имени Нола Сарджо доводилось иметь дело — все эти документы тоже не отличаются особым креном в сторону гуманизма; но когда за свод законов и последнее откровение выдают перевранную таблицу умножения плюс тупые высказывания молодого садиста о, это уже интересно только для психиатра…
И поскольку я не врач, то пришлось предложить соседу сделать глоток из моей дорожной фляжки. Он, понятное дело, отказался. Я, естественно, приподнял бровь и предложил тост за Вождя А. Затем — за великую миссию Армии Единства. Затем — за ниспровержение лжеидей квэхва-юх. И, разумеется, за всеконечную погибель изверга и нгенга Тан Татао. После чего завинтил крышку, упрятал флягу обратно в чемодан, умостил соседушку поудобнее, так, чтобы головка не сильно свисала, — и облегченно вздохнул.
Был у меня когда-то такой вот активно разговорчивый знакомец, человек не злой, но очень глупый. Работал он в Космофлоте, гонял «грузовики» на периферии. Мне тогда как раз заказали серию очерков о героях безвоздушных трасс, ну, я к нему и подрядился матросом на рейс. Шли мы обратно порожняком, и какой-то курчавый хмырь в черной тройке уболтал нашу дубинушку самую чуточку свернуть с курса… Впрочем, в книжке я про все это написал интереснее, но, конечно, только половину правды. Половину остального я сообщил исключительно в «Мегапол». А еще кое-что не сообщил никому и не получил четвертого «Золотого Пера», зато могу теперь гулять по Одессе целым. Так что Алек Холмс по сей день считает меня таким же долбанугым, как он сам, а дон Аттилио убежден, что я вполне порядочный молодой человек, которого тогда правильно сделали, что не удавили. И я, говоря по правде, согласен с обоими…
А что до «Золотого Пера», так пусть его, шелуха это все.
Совсем другое дело, когда в один прекрасный день тебя вежливо приглашают, куда следует, и доверяют «сделать мнение». Когда выдают сверхсекретные материалы и просят — понимаете, вежливо, за чашкой чая! — разъяснить людям, что и как. И почему именно так и никак иначе. И как хреново будет им всем, ежели не так.
Вот тогда-то ты и можешь сказать: да, я состоялся как журналист. А уж сколько пришлось пахать, и мотаться, и гадить в штаны под пулями — вот это уж твои, и только твои проблемы…
Когда дархайцы уносили моего соседа из салона, он как бы пробудился и успел-таки всучить мне значок с профилем своего любимого и родного вождика. Я принял эту бяку с благодарностью и честнейшим образом нес в руке — до первой урны.
А в «Ореанде» было хорошо, как всегда. И номер мой был готов, и занавески подобраны именно такие, какие я люблю, и Эмма меня не забыла за год, в чем я убедился этим же вечером. Так что радовать красавицу у моря своим присутствием я выбрался уже не то чтобы утром, а где-то так за полдень. Прошелся пешком до Ланжерона. Выкупал себя, отчего и поимел немалое удовольствие. Купил квэхвистскую газетенку и с еще большим, просто неописуемым наслаждением воспользовался ею по прямому назначению в пляжном сортире. Совершил, так сказать, акт возмездия. После чего явственно осознал, что настало время заняться наконец чем-нибудь возвышенным.
Пошарив взором по окрестным пескам, густо усеянным загорелым мясом, я обнаружил вполне подходящий объект. Пощекотал, надеясь, что возвышенное поймет правильно и хихикнет. Ошибся. Возвышенное поняло как раз наоборот, дрыгнуло ножкой, и я едва не лишился пары зубов. Затем девица помогла мне подняться, отряхнула… и тут я ее узнал. Память-то у меня профессиональная! Конечно, лето девяносто восьмого, Уолфиш-Бей и эта краля впритирку с пареньком-гитаристом…
«Стоп-стоп, это сколько же ей сейчас?» — испугался я, но заднего хода решил не давать, исходя сугубо из внешних характеристик. Из экстерьера, можно сказать, ну никак больше двадцати пяти на вид не дашь, а что касается фигурки, так во-още что-то с чем-то…
Ладненько. Я сконцентрировался и пошел в атаку. Спустя пять минут меня соизволили вспомнить. С трудом, правда, но не без удовольствия.
— Лемурка, — спросил я не без грациозной фамильярности, — а что слышно об Андрюше?
И нарвался на ледяную паузу.
— Андрея нет, Яан, — сообщила она, помолчав. — И очень прошу: называй меня Эльмирой…
Я умный. Поэтому решил данную тему замять. И перешел к общему трепу. Трепалось легко. Она, оказывается, дважды сходила замуж, оба раза не очень удачно; впрочем, в подробности личной жизни мы по молчаливой договоренности углубляться не стали. Зато, как выяснилось, ей попадались мои репортажи, и стиль Яана Сан-Каро был одобрен. Что ж! И среди женщин подчас попадаются особи, не лишенные тонкого вкуса.
Короче говоря, грех было не продолжить беседу за ленчем. А потом, понятное дело, за ужином. Эльмира вполне заслуживала того, чтобы посвятить ей половину отпуска. Или даже весь. Решив так, я поиграл оперением, распушил хвост и самую малость приоткрыл копилку. Уж на что, а на язык я никогда не жаловался, да и врать мне в общем-то надобности не было.
Итак, общий джентльменский набор.
Сперва — о неравном поединке с боевиками некоего «крестного батьки», ясное дело, без каких-либо имен.
Реакция: недоумение, переходящее в легкий интерес.
Далее, вкратце — о переходе через Вигдкунь-Янг’манг с этаким ненавязчивым самокритичным юморком.
Интерес усугубился.
И наконец, уже после ужина, на веранде: гвоздь программы — а знаешь ли, дорогая, я ведь лично знаком с Ози Гутелли! И довольно близко…
Взрыв недоверия. Презрение к треплу. Правильно, так и надо, милая, так и нужно, радость моя. Ругайся, ругайся… а теперь посмотри-ка на карточку, а?
Все. Готово. Приехали. Поцелуй, распахнутые глаза и шквал вопросов. Методика отработана досконально, и не помню случая, когда дала бы сбой.
Короче, я дал ей исчерпывающую информацию, перемежая факты заслуженными поцелуями. Мы с Ози ведь и вправду знакомы, вот только репортажа на эту тему у меня так и не получилось. О чем было писать? О том, как, ни слова не вымолвив, бухая в тюльку, корова взгромоздилась на меня и принялась ерзать, пыхтя и подвывая? Или о том, как в пять утра заявился восстанавливать семью ее девятый муж — или восьмой? — ну, в общем, тот, который абсолютный чемпион по боевому къям-до? Отдам должное Ози: она закрыла меня своим телом в полном смысле слова, и пока они восстанавливали семью прямо на коврике в прихожей, я летел без парашюта с четвертого этажа, а с балкона вслед мне свистел Озин импресарио старая лысая скотина, судя по всему, как раз и вызвавшая того бугая…
Так что ни слова о личном знакомстве с мадемуазель Гутелли моим золотым пером не написано. Но сняться-то на память мы успели! И грех не пользоваться этой универсальной отмычкой, отпирающей в отпуске дверцы любого, самого неприступного сейфа.
Гуляя по закоулкам парка, мы с Эльмирой успели достичь многого. Даже очень. Но не всего. Поэтому заключительную байку о Черном Муаммаре и его последнем караване я завершал уже в номере. Здесь, где волны кондишна разгоняли духоту, накал страстей Черного Муаммара мгновенно потускнел на фоне прочего, и только к трем часам ночи мы смогли наконец более или менее спокойно обсудить, стоит ли все-таки выключать свет, и если да, то кому это следует сделать. Вставать обоим было лень…
Утром меня посетило ощущение, что мною попользовались. Дама, несомненно, была довольна, я, в сущности, тоже, но практически ничего, кроме шевеления и шепота, не помнилось, а это скверно. Мне следует контролировать себя, особенно сейчас, когда мнение только начинает делаться. Ну-ка, не стрепанул ли я, часом, чего о Договоре? Не приведи Аллах! Контрольная Служба таких ляпов не прощает, можно, часом, и не проснуться однажды; за доверие приходится платить, хотя бы другим в науку…
Нет, вроде ничего такого не было. Да и при чем тут, собственно, пляжная девочка Лемурка?..
И все же нечто не давало покоя. Ощущалось этакое, скажем, томление духа. Стоило бы, конечно, довериться интуиции и повспоминать получше. Но — не вышло. Нежная ладошка прошлась по моей беззащитной груди, по животу, ласково потеребила ниже… и стало понятно, что между нами далеко не все еще прояснено и необходимо немедленно уточнить позиции.
Уточнили. Стороны пришли к обоюдному удовлетворению.
Примерно через час я заказал кофе в постель.
А потом, поплескавшись в бассейне и наскоро устроив повторение пройденного, мы с Лемуркой выбрались наконец в мир.
И тотчас же, прямо на лифтовой площадке, меня хлопнули по плечу.
— Стоять!
Я оглянулся. Никого.
Новый тычок. Теперь — спереди, под микитки.
— Стоять, я сказал!
Ненавижу эти дешевые штучки. Я крутился на месте, а Лемура и пара случайных попутчиков уже начали недоуменно переглядываться.
— Ладно, Алек, хватит! — взмолился я. И получил пощаду. Стервец Холмс возник из ниоткуда, и мы обнялись. Лемуру Алек, похоже, не узнал, а напоминать об Уолфиш-Бее надобности не было.
— Ну что, в бар? — поинтересовался я.
Лемура пожала плечами, Она явно не выспалась и выглядела сейчас если и не на свои годы, то на хороший тридцатник.
Алек лучезарно улыбнулся.
— Прошу прощения у прекрасной дамы, но я попросил бы позволить мне отнять у нее кавалера на несколько минут…
И киска, оттрахавшая меня минувшей ночью не хуже, чем рота ландскнехтов беззащитную девственницу, проследовала в подвальный ресторанчик, залившись краской и не возразив ни словечком.
Вот единственное, за что я всегда завидовал Алеку: меня бабы никогда не стеснялись поиметь, но никак не желали слушаться беспрекословно. С Алеком же и то, и другое. Хотя, говоря откровенно, на каждую хитрую задницу рано или поздно найдется болт с левой резьбой; великий разбиватель сердец Аллан Холмс тоже споткнулся на смазливой рожице малолетки Катьки Мак-Келли.
— Пошли, — коротко сказал Аллан, крепенько подхватил меня под локоть и повел в крохотный барчик на этаже. Я шел покорно, смирившись с тем, что пообщаться не выйдет, поскольку Алек, выходит, опять на работе, и всей-то свиданки будет минут на десять делового разговора. Жаль. Я очень соскучился по нему…
— Коньяк. «Камю». Две по сто, — приказал Холмс бармену неподражаемо полицейским тоном. — Закуски не надо…
Сели в уголке. Вздрогнули. Повторили. Теперь только я сообразил, что супермен наш выглядит плоховато: во всяком случае, таким потерянным я его не видел, пожалуй, со дня похорон Рамоса. Я тогда знал то же, что и он; собственно, от меня он и узнал суть дела. Но я рассказал ему, и никому больше. Наверное, именно тогда, шесть лет назад, мы и перестали быть друг для друга просто добрыми приятелями.
— Слушай, Янька, — он, как всегда, взял быка за рога, — что тебе известно о Клубах Гимнастов-Антикваров?..
— Ничего! — коротко ответил я.
— Ясно. А о квэхвистах?
Тааак. Дархайские квэхвисты тут явно ни при чем. Что же касается земных… я ухмыльнулся и поведал Алеку все как есть, в том числе и относительно нефа в психушке.
Против ожидания, он не ухмыльнулся в ответ и не стал острить.
Выслушал. Кивнул. И сказал:
— Понимаю. Еще что-то?
«Ого!» — подумал я. Ежели Холмс говорит таким тоном, да еще и со мной, значит, дело действительно серьезное. Ладненько…
— Слушай, Алек, — я доверительно понизил голос, — не надо выпендриваться, говори, что нужно…
Холмс прищурился.
— Лады. Есть, понимаешь ли, психи. Хорошо владеют оружием. Кидаются на людей. И все — квэхвисты. Смекаешь?
Я посмекал.
— Каким оружием?
— Всяким. Мечи, алебарды, луки, бумеранги…
Вот эти-то «бумеранги» меня и добили. Я перегнулся через столик.
— Тебя это сильно беспокоит, Алек?
— Представь себе.
— Так вот… — Если Холмса что-то беспокоит всерьез, я открываю копилку нараспашку. Дальше Аллана не уйдет, а к тому же через недельку-другую мнение будет сделано, Договор подписан и Контрольная Служба не будет иметь ко мне претензий. — Слушай сюда, парень! При чем тут бумеранги? Не пройдет и месяца, как от Большого Оружия и следа не останется. Не важно, каким образом…
И я многозначительно ткнул пальцем вверх.
Глаза Холмса сузились и неприятно похолодели. Сейчас он был очень похож на покойного Рамоса.
— Понял тебя. А как насчет малого?
— Хрен его знает… — Я и вправду не знал ответа: заказчики об этом не упоминали. — Изымут, наверное…
— Яа-асненько…
Он слышал меня, но, похоже, не видел. И на скулах его медленно, словно живя своей отдельной жизнью, ходили желваки. Ого! Всяким я видывал Холмса, и таким тоже. Но редко.
— Спасибо, Яник! Счастливой охоты, — заключил он. И сгинул, словно не сидел только что напротив. Умеет же, стервец. Впрочем, тотчас возник снова уже повеселевший.
— Да, кстати! На свадьбе будешь свидетелем. Ясно?
Ответить я не успел — Холмс исчез окончательно.
— Счастливой охоты! — сказал я в пространство.
Потом, прикинув, заказал еще стопочку. Новость того стоила. Еще бы, Холмс женится! Представляете? Значит, блудливые малолеткины глазки его все-таки отпустили. Такую радость не грех отметить!
Рассчитался. Спустился в подвальчик. И обнаружил Эльмиру за угловым столиком с каким-то унылым типом. Причем на удивление знакомым. Откуда? В памяти всплыли разрозненные обрывки: приспущенный флаг на штаб-квартире Союзного Космофлота, детские лица в траурных рамках… Да, помню ту статью, помню… «Гада на виселицу!» — так она называлась… и тысячи писем помню в поддержку: да, мол, надо вешать… в общем, крепкий материал, хотя и не сенсация… и это самое лицо… нет! — тот хмырь не может сейчас так выглядеть, ему ж уже под полтинник. Скорее просто похож…
Поймав мой заинтересованный взгляд, мужичок дернулся и растаял, почище, чем Алек. Ну что ж, люблю предупредительных парней, не обременяющих меня лишними скандалами. Даже если это и вправду был всего лишь муж Эльмириной кузины…
Официант подскочил с меню, грянула музыка, сочный голос незабвенной Ози доверительно сообщил, что она, сильная женщина — тра-ля-ля! — ждет у окна своего мужчину, и в такт тягучей мелодии где-то глубоко под скатертью маленькая ладошка прикоснулась к моему колену, нагло устремляясь дальше, под шорты.
Я укоризненно посмотрел на владелицу шаловливых пальчиков. Лицо Лемуры выражало полнейшую незаинтересованность, и синеватый дымок тоненькой сигареты поднимался аккуратным столбиком, под стать обрабатываемому под столом предмету…
Отпуск начинал удаваться!
ГЛАВА 5
… И призри, и пощади, и огради, и не обидь малых мира сего, Господи, ибо благ и человеколюбив еси. Кому и спасти их, как не Тебе, многомилостивому? Не обрати гнева Своего на них, слабых, не виновных ни в чем перед Тобою, даже и в рождении своем, ибо не их была на то воля, но Твоя, более же ничья; обогрей их теплом любви Своей, коль скоро все они суть дети Твои, Ты же есть велик во благости, и благость Твоя безраздельна. Снизойди к ничтожеству их и даже в великом гневе сумей не повредить им, Господи?..
Рассказывает Катрин МАК-КЕЛЛИ. Сотрудник аппарата Звездного Дома. 23 года. Гражданка ДКГ
17 — 20 июля 2215 года по Галактическому исчислению
Я плачу только на кухне у мамы. Мама гладит меня по макушке и называет красавицей, куколкой, умничкой, а я сначала реву белуга белугой, а потом постепенно успокаиваюсь и только всхлипываю, прижавшись к теплому маминому плечу. Странно, да? Катенька Мак-Келли, мечта всех мужиков Галактики, — и вдруг плачет. Никто б не поверил. А на самом деле ничего странного. Ну да, не урод, сама знаю, а толку? Хотя завидуют мне по-страшному, и всегда завидовали, и подруг у меня никогда не было как раз поэтому. Не считая, конечно, Чалы и Эвелины. Но Чала, она мне скорее старшая сестра, да и сама писаная красавица, куда там мне до нее, а Эвелина — совсем особый случай. А так… просто ужас! Девчонки в школе терпеть меня не могли. Как же, самые крутые мальчики, кто с третьего класса, а некоторые даже со второго, срочно обзавелись песиками всяких пород, и эти песики все время хворали, так что мальчишки постоянно толклись в папиной приемной, чтобы хоть мельком повидаться со мной…
Да ну их, девчонок! Разве я виновата, что в семь лет стала «Мини-Мисс Галактикой»? И в шестнадцать, и в восемнадцать я тоже никак не надеялась получить корону. И вовсе ни с кем не спала, как болтали! Просто жюри решило так, и даже в газетах писали, что оно в тот раз было объективным. И папа тогда сказал, что газетам можно верить. А сама я никогда и не думала, что так уж красива. И никак не ожидала, что после второй, взрослой уже, короны меня невзлюбит, а после третьей люто возненавидит как раз та половина человечества, прелести которой я должна была олицетворять.
Ну и пусть шипят! Зато нас с мамой все это просто спасло, когда умер папа. Ветлечебницу, конечно, пришлось закрыть и продать: мама зверей всегда побаивалась, а мне вести дело было совсем не по силам. И жить бы было совсем не на что. Вы представляете: вечно замотанная уроками мама и я, молоденькая, совсем глупая девчонка. Да еще бабушка тогда была жива, хорошая, добрая, но совсем уже старенькая…
И как бы мы выжили, если бы не я?
Я долго думала, куда пойти работать, советовалась с мамой, пыталась даже сама разобраться в предложениях, а потом решилась — и вытянула наугад. И не ошиблась нисколечки! Конечно, модельный салон мадам Чалори Ранкочалария-Нечитайло — это не гигант вроде «Кардена» или «Ив Сен-Лорана», но к тем я бы и побоялась идти, а у мадам Чалори платили никак не меньше, и самая шикарная публика все чаще заказывала обновки именно там.
А главное — сама хозяйка! Разве могла я подумать, что грозная мадам Ранкочалария-Нечитайло, великая кутюрье, окажется просто Чалой, милой и доброй Чалой, умеющей все понять и всегда помочь? Обидно, что мы теперь так редко видимся, зато каждое воскресенье я звоню ей, и мы болтаем по полчаса, если не больше.
Она и теперь такая же красивая, как пять лет назад, совсем не расплылась, фигурка высший класс, и глаза темные и глубокие, как у всех дархаек. У меня, правда, глаза получше, да и ноги, наверное, тоже, ну и что? Господин Нечитайло все равно в ней души не чает, и она его тоже обожает, хотя и держит в ежовых рукавицах. Прямо не знаю, как так можно! Смешно даже: он — огромный, бородатый, а Чала — маленькая и хрупкая, но стоит ей повысить голос, и Игорь Иванович становится по швам, как солдатик из музея. Жуть, правда?
Вообще, там у них была интересная история: Чала на Дархае была замужем за тамошним президентом, или премьером, или еще кем-то, я в этом не разбираюсь, и Игорь Иванович ее спас от бандитов и увез с собой на Землю, даже каюту ей отдал, а сам спал всю дорогу в трюме, вот, — а потом супруг начал требовать, чтобы ему вернули жен, но наши власти так ему и ответили, что здесь ему не Дархай и жены сами могут выбирать, кто у них теперь мужья…
Ой, да что ж это я! Вы ж, наверное, сами помните, это во всех газетах было, даже и по стерео показывали. Я тогда была маленькая, и то запомнила, как мама сидела у визора, аж обед один раз подгорел…
Процесс «Ранкочалар против Ранкочаларий», вспомнили, да? Только представьте: пятьдесят жен, и ни одна не пожелала остаться с этим занудой профессором! Противный очкарик, конечно, проиграл дело, хотя и нанял самых лучших адвокатов… а потом он хотел даже украсть Чалу и еще одну ее подружку, но тут уж вмешался Игорь Иванович, и остальные астрофизики из их лаборатории тоже вмешались, и те гады еле ноги унесли!
А день окончания процесса у нас в салоне всегда отмечали как семейный праздник, и приходили все кто мог из подружек Чалы, конечно, вместе с мужьями такими бравыми, красивыми, молодыми еще; я даже удивлялась, отчего это такие здоровенные мужики, а почти все уже на пенсии?..
Как здорово было! Я даже решила выйти за астрофизика и вышла бы, наверное, потому что сын пана Ярузека (это приятель Игоря Ивановича из Единого Союза, очень интересный мальчик, между прочим) за мной вполне серьезно ухаживал и у нас уже начало намечаться кое-что…
Но тут я встретила Аллана. Аля. И Чала через пару месяцев вдруг подошла ко мне и намекнула, что возраст — не помеха, и что Аллан, кажется, любит меня, и что она уже поговорила с моей мамой и все ей объяснила… а я тогда только и могла радоваться, что кто-то за меня думает, потому что сама думать не могла. Мне хватало и того, что есть Аль, что он рядом и что он — со мной. И когда он вдруг исчез, оставив непонятную, глупую записку (ну хорошо, я сама знаю, что была виновата, но я бы попросила прощения!), я поклялась, что никогда больше не приеду в город, где мы познакомились…
И все же вот она, Одесса, — за окном земной резиденции шефа. Как и тогда, четыре года назад, шумная, солнечная, веселая. Хороший город. Он дважды подарил мне Аллана Холмса — тогда и сейчас; я люблю Одессу и больше совсем не сержусь на нее!
Шефа пока что нет, и Эвелины тоже — она, как всегда, при шефе, и Аль вернется только завтра. Ой, как много времени у тебя, Катька! На все хватит… а все-таки представляю, как удивится шеф, когда узнает, что любимая сотрудница убежала под венец, даже не предупредив заранее начальство. И пусть себе удивляется, сердиться-то не станет, я знаю; Аль ему понравится, они ж даже знакомы немного, шеф сам вручал ему орден за какую-то там работу, не знаю какую, Аль мне не рассказывал подробно… а вот чего я боюсь, так это не взревновала бы Эвелина. Ведь на нее иногда находит: прижимается ко мне, рычит на всех, никого не подпускает. Глупая! Она, конечно, тоже полюбит Аля! Я специально купила мягкого розового слоника; Аль подарит его Эвелине, и они подружатся, девочка обожает новые игрушки и тех, кто их дарит…
Вообще Эвелина моя — существо капризное, хотя и очень доброе. Я потому и приехала сюда на целую неделю раньше нее и шефа, чтобы подготовить комнатку и резиденцию по ее вкусу; кроме меня, это никому не удается, разве что шефу, но у него не всегда хватает времени на Эвелину. Конечно, на все церемонии они ходят вместе, как полагается. Шеф ведет ее за руку, и она висит на нем, словно ребенок. Даже смешно бывает, когда приезжает какая-нибудь шишка из Единого Союза и приволакивает с собой полдюжины хорошеньких девчат — ведь вся Галактика прекрасно знает, что это за мымры, и что все эти референточки умеют стрелять не только глазками, тоже всем известно. А вот шеф не признает никаких охранников, потому что раз избран народом, так и защищаться не от кого. Так он говорит, и очень правильно, по-моему, потому что охранники — это просто дураки какие-то, все время цепляются, проходу не дают, и ну их вообще! А вот Эвелина, так это ведь просто маленькая слабость сильного человека. Она, между прочим, очень забавная в своей матроске и шортах: все время ухмыляется, почесывается, клянчит конфеты. И очень сильно любит меня. Кажется, даже больше, чем шефа…
Ой, совсем заболталась! Дел ведь полно! Прическу нужно сделать? Нужно! Платье подобрать нужно? А как же! Ресторан заказать к приезду Аля, чтоб все как у людей, тоже надо. И с пастором насчет венчания кто договорится, если не я? Не Аллан же! Ему это как раз безразлично, он, по-моему, и в Бога не очень-то верит, а вот меня папа научил относиться к этому серьезно. Папочка сейчас, конечно, в раю, и он будет недоволен, если родная дочь пойдет замуж без венчания, просто придет и распишется…
Я вышла из ванной, скинула халатик, оделась.
Села на краешек кровати, взглянула в лицо Алю. Он замечательно получился на этой фотографии, спокойный такой, мужественный и очень красивый. Три года я прятала этот снимок в комоде, не решаясь выкинуть…
Посмотрела. Показала язык. Дурак ты, Алька! Ну виновата была, сама знаю, так ведь я же совсем дурочка была, а ты большой, сильный, мог бы понять. Эти мальчики ничего же не значили, ни Алексис, ни Жэка, так просто, на пляж сбегать, пока ты по командировкам своим… ну, поругал бы, даже побить мог, если захотел… было за что… А ты взял и сбежал. Кого испугался тогда? Катьки своей, что ли?.. Глупо. Катька, между прочим, наглоталась тогда снотворного, сунула твое фото под подушку, написала записку маме и Чале и легла спать. Сама не догадываюсь, как Чала сообразила тогда, что к чему; может, почувствовала что-то или еще как, а только влетела ко мне, выбив двери, вместе с Игорем Ивановичем и с Ози, ну да, той самой, знаменитой.
Ози, по-честному, лучшая Чалина подруга, она очень добрая и несчастная; наверное, они поэтому с Чалой и подружились. Чала ведь сильная баба, любит всех опекать, а Ози — она слабая, хотя на вид и большая, и пьет она здорово. Но зато она хорошая! Бывало, приедет к нам в салон, поставит на стол бутылку, и пьет, и плачет: вот, мол, девчонки, опять с мужем надо расходиться, а я его люблю, и он меня тоже любит, и третьего своего я тоже ведь сильно жалела, он у меня нервный был, а вот приходится разводиться, чтобы волну поднять по новой, а мне плевать на тот рейтинг клятый, я счастья хочу-у-у!.. Плачет в три ручья и жизнь свою проклинает…
И никогда в компании, когда даже в духе была, ни песенки не спела, как ни просили.
А вот в тот раз я Чалу даже и не заметила сразу; Ози Игоря Ивановича тут же вытолкала, а ее послала за врачом, даже накричала, кажется… подумайте только: на Чалу кричать!.. а сама села рядышком со мной, ну точно как мама, взяла за руку и говорит: ты, девонька, меня слушай, Чалку не слушай, она у нас королева, а мы-то с тобой дуры бабы, вот я тебе, как дура дуре, и скажу: мужичишка твой к тебе еще приползет, козел старый, не может того быть, чтобы к такой, как ты, да не приполз, а вот сама ты, Катюнечка, слушай-слушай, так вот, ты сама уматывай-ка из моделей, потому как сейчас, не приведи Господь, выскочишь со зла да сдуру за какого-нибудь лоха, вроде моего первого… я ведь, говорит, такая же дурочка была, в первую машину прыгнуть норовила, жизни не знала, Аркашку не слушалась… так что ты, девонька моя, меня не повторяй, мне-то, идиотке старой, уже некуда отступать…
Сидели!мы, значит, и выли вдвоем; а тут и Чала входит с доктором, и Ози ей с ходу: слышь, Чалка, Катюха у тебя больше не работает, к маме ее отправляем, ясно?! А Чала, умница, поглядела на нас, глаза пришурила и головой кивнула: ладно, мол. И вдруг подсела к нам, обняла, да как завоет — куда там нам с Ози!..
Так и ревели мы, три бабы-дуры, пока доктор, спасибо ему, каплями не отпоил…
А полгода спустя я познакомилась с Эвелиной. Сестра милосердия в зооклинике — это, конечно, не ведущая модель салона мадам Ранкочалария-Нечитайло, но на жизнь нам с мамой хватало вполне, и бабулю похоронили честь по чести, а на мужиков я, честно скажу, глядеть не могла, хотя и подкатывались. Вот и привезли к нам Эвку — на длиннющей черной машине с затемненными стеклами; я в такой каталась только однажды, когда меня вовсю кадрил сынок кого-то из кобальтовых воротил. Привезли, тут же на носилки и сразу в операционную. Ранения были не то чтобы так уж опасны, но очень странные для зверюшки; она вела себя молодцом, только тихонько скулила и смотрела на нас большими печальными глазами. Я взяла ее за руку, как Ози меня, и погладила по голове, а она посмотрела на меня, словно ребенок и вдруг начала тереться щекой…
Это потом уже зоопсихологи объяснили мне, что Эвелина — не совсем обезьяна. То есть обезьяна, конечно, но не совсем. Не знаю, как лучше сказать. Но у нее не только глаза человеческие, а и разум тоже почти как у нас. И умеет она очень многое…
За восемь ночей, что я просидела над ее постелью, бедняга отвыкла быть без меня; когда ее приехали забирать, сперва хныкала, упиралась, кричала, потом начала отмахиваться от санитаров, а потом вдруг взвилась с места — и я увидела в первый и, надеюсь, в последний раз, что на самом деле умеет ласковая и послушная Эвочка… Я тогда перепугалась ужасно, думала: кого-нибудь она обязательно убьет, но все обошлось; теперь-то я знаю, что Эвелина убивает только тогда, когда без этого никак не обойтись…
Крутили ее ввосьмером и не сразу справились, но все же связали и увезли. А напослезавтра меня пригласили в Звездный Дом, угостили кофе с молоком, как я люблю, и разложили все по полочкам. Я думала отказаться, но тут в комнату вбежала Эвка и принялась визжать и подпрыгивать, а потом притащила откуда-то и засунула мне в руки своего любимого плюшевого львенка. Вот так я и стала личным секретарем Президента ДКГ, а главное — нянькой, воспитательницей, подругой и старшей сестрой сверхтелохранителя Большого Босса.
… Ну что, Катька, пора?
«Да!» — ответила я сама себе, поглядела напоследок на фотографии, улыбнулась маме и Чале, послала воздушный поцелуй Ози, щелкнула по носу Эвелину. А господину Холмсу опять показала язык. Причем весьма торжественно. Никуда ты не денешься от меня, глупый-глупый Алька! Утречком прилетишь, а я тебя — цап! — и в церковь, и выйдем мы с тобою оттуда, как положено: мистер и миссис Аллан Холмс. И не позволю я тебе трястись из-за того, что я, видите ли, тебя моложе. Ученая уже. И вообще, пойду-ка я прямо сейчас к тебе в номер, займу его нагло и приготовлю все к твоему приезду; и попробуй хоть слово сказать, нос откушу!
И я успела сделать все, и пастор оказался седенький и очень милый, и прическа — просто прелесть, и белое платье с коротенькой фатой — как раз такое, как когда-то у мамы; даже не помню, как бежала я по улице, возвращаясь в «Ореанду» с горой покупок. Мужики оглядывались мне вслед, бабье шипело. Ну и что? Когда женщина счастлива, все вокруг прекрасно, даже подруги!
Дверь Алькиного номера была приоткрыта, и я вошла без стука, соображая на ходу, что сказать горничной. Но никакой горничной там не было, и вещей Алека почему-то тоже не было, хотя он, точно помню, оставил чемоданчик, когда уезжал позавчера, зато на полу лежали какие-то ужасные грубые циновки, а перед стенным зеркалом разминался незнакомый смуглый паренек в ярких шароварах.
Проскочила, что ли?
Пожав плечами, я вышла в коридор, посмотрела на табличку с номером — и зашла снова.
В комнате, оказывается, были двое. Парнишка по-прежнему плавно изгибался перед зеркалом, а в единственном кресле, задвинутом в угол, плотненько сидел лысоватый, довольно полный старичок в халате с бордовыми драконами. Он внимательно изучал свежий выпуск «Ночей Копенгагена» (какая гадость!) и тоненько хихикал. Увидев меня, лысенький засуетился, уронил куда-то журнальчик, вскочил и неожиданно изящно шаркнул ножкой:
— Какая приятная неожиданность!
Тут я его узнала. Днем, когда я шла в город, он истошно вопил в нижнем холле, что, как ветеран земной сцены, возмущен, что номер для его артиста снят с брони. Я спросила: как они тут оказались? Они ничего не знали. Администрация сообщила им только то, что другой, ничем не худший номер, вот этот вот самый, неожиданно освободился, и предложила вселяться…
Извинившись, я вышла. И у меня хватило еще сил, удерживая слезы, спуститься в подвальный бар.
В баре было прохладно, сумрачно и пусто.
Несколько ранних посетителей за столиками у дальней стенки и я. Одна. Совсем одна. Как три года назад, только еще хуже. Много хуже. Ой, Боженька, да как же мне плохо!..
Официант! Телефон, пожалуйста! Скорее, прошу вас!..
Кнопка за кнопкой: восемь-один-ноль-один-девять-четыре-семь-ноль-пять-пять-ноль.
Гудок. Щелчок.
Чала! Чалочка!
И гулкий, не ждущий ответа голос Игоря Ивановича: «Говорит автоответчик семьи Нечитайло. Мы уехали в отпуск. Вернемся после двадцать шестого или немного позже. Сообщение можете оставить…»
Но я не хочу оставлять сообщений, мне плохо, неужели вы не понимаете, мне очень плохо…
Официант, водки, пожалуйста! Да-да, двойную!
Огонь обжигает глотку, но легче не становится.
Снова — кнопки: восем-один-ноль-два-четыре-семь-восемь-пять-два-один-три.
Короткие гудки. Сброс. Набор. Щелчок.
Ози!!!
Сброс. Короткие гудки.
Официант! Еще водки! Только не надо разбавлять!.. Ладно, друг, не обижайся, это я шучу так…
Ну-ка: восемь-один-нолъ-четыре-четыре-семъ-ноль-два-восемь-один-один.
Гудок. Щелчок.
Мама! Мамулечка! А кто? Что с ней?! Обследование? Какое обследование? Ой, Господи!.. Но ничего опасного, тетя Клара? Да, конечно, прилечу… У меня? Скажите маме, что со мной все в порядке…
Официант! Теперь джин! Без всяких тоников!
Тепло разливается по телу, в голове приятно гудит. Думается легче. Аль… Ну и как тебя назвать? Трусом? Ничтожеством? Или просто — подлецом?! Не знаю. Надо подумать. Надо понять. Я же не просила тебя ни о чем в тот вечер: мы могли поздороваться и разойтись, Аль… а теперь — зачем эта дурацкая фата? Зачем прическа? Что я скажу старому ласковому пастору?..
Дрянь! Трепло и трусло!
Я смотрю в полумрак. Зал незаметно заполнился, и в синевато-розовом тумане движутся, прижимаясь друг к дружке, расплывчатые фигуры. Карлики! Злые, злые карлики! Разве вы, вы все, знаете что-то о любви? Разве умеете любить?
Трусы… пигмеи…
А ты, стан Аллан Холмс, хуже всех… мразь и предатель.
Офиц-и-и-ант! Еще водочки!
В зале темнеет. Перед моим столиком возникают две… нет, одна… фигура… гадкий гном, мерзкий носатый ли-ли-пут. Огромный ли-ли-пут, ростом почти с Их!.. с Игторя Ив-вановича…
О чем это он? Пытаюсь сосредоточиться. Трудно.
— Вставай, красотка! Йошко Бабуа хочет с тобой танцевать сегодня!
Уйди, карлик… не хочу… никого не хочу…
— Я — Бабуа!
Зачем он так кричит? Ведь у меня же болит голова! В зале становится совсем тихо. Все умолкли. Все чего-то ждут. Отпусти руку, нахал, мне больно!..
— Дэвочка, — спокойно говорят мне, — музыка ждет!
— Не хочу-у-у! — ору я. Или шепчу?
— Ты нэ понымаешь, дэвочка! Я — Бабуа, и ты пойдешь со мной. Сначала мы будэм танцевать. А потом пить шампанское навэрху. Я так хочу. Ты понымаешь тэпэр?
Меня больно хватают за руку и тащат из-за столика; завтра наверняка появятся синяки, думаю я и тут же забываю о таких пустяках, потому что противные губы, пахнущие табаком и спиртом, впиваются мне в рот и мерзкий язык злобно, гнусно втискивается меж сжатых зубов.
Я кричу. А вокруг — никого. Люди жмутся к стенкам, их нет, только белые маски где-то далеко, и носатые чернявые рожи скалятся вокруг…
Аль! Алька! Трус, ничтожество, помоги!.. Эвелина, где ты?!
Никого. Нет людей. Только кривые ухмылки и шепоток:
— Бабуа, Бабуа! Глядите: Бабуа гуляет!
Божечка, неужели же им интересно?
Туман вдруг рассеивается. И меня становится как будто бы две: одна плачет, вырывается, а ее тащат в круг злобных гоблинов, и некому ей помочь, а другая Я смотрит на все точно со стороны; эта вторая Я бесплотна, ей не страшно, она просто стоит и видит все, что происходит.