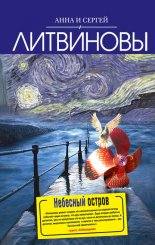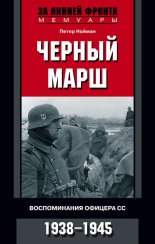Утешный мир Мурашова Екатерина

В три с половиной года Женька по кубикам выучилась складывать слова и вслух прочитала папе что-то из азбуки. И приблизительно тогда же нарисовала совершенно потрясающего петуха с хвостом-радугой.
Ей показалось, что она в реальности услышала, как у него в голове щелкнул какой-то переключатель. Он сказал:
– Гляди-ка: все-таки не зря я выбрал для дочери такое имя – Евгения. В нем есть правильный корень.
И все стало, как он обещал ей когда-то. Он занимался дочкой с утра до ночи, он повсюду таскал ее за собой, он не только баловал, но и умно, внимательно, требовательно учил дочь, открывал ей мир. Женька ходила за папой как хвостик, а у нее вдруг неожиданно появилось свободное время.
У него было много знакомых. Он устроил выставку Женькиных рисунков. О ней написали в трех газетах. Какой-то телеканал взял у Женьки интервью. Женька попросила себе для телевизора длинное платье «как у мамы» и «настоящую прическу».
– Ты работаешь в издательстве, – сказал он ей. – Это очень кстати. Я думаю, что из Женькиных рисунков с ее же подписями получится отличная книжка.
– А может быть, детский сад? – осторожно спросила она. – Перед школой рекомендуют…
– Но что она будет там делать?! – искренне удивился он. – Там же все намного ниже ее по развитию. Ты же сама видишь: она на равных разговаривает со взрослыми людьми, интересуется устройством мира…
– Это так. Но при этом Женька совсем не умеет общаться с ровесниками, – возразила она. – И школа…
– А зачем это ей? Всем интересно общаться, быть – с равными или с теми, кто выше по развитию. Разве ты сама не так думаешь? – он подмигнул ей, и она поняла его намек. – А насчет школы я как раз размышляю. В первом классе ей откровенно нечего делать, ведь она легко решает задачи для третьего класса и пишет философские рассказы – ты же сама их читала.
– Но как же? У нашей Женьки не будет «первый раз в первый класс»?
– А зачем это ей?
Вместо первого класса у Женьки была вторая персональная выставка.
– Ты не одна такая, – сказала я Женьке. – Поверь, поверь мне, не одна. Вас таких на самом деле много, почти столько же, сколько детей с задержкой развития. У тебя получился злокачественный вариант, потому что твое преходящее вундеркиндство раздули в слишком большой, лоснящийся, переливающийся всякими красками пузырь. Когда он лопнул, тебе пришлось туго, я понимаю. Жизнь как будто бы потеряла все краски, но то были краски мыльного пузыря. Теперь надо оглядеться и увидеть настоящее. Если ты сейчас перетерпишь, стиснув зубы, то потом, с годами, все-таки привыкнешь жить в обычной жизни обычным человеком, найдешь в ней много радости, любви, творчества.
– Я не хочу обычным, – сказала Женька. – Не могу и не хочу. Зачем это мне?
– Просто чтобы жить. Найти свое место и жить.
– Мое место здесь если и было, так оно… заросло давно.
– Можно устроить прополку.
– Зря вы это говорите… ведь просто чтобы сказать… все зря…
Недавно я узнала, что Женька все-таки умерла, покончила с собой.
Этот материал я посвящаю ее памяти.
Кто знает, может, он вовремя предостережет какого-нибудь родителя и облегчит вхождение в обычную человеческую жизнь двум-трем детям с общей ранней детской одаренностью (именно так на русском языке называется этот феномен). Женьке, я уверена, понравилась бы эта мысль – ведь она в конце своей недолгой жизни все время спрашивала: значит, все было зря? Все напрасно?
Ничего не бывает напрасно – так я думаю.
Еще раз про…
Девочка показалась мне знакомой. Длинноватое лицо, гладкая прическа, губки бантиком, неожиданные зеленые джинсы с дырками на коленях.
– Я у вас была уже, мы с подружкой ссорились. Вы помните?
– Смутно. Тебе придется рассказать с самого начала. Когда вы подружились?
– Давно, но я не про подружку пришла. Мы с ней теперь нормально общаемся. Если и ссоримся, то я сразу мирюсь, как вы меня научили.
– Хорошо. А про что же ты пришла теперь?
– Я теперь пришла про любовь.
– Ага. Тебе пятнадцать?
– Почти шестнадцать уже.
– Все равно. Самое время про любовь прийти. Я тебя слушаю очень внимательно.
Признаюсь честно, и пусть любители оригинальности меня осудят: я люблю хрестоматийность. Поговорить о сложностях любви в шестнадцать лет – что может быть хрестоматийнее? Я уже заранее получала удовольствие от предстоящего разговора.
– Есть один мальчик, его Андрей зовут, – сообщила моя посетительница. – И вот он говорит, что хочет, чтобы мы… ну, чтобы мы встречались… чтобы я стала его девушкой. Ну, как бы официально.
– Официально? – удивилась я. – В каком это смысле? Он хочет помолвки? А сколько ему лет?
– Он в моем классе учится. Не помолвки, нет, конечно. Это же… это старомодно совсем, нет. Просто… ну, просто чтобы все знали и в статусе написать…
– А, так речь о социальных сетях! – догадалась я. – Конечно, прости, я забыла, что мы теперь все опять живем в большой виртуальной деревне, где все всё знают и горшки разной степени отмытости висят в ряд на виртуальном заборе.
– Опять? – переспросила девочка (ее звали Мила).
– Это я о своем. Так что же Андрей?
– Ну вот, он хочет, а я не уверена. Но все говорят, что я должна, потому что он очень страдает.
– Так, давай разбираться по порядку. Ты нравишься Андрею. Он ухаживает за тобой? Давно?
– Ну… Ну, наверное, ухаживает. Можно и так сказать. Он мне во «Вконтакте» каждый день пишет. И в школе. И еще когда мы классом на экскурсию ездили. И потом еще в кино ходили. И в кафе гулять. Уже месяца три, наверное, или четыре.
– А откуда ты знаешь, что он страдает?
– Так он сам говорит, что так невозможно и чтобы я ему сказала. И еще говорил своему лучшему другу и моей подруге, той самой, помните? А еще вконтакте написал, под фотографией…
– То есть он всем рассказывает о своих страданиях, поняла. А ты? Что ты сама думаешь и чувствуешь по этому поводу?
– Я не знаю, в том-то и дело. Сначала он мне вроде как понравился… или мне, я теперь думаю, просто лестно было? Ну мы с ним сходили погулять, потом я его в гости пригласила, он моей маме очень понравился, она говорит: симпатичный, приличный мальчик, не то что те хулиганы, с которыми ты в детстве водилась… Но я быстро поняла, что он хочет, чтобы серьезно все, а мне… а мне с ним… неинтересно, что ли? Он говорит только про себя, про наши отношения, ну еще что в классе происходит, кто с кем… Как девчонка сплетничает, понимаете? А мне скучно быстро становится. Я пробовала еще о чем-то поговорить, а он… В общем, я не против с ним дружить, но целоваться мне с ним не нравится – он сопит!
– Опять поняла. При ближайшем знакомстве Андрей не очень тебе понравился, и строить с ним романтические отношения ты не хочешь. Так в чем же проблема? Тактично, но твердо и однозначно сообщаешь об этом Андрею и перестаешь морочить парню голову.
– Так я и не морочу! – картинно сжав руки перед уже вполне оформившейся грудью, воскликнула Мила. – Я ему всё так и сказала, как вы говорите! И прощения даже попросила!
– И что же?
– А он как бы не поверил мне, что ли. Сказал, что будет ждать. И, главное, все говорят, что вот, он так меня любит и страдает, и мама спрашивает, кто же мне тогда нужен, и даже учительница по географии тут его пожалела… И я уже не знаю – может, я не права вообще, раз все говорят?
– Ага. Это серьезный вопрос, на самом деле. Сейчас я расскажу тебе одну историю из своего собственного детства.
– О, у вас тоже так было? – оживилась Мила.
– Нет, эта история про другое. Хотя на самом деле – про то же самое…
Это был советский пионерский лагерь на берегу залива. Линейки, речевки, флаги, белый верх, темный низ, пятнадцать человек в палате, краны с холодной водой, и дощатые туалеты с дыркой в полу на улице, и танцы по вечерам для двух старших отрядов – среди сосен и комаров.
В эстрадном искусстве тогда царили ВИА – вокально-инструментальные ансамбли. В нашем лагере их было целых два – «Мираж» и «Шестое чувство». «Чувство» было вполне современное по тем временам – надсадный вой электрогитар и негритянские ритмы на заднем плане. А «Мираж» – живые инструменты и мальчики с длинными волосами. По всем музыкантам обмирали девочки старших отрядов и даже пионервожатые. Малейшие их слова и движения обсуждались подробнейшим образом. Я была не столько маленькой, сколько непроснувшейся – среди уже переживающих нечто девочек смотрела, слушала, молчала, потом ходила на край песчаной дюны над заливом, сидела там среди неустанно шумящих сосен и тоже молчала.
У ВИА «Мираж», помимо прочего, была песня на слова Лермонтова:
- У врат обители святой
- Стоял просящий подаянья –
- Бедняк иссохший, чуть живой
- От глада жажды и страданья.
- И припев:
- Так я молил твоей любви
- Слезами горькими с тоскою,
- Но чувства лучшие мои
- Обмануты навек тобою.
- Дальше было, кажется, так:
- Всего лишь хлеба он просил,
- И взор являл живую муку,
- Но кто-то камень положил,
- Но кто-то камень положил
- В его протянутую руку…
- …Так я молил твоей любви…
Главный длинноволосый «миражист» пел все это совершенно душераздирающе, протягивая руку в зал. На глазах собравшихся выступали светлые слезы, и все, разумеется, были на стороне лирического героя. В нашем отряде были две старшие девочки, феминистского, как бы теперь сказали, толка. Одна из них курила, а у другой была татуировка. При этом они, что странно, не были дурами. И вот однажды вечером они устроили у нас в палате дискуссию по мотивам этой песни. Представьте: середина семидесятых, пятнадцать железных кроватей с сеткой и полосатыми матрацами, за окном репродуктор, из которого несется песня «В буднях великих строек…», на кроватях по-турецки сидят босые девочки от тринадцати до пятнадцати лет в одинаковых белых футболках и черных сатиновых трусах (у нас только что закончилась пробежка) и говорят о странностях любви, претворенной в искусстве (Лермонтов – ВИА «Мираж»).
– А что она, собственно, должна была сделать? – спрашивала та, у которой татуировка. – Ответить на его любовь, даже если ей не хочется?
– Но он же так страдает… – робко донеслось из угла. – Можно и пожалеть вообще-то…
– Как пожалеть? Как? Объясните мне! – вскинулась курящая. – «Всего лишь хлеба он просил…» Это аллегория, да. А что за ней? Что это за хлеб на самом деле? Чего это она должна была ему дать? А?
Вокруг лидерши смущенно захихикали.
– Поцеловать? – наивно хлопая глазами, спросила наша записная дура-красавица. В ответ – лишь презрительное фырканье.
– Он умеет красиво сказать. За это любят поэтов… и музыкантов, которые поют, – рассудительно заметила толстенькая девочка и покраснела. – То есть обычно любят. Но этому не повезло…
– Правильно! Вся эта поэзия и песни – всего лишь танцы, как у павлинов и глухарей. Потому что самки, то есть девчонки, на это покупаются. А потом уже и всё, поздняк метаться.
– То есть ты что хочешь сказать? Она отвергла его любовь и правильно сделала? И пусть он себе страдает? Так?
– А это ей решать! Ей, понимаешь, и никому другому!
– А ему-то что, и спеть… ну, то есть стих написать нельзя, что ли?
– Если бы не писали, так у нас бы и искусства не было. Ты этого, что ли, хочешь?
– Да пусть себе пишут и поют, но надо же понимать…
Конечно, мы не пришли тогда ни к какому окончательному выводу, но почему-то эта сценка врезалась мне в память и вот, всплыла по случаю спустя много-много лет.
– Я поняла, что вы хотите сказать, – улыбнулась Мила. – Это не только Андрей. Это и Лермонтов, и тот нищий, и еще раньше, это просто метод такой. И он работает, и все начинают сочувствовать тому, который страдает, а не тому, конечно, кто «камень положил в протянутую руку». А того осуждают. И мне, если я уверена, придется самой, еще раз. Но я, кажется, теперь готова…
А что вы думаете по этому поводу, уважаемые читатели? Доводилось ли вам в жизни сталкиваться с подобными случаями? Причем мне кажется, что на практике эмоциональный шантаж в нашем мире вовсе не исчерпывается ситуацией юношеской безответной любви…
Дети в лесу
Каждую неделю утром в пятницу я решаю, что написать для колонки на «Снобе». Есть польза от описания типичных случаев: кто-то, его прочитав, может увидеть нечто аналогичное своей собственной ситуации, что-то в ней понять или даже исправить. Но и случаи исключительные, как мне кажется, представляют определенный интерес – у меня самой (и, можно надеяться, у читателей) они расширяют границы восприятия, вызывают «ах-реакцию»: ого, и так, оказывается, может быть! В результате они повышают нашу готовность к чудесам мира.
Женщина пришла одна и противно хрустела суставами пальцев. У нее было такое трагическое лицо, что я не решалась попросить ее перестать. Сидела и страдала вместе с ней.
– Вы мне не поверите! – первое, что она мне сказала. – Но я покажу вам статью в газете, – это было второе.
И полезла в сумку.
– Не надо статью! – твердо сказала я. – Статьям в газете я верю меньше, чем конкретным людям, которых вижу перед собой. Поэтому рассказывайте сами.
На все лето она брала отпуск за свой счет (на ее работе это было возможно) и вместе с сыном жила на даче. Своей дачи у них не было, снимали у одних и тех хозяев много лет – всем удобно. Отец и муж приезжал на выходные.
Сын Кирюша рос спокойным и вдумчивым мальчиком: хорошо учился, любил рассматривать муравейники и жучков под камнями, держал в банке головастиков, смотрел фильмы «Би-би-си» и читал фэнтези и книжки про динозавров. В раннем детстве ему ставили астму, но потом все как-то выровнялось, и уже много лет не было приступов, и даже все лекарства уже отменили; только если он заболевал чем-нибудь простудным, давали – на всякий случай, для профилактики.
С дачными мальчишками, которые бегали крикливой стайкой и размахивали палками или гоняли на велосипедах, Кирюша был знаком, никогда не воевал, но и не общался особо. Шумные игры никогда его не прельщали, он и в городе по-настоящему дружил только с одним немногословным и тихим мальчиком – во втором классе они вместе ходили в судомодельный кружок, да так и остались друзьями.
С девочками в детском саду и в классе у Кирюши всегда были хорошие отношения, и никого не удивило, когда на даче он тоже подружился с Зоей – соседской девочкой на полтора года старше его. Зоя много читала, гуляла в лесу, часто ходила на пруд и сидела на берегу, рассматривая что-то в воде или прислушиваясь к шелесту листьев над головой, и тоже ни с кем, кроме Кирюши, не общалась. Зоина мама была очень рада этой дружбе и всегда Кирюшу привечала.
Взрослые из обеих семей видели, как дети подолгу, часами сидят на скамейке в кустах сирени и о чем-то заинтересованно беседуют, размахивая руками и иногда смеясь. Когда у Кирилла спрашивали, он отвечал, что Зоя придумывает «здоровские истории, не хуже чем в книжках».
Уезжая с дачи, Кирюша по Зое видимо скучал, иногда звонил ей по телефону (она ему не звонила никогда, и это всем было понятно – она же старше), но видеться им не удавалось, потому что дети были еще маленькими и жили в разных концах города.
В начале нынешнего лета одна из дачных соседок спросила у матери Кирилла (ее звали Региной): а вас не беспокоит, что ваш все время с этой девочкой возится? «Да они давно дружат, – удивилась Регина. – А в чем дело-то?» «Дело оно, конечно, ваше, – сказала соседка. – Но я бы на вашем месте остереглась. Странная она и дикая какая-то. И в школе на дому учится. Чему приличному мальчонку научит?»
Против своей воли обеспокоенная Регина начала приглядываться к Зое и вскоре уже не понимала, что видит сама, а что ей мерещится. Почти тринадцатилетняя Зоя контактов со взрослыми избегала, смотрела в землю, на прямые вопросы отвечала односложно, понять что-либо с ее слов было практически невозможно. Зоина мать о семье и дочери тоже практически ничего не говорила, хотя охотно общалась на другие темы и вовсю хвалила Кирилла и их с Зоей детскую дружбу. Остальные дачники, как оказалось, вполне разделяют настороженность первой соседки – что-то там нечисто.
В конце концов Регина извелась, не выдержала, заручилась поддержкой мужа и сказала сыну: Кирюша, а почему ты с другими детьми не играешь? Что тебе эта Зоя, она же бука совсем, пошел бы с мальчиками на костер или на велосипеде покатался. Нечего все время сиднем в кустах сидеть, нам с отцом это не нравится.
– Мне с Зоей интереснее, – спокойно возразил мальчик.
После нескольких бесплодных разговоров был поставлен ультиматум: нужно общаться с другими детьми или хотя бы еще что-то делать, кроме сидения в кустах или на пруду с Зоей. Иначе мы вообще отсюда уедем и больше не приедем никогда.
Через две недели Кирюша исчез. Без всякого протеста, объявления или прощальной записки – просто вышел утром после завтрака из дома и не вернулся. К обеду его искали уже по всему поселку. Тогда же выяснилось, что Зоя тоже пропала.
Прочесывали окрестный лес. На пруду работали водолазы. Регина билась в истерике, обвиняла Зоину мать: ваша старше, это она его увела! Зоина мать молчала, глядя в землю, похоже на дочь. Уже в милиции, когда заполняли бесчисленные бумаги, выяснилось еще страшное, как будто бы без того было мало: у Зои шизофрения, она лечилась в психиатрической больнице, принимает таблетки. Что в этот момент кричала Регина, она не помнит, но ей до сих пор немного стыдно. Но только немного, потому что она (Зоина мать) должна же была предупредить! Она (Регина) к батарее бы своего привязала и от этой дачи, конечно же, сразу бы отказалась!
Потом главный милиционер сказал: будем, конечно, еще искать в округе, но вы же понимаете – месяц прошел, нигде ничего, так что, скорее всего, ищем трупы. Есть крошечный шанс, что уехали зайцами в другие регионы, ориентировки везде разосланы, но они же не профессиональные побегушники-беспризорники, к тому же девочка больная, поодиночке передвигаться не могут – нет смысла; были бы оба живы, где-нибудь засветились бы. Увы.
Еще почти через месяц, в конце сентября, мужчина в одежде грибника вылез из машины у поста ГАИ и сказал: там, три километра назад, у ларька на шоссе мальчонка клянчит объедки, я там себе кофе после грибной охоты покупаю и уже второй раз его вижу. Купил ему две шоколадки. Что-то с ним сильно не так, по-моему, – худой он очень и дикий какой-то, на сельских детей не похож. На вид лет десять-одиннадцать, одет так-то… Непорядок, я чувствую, здесь…
Гаишники, как ни странно, оказались отзывчивыми.
Ларечница мальчишку тоже вспомнила. Согласилась позвонить, если еще появится.
Кирилла отловили прямо на шоссе. Он дико сопротивлялся, бил ногами и руками, кидался со всего размаху на асфальт и кричал, что никуда не поедет, пока не заберут Зою. В лес с ним шли добровольцы из поселка, боялись, что найдут полуразложившийся труп. Прошли около пяти километров. Зоя была жива, безразлично сидела на лавочке в старой, наполовину ушедшей в землю охотничьей избушке. Увидев людей, повела себя много спокойнее, чем Кирилл. Встала и пошла. Мать как будто не узнала. На прощание обняла мальчика и поблагодарила его.
– Как же они жили все это время? – спросила я. – Кирилл рассказывал?
– Нет. Он ничего не рассказывает.
– Ну, вероятно, это травматическая амнезия.
– Я не знаю, что это! – Регина заплакала. – Но моего мальчика будто там подменили, навели порчу! Прошло уже полгода, но он… он…
– Что – он?
– Он почти не разговаривает с нами. Не может учиться. Сидит, смотрит телевизор. Если телевизор выключить или убрать, он продолжает смотреть в пустой экран или в стенку. Чтобы он поел, я должна его уговаривать или заставлять.
– Лекарства?
– Да, конечно. Никакого действия, только еще больше тормозит. Психиатр сказал: на таких препаратах это уже должно было пройти. И не случайно все-таки она его выбрала. Скорее всего, эта трагедия запустила какой-то его собственный процесс… Но у меня был совершенно здоровый мальчик, никакой не психопат, я-то знаю! И это же, у нее, оно не может быть заразным?!
– Напрямую, конечно, не может, – согласилась я. – А где сейчас Зоя?
– В психушке, конечно, где же еще! А может, уже и выпустили ее, я не знаю.
– Кирилл виделся с ней после?..
– Да вы что, с ума сошли?!! – завизжала Регина. – Да чтобы я… да чтобы она…
– Понятно. Я бы хотела увидеть Кирюшу.
Со слов Регины представляла себе что-то такое… ну почти в коме. Но как только мать вышла из кабинета, мальчик стал разговаривать. Не то чтобы уж совсем свободно, но на вопросы через один отвечал.
Однако быстро уставал – пятнадцать-двадцать минут, и всё. Я решила, что это от препаратов. Никакой психиатрии не почувствовала, так матери и сказала. Она сразу ко мне прониклась, стала его водить.
Через некоторое время я уже много знала. Зоя была развита и наблюдательна. Она подробно видела подводный, лесной, древесный и подкаменный миры и рассказывала о них другу, добавляя фантастики из своих видений. Дети уже давно общались с духами леса, воды и облаков. Те передавали им приветы и послания, играли с ними, подшучивали. Дачный мир для Зои был живым, городской – мертвым (к зиме она часто попадала в больницу). Когда стало ясно, что их скоро разлучат, Кирилл сам предложил сбежать. Зоя согласилась не сразу. На подготовку ушло две недели. Она знала подходящую избушку и знала, что их там будут искать. Они взяли вещи, спички, свечи, компас, крупу и консервы. Зоя украла у матери немного денег. Первые дни сидели на островке в болоте и питались хлебом и морошкой. В болоте их не искали. Потом, когда поисковая операция в общем закончилась, заселились в избушку. У Зои еще были таблетки, она их аккуратно принимала. В избушке была буржуйка, но чаще готовили на костре. Собирали грибы. Ходили в два поселка – воровать. На рассвете воровали картошку и всякое другое с огородов, еще украли два одеяла и покрывало с веревок. Было весело. Потом у Зои кончились таблетки, и она стала «залипать», по выражению Кирилла. Иногда ее мучили страшные галлюцинации, и тогда Кирилл успокаивал ее, прижимая к себе и рассказывая все, что в голову придет. Она успокаивалась, но уже не могла ходить за едой и прочим. Кирилл взял все это на себя. Зоя, когда ей становилось получше, бродила по округе, собирала хворост и дрова, приносила воду с ручья, разводила огонь. Когда ситуация ухудшалась, просто сидела на лавке и раскачивалась. Однажды Кирилл увидел, как человек у ларька на шоссе выбрасывает в ящик почти не тронутый гамбургер. Это навело его на новую, продуктивную мысль. Зоя мысль одобрила, но сказала, чтобы у женщин он не просил никогда – они подозрительные и приставучие. Мужчины действительно никогда ничего у мальчика не спрашивали, один даже купил для Кирилла в ларьке две пачки чаю, пачку сахара и два кило риса – даже интересно, что он при этом подумал?
Да, он понимал и понимает, что Зоя больна. И что? Да, он знает, что духов облаков по правде не бывает. И что? Да, конечно, в школе нужно учиться. А зачем? Мама, разумеется, за него переживает. И что?
Я вроде бы установила с мальчишкой такой хороший, качественный раппорт, но оказалась в абсолютном, глухом тупике. Ничего никуда не двигалось. Но я уже догадывалась и однажды спросила напрямую:
– Как ты относишься к Зое сейчас?
– Я ее люблю, – просто ответил он. – И она, я знаю, любит меня.
Вот так. И ничего нельзя сделать.
Я не могла сказать его матери: позвольте им видеться. Потому что она сразу начинала визжать.
Я не могла сказать ему: время лечит. Потому что я знаю, что это не всегда так.
Я не могла сказать ему: полгода назад ты ушел в ее мир, это было неправильно и едва не привело к страшной трагедии; теперь тебе надо попробовать вывести ее в наш мир, у тебя есть шанс. Ему двенадцать, ей – тринадцать, у нее шизофрения, все невозможно.
Я не знаю, что сейчас с ними стало. В любом случае они выросли. Но вот жили и любили такие дети. И я вам о них рассказала.
Голос
Это было много лет назад. Я работала в поликлинике уже несколько лет, чему-то подучилась после окончания университета (получила специализацию по медицинской психологии в Институте усовершенствования врачей), понемногу собрала удобные для себя методики и уже поняла, что самый привлекательный и адекватный для меня способ работы – это психологическая консультация.
Мать пришла без дочери. Ее голос звенел близкими слезами, а руки комкали полу кофты.
– Я не знаю, что делать! Мне так страшно! – сказала она.
– Присаживайтесь и рассказывайте. Сейчас во всем разберемся, – уверенно сказала я, никакой уверенности внутри себя не чувствуя. Я проработала практическим психологом уже достаточно, чтобы отчетливо видеть: здесь проблемы не с учительницей математики или курением самой девочки.
Девочка Алла всегда была не без странностей. В четыре года спрашивала взрослых: вы чувствуете, как пахнут облака? Неужели не чувствуете? А хотя бы как поет небо, слышите? Потом как-то поняла, что ее вопросы вызывают обескураженность в лучшем случае, и спрашивать перестала. Приблизительно тогда же говорила, что у нее есть свой ручной говорящий енотик, который к ней приходит, когда никто не видит. Енотика звали Иеронимус.
Никогда не любила играть с детьми. Играла по преимуществу одна. Потом стала выбирать себе одну подружку, обычно из тихих, не очень умных девочек. Когда исчезала одна (родители Аллы так и не поняли, как именно заканчивались отношения, но одно можно сказать наверняка: их дочь всегда была совершенно неагрессивна), почти сразу появлялась другая. Мамы подружек иногда делились с мамой Аллы: послушайте, ваша нашей такие странные вещи рассказывает! «Какие же?» – напрягалась женщина. «Да черт его знает! – пожимала плечами подружкина мама, как правило, тоже не блиставшая умом. – Говорю ж вам: странные!»
Впрочем, с годами странности Аллы как будто сглаживались. Она неплохо училась в начальных классах (в средней школе успеваемость снизилась), потом два года с удовольствием посещала театральный кружок. В целом оставалась домоседкой, много читала, перезванивалась с одноклассниками, неохотно, но все же помогала по дому, изредка ходила гулять.
Никаких особых проблем с девочкой никогда не было, но…
– Сама не знаю, почему, но я с ней никогда не могла расслабиться, – призналась мама Аллы. – Как будто все время ждала какого-то подвоха. Она много лет ничего такого не делала и не говорила, но я… С ней никогда не было легко.
– Может быть, это вам теперь, задним числом, так кажется?
– Нет, нет! Моя мама, когда была жива, тоже это говорила.
– А ваш муж, отец Аллы?
– Он всегда на работе или в телевизоре и ничего вокруг не замечает.
– Но что же произошло теперь?
Наступление подростковости поначалу ничем особым на Алле не отразилось. В тринадцать лет она вставила сережку в ноздрю, немного почитала про каббалу, немного послушала группу «Раммштайн» и как будто бы угомонилась.
Но спустя еще год совсем перестала общаться с приятельницами и часто часами сидела в своей комнате с закрытыми шторами и выключенным светом.
– Что ты там делаешь?! – спрашивала мать.
– Ничего. Думаю, – отвечала Алла.
Потом девочка стала запираться в ванной, где тоже выключала свет и вообще непонятно что делала. Иногда ночью спала в одежде. Стала очень избирательна в еде. А потом наступило самое страшное: Алла начала в пустой комнате с кем-то разговаривать.
– Может быть, несчастная любовь, аффект? Злится на кого-то внутри, выкрикивает вслух в сердцах? У подростков бывает…
– Нет. Никаких любвей, вообще отношений не было, я бы знала, она же дома всегда. Она кому-то воображаемому отвечает. Спорит. Иногда можно понять. Например: «Нет! Отстань!»; «Почему это? Я же говорю, что я…»
– Вы наверняка спрашивали ее об этих эпизодах. Что говорит сама Алла?
– «Отстань. Ты не поймешь». Вы думаете, это… это уже оно?
– Что такое «уже оно»? – удивилась я и тут же по выражению лица матери догадалась: – В семье уже была психиатрия?
– Да, – женщина смотрела в пол. – Мой дядя, брат моего отца. Много раз лежал в психушках, покончил с собой в тридцать два года. Их отец, мой дедушка, – скорее всего, тоже, хотя там не точно известно, бабушка от него сбежала и не любила об этом вспоминать…
– Алла ходит в школу?
– Да. Каждый день. Даже если всю ночь просидела в ванной, утром одевается, собирается молча, как робот, и идет. Я спрашивала у классной руководительницы, осторожно, она сказала: да, пожалуй, стала более замкнутой, но это, знаете, такой возраст…Что же мне теперь делать? Вести ее к психиатру?
«Вообще-то, наверное, это было бы самое разумное», – подумала я и сказала вслух:
– А Алла ко мне придет?
Алла была невысокая и пухленькая, с круглым родимым пятном на правом виске. Достаточно для своих лет образованная (много читала). Я почему-то думала, что она будет молчать, но она легко откликалась на самые разные темы.
Вспомнили енотика Иеронимуса. Я ей рассказала, что у моего младшего сына в этом же возрасте был воображаемый друг Максим. Алла видимо расслабилась и оживилась, и я решилась спросить напрямик:
– А с кем ты разговариваешь сейчас?
Лицо девочки стало грустным:
– Понимаете, они и прежде иногда были. Но я раньше думала, что их все слышат. А теперь знаю, что не все.
– Не все, – подтвердила я. – Ты слышишь голоса?
– Да. Иногда это просто как многоголосый шепот или песня без слов… Вы слышали когда-нибудь?
– Да. Я всегда слышу такую многоголосую песню в гуле мотора старых автобусов.
– Точно! – обрадовалась Алла. – Именно так! Я ее тоже слышала, когда мы с родителями на автобусе в Судак ехали. А иногда… они говорят дурацкое… и еще, бывает, накатывает такая темная волна…
– Что ты тогда делаешь?
– Когда волна, надо просто сидеть в темноте и не шевелиться, она рано или поздно уйдет. Если начать суетиться, делать что-то – тогда хуже. От голосов помогает не спать. Когда очень устаешь, они замолкают. Еще помогает ходить в школу. Там они почти всегда молчат… А вот когда я гуляю с подружками, очень мешают, я раздражаюсь, девочки думают, что на них…
– А сейчас?
– Сейчас молчат. Может быть, тихо-тихо на заднем плане, как прибой, но это даже успокаивает.
– Они… эти голоса… они тебя к чему-то призывают? Велят что-то сделать?
– Обычно нет. Просто стыдят. Говорят, что я сумасшедшая и меня посадят в психушку. Еще со мной никто никогда не будет целоваться и вообще дружить. Иногда вот не велят раздеваться, говорят, это стыдно… Иногда – что надо помыться… часиков так пять-шесть… Вы знаете, я не хочу в психиатрическую больницу…
– Это понятно, – вздохнула я. – Кто ж туда хочет!
– А что вы скажете моей маме?
Что же я скажу ее маме? Что это, скорее всего, психиатрия? Что нужно идти к психиатру, класть на обследование, лечить таблетками или уколами? Мне на поликлинику много лет приходит журнал «Психиатрия и психофармакотерапия». Там был большой переводной обзор про шизофрению со статистикой по разным странам. Все страны разделены на три группы: где хорошая медицинская помощь таким больным, где средняя и где, считай, никакой. Разные лекарства, количество госпитализаций, восприимчивость к препаратам, а про страны, где почти не лечат и надеяться людям и семьям не на что: «Значительная часть больных дольше, чем в двух других группах, сохраняет социальное функционирование». «Ребята, вы сами поняли, что написали?» – подумала я, дочитав этот обзор.
Она же пока сама держится. На пределе, да, но – своими силами. Все явно запустилось гормональной перестройкой – обычное дело для дебюта всяческих психиатрий. Может ли быть потом «отлив», ремиссия? Может быть, я это знаю доподлинно.
Сколько я видела всяких шарлатанов, которые утверждали, что шизофрению можно лечить психодрамой, глубинной психотерапией, трансперсональной коррекцией или танцами! Порядочно. Встать в их ряды?
– Там, среди них, есть один, – напомнила о себе Алла. – Он говорит: держись, не сдавайся, тогда прорвешься. Я ему иногда верю, иногда нет.
Шизофренический голос, поддерживающий носителя симптома? О таком я ни разу до этого не слышала.
– Это тебе повезло. Но они у тебя вообще мирные.
– Так ведь и я сама мирная, – улыбнулась Алла. – Откуда бы взялось?
– Да, мирная. А еще умная и сильная, – твердо сказала я. – И тот твой голос прав: пока ходишь в школу, пока сохраняется социальное функционирование из того чертового обзора, у тебя есть шанс прорваться.
– Не сдавайте ее пока! – сказала я матери. – Ее мозг сражается. Ее демоны не слишком агрессивны, как иона сама. Антипсихотические лекарства уберут позитивную симптоматику, но одновременно снизят ее собственный защитный потенциал. Давайте еще подождем и обсудим, как вы можете поддержать ее в семье. Тут главное – не навредить.
– Спасибо вам! Я так надеялась, что вы именно это скажете, – со слезами на глазах сказала женщина.
Я ненавидела себя. У девочки была психиатрия. Сейчас или потом она приведет ее к краю… А нас учили: чем раньше начато лечение, тем лучше качество ремиссии. По крайней мере, первой из них… Я должна была направить их к специалисту.
Моя искренность с читателями имеет предел. Если бы не окончание этой истории в реале, я бы никогда вслух не призналась – так и носила бы в себе, как не неудачу даже, а этический казус, в котором я повела себя вопреки профессиональной этике.
Она гуляла на детской площадке. Бесполый на вид ребенок был в дутом розовом комбинезоне – наверное, девочка.
«Не может быть!» – подумала я и стала заходить справа – там должно быть родимое пятно. Висок прикрывала прическа, но она заметила мой пристальный взгляд и мои маневры. Присмотрелась и уютным жестом прижала ладонь к круглой щеке.
– Не может быть! – воскликнула она. – Неужели вы все еще здесь работаете?!
– Ага, – кивнула я, не найдясь, что сказать еще. Не спрашивать же у выросшей Аллы: «Как же тебе удалось не сойти с ума?»
– Ой, я так рада вас видеть! Вы знаете, я даже хотела потом еще к вам прийти, особенно когда беременная была, но думала, что вы уже не работаете, наверное, да и не примете без ребенка…
– Ну почему же…
– Мы к вам запишемся и придем, – твердо сказала Алла. – Ей уже два с половиной года, а она все еще с соской засыпает. Все говорят, что это безобразие, но я не знаю, как…
– Конечно, приходите, обсудим.
Я уже уходила, довольная, как налопавшийся сметаны кот, когда она окликнула меня:
– А вы помните, тот голос, который тогда велел мне не сдаваться?
Я молча кивнула, снова начиная бояться.
– Он потом был немножко на ваш похож! – Алла лукаво улыбнулась, а я сама ощутила на своем лице растерянную гримасу. – После школы они у меня вообще дрессированные стали. А сейчас я так с ней не высыпаюсь, что вообще ничего. Хоть на старом автобусе поезжай кататься, чтобы послушать…
Да, чуден мир. Много кем мне приходилось в жизни побывать, но вот голосом в чужой голове…
Неудачный день
Читатели моей колонки и книжек часто говорят (или пишут): эка как вы ловко всякие сложные психологические случаи распутываете и как оно у вас все легко и складно получается! Гамма чувств, с которыми это говорится (пишется), многообразна: от искреннего восхищения (бывают же профессионалы!) до совершенно откровенного недоверия (привирает наверняка психолог, но ведь никогда же не признается!). Когда реплика не риторическая и подразумевает мой ответ, я прилежно и однообразно отвечаю, что я, разумеется, выбираю для своей колонки (книжек) самые яркие и показательные случаи, да и к тому же каждую историю всегда компилирую из нескольких 1) для соблюдения этических норм и 2) чтобы было поинтереснее читать. Сама же по себе повседневная работа практического психолога гораздо менее яркая и интересная, и в ней гораздо больше неудач, чем получается в публицистически-литературном варианте ее описания.
Но все равно количество данных реплик и удивлений таково, что мне показалось полезным и информативным для моих постоянных читателей описать типичный неудачный для психолога день. Причем речь здесь будет намеренно идти не о ярких, сложных случаях, в которых психолог так и не сумел разобраться (такое я регулярно описываю), и не о случаях крайне тяжелых, когда толком и помочь-то ничем нельзя (об этом я тоже писала неоднократно), – тут именно рутина, все достаточно просто и понятно, но, увы мне, неудача за неудачей.
Итак, типичный неудачный день практического психолога, то есть меня.
Вечерний прием, четыре семьи.
Первой по записи приходит женщина с девочкой неполных пяти лет. Семья приписана к нашей поликлинике. Девочка почти ничего не говорит – отдельные слова плюс машет руками. Инструкции вроде бы понимает. Явно задержка развития, но какой природы?