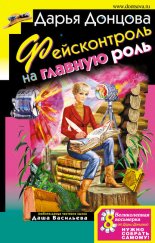Скорбь сатаны Корелли Мария

Глава первая
Знаете ли вы, что значит быть бедным? Не бедным надменной бедностью, на которую жалуются люди, проживающие от пяти до шести тысяч фунтов в год и жалующиеся на невозможность сводить концы с концами, а действительно бедным, положительно, жестоко, отвратительно бедным, отталкивающей, унижающей ужасной бедностью? Бедностью, которая заставляет вас облекаться в одну и ту же одежду, пока она окончательно не изношена и отказывает вам в чистом белье, так как цены за стирку разорительны. Которая отнимает у вас уважение к самому себе и заставляет вас красться смущенным по улицам вместо того, чтобы ходить с поднятой головой, сознавая свое независимое положение, — вот про какую бедность я говорю. Это проклятие, держащее благородное рвение под спудом унизительных забот; это — нравственная язва, въедающаяся в сердце даже благонамеренного человека, который внезапно делается и завистливым, и злым, и готовым на всякое преступление… Когда бедняк видит тучную светскую женщину, развалившуюся в своем роскошном экипаже со следами излишнего питания на лице, и безмозглого, сладострастного молодого человека, шатающегося часами без дела, как будто весь свет с его миллионами честных тружеников, сотворен лишь для его случайного развлечения, тогда его тихая кровь превращается в яд и его страждущий дух возмущается и восклицает: «Зачем, во имя Бога, существует такая несправедливость? Зачем негодному бездельнику иметь полные карманы золота, благодаря случайной наследственности, тогда как я, работая с утра до ночи, с трудом добываю себе кусок хлеба?
Действительно зачем? Зачем злые люди процветают, как зеленое лавровое дерево? Я часто думал об этом. Теперь, пожалуй, я мог бы решить задачу уже по личному опыту… Но… какой это был бы опыт?.. Кто поверит в его действительность? Кто поверит, что нечто столь странное и ужасающее могло выпасть на долю простого смертного? Никто! Однако это — правда; правда существеннее, чем все то, что считается правдой. Я знаю также, что многие люди переживают теперь точно такие же обстоятельства, какие пережил я, под тем же влиянием, сознавая иногда, что они находятся в греховных тенетах, но обладая слишком слабой волей, чтобы вырваться из сети, в которую они самовольно впутались. Выучатся ли они уроку, которому выучился я, в страшной школе, под руководством ужасного наставника? Сознают ли они, как я сознал, до самых мелких фибр моего умственного понимания, неопровержимое существование обширного, индивидуального деятельного ума, невидимого, но неустанно работающего за завесой всеобщей материи, словом вечного и несомненного Бога? Если так, то темные задачи станут для них светлыми; они поймут, что кажущаяся им несправедливость, в действительности великое Правосудие. Но я не пишу с целью убедить своих товарищей — людей. Я слишком хорошо знаю их упрямство, я сужу о них по себе. Гордая самоуверенность некогда съедала меня, и я понимаю, что другие могут быть в том же положении. Я только хочу передать различные приключения моей карьеры в том порядке, как они случились, предоставляя более светлым умам задачу объяснить суть человеческого существования, насколько возможно ясно и хорошо.
В одну холодную зиму, оставшуюся в памяти у всех, за ее необыкновенную суровость, когда огромная волна сильнейшей стужи распространилась не только по благословенным островам Великобритании, но и по всей Европе, я, Джеффри Темпест, находился в Лондоне и умирал с голоду. Голодающий человек редко внушает должную симпатию и мало кто верит в действительность его нужды. Почтенные люди, только что наевшиеся досыта, недоверчивее всех; некоторые даже улыбаются иронически, когда им говорят о голодающих, как будто это случайная шутка, выдуманная для послеобеденного развлечения. Или с возмутительной невнимательностью, характеризующей светских людей до такой степени, что они задают вопросы и не дожидаются, или не понимают ответа, хорошо покушавшее собрание, услыхав о чьей-нибудь голодной смерти, лениво роняет слова: „Как это ужасно!“ и немедленно приступает к разбору последней новости, изобретенной для приятного препровождения времени…
Быть голодным, это так грубо и пошло; это никак не может служить темой для разговора в воспитанном обществе, поевшем всегда больше, чем того требует организм. Но в том периоде, о котором я говорю, я, ставший впоследствии человеком, которому завидовали все, знал слишком хорошо жестокое значение слова „голод“; знал гложущую боль и страшную смертельную слабость, вызванную им, и ненасытное животное рвение к пище; одним словом, все ощущения, которые достаточно скверны для людей, привыкших к ним, но которые, пожалуй, еще ужаснее, когда они испытаны впервые человеком, принадлежащим, как ему кажется, к высшему свету! Я чувствовал, что не заслуживал тех страданий, которые местами приходилось переносить. Я работал усердно, с самой смерти моего отца, как только узнал, что все состояние, которое по моим ожиданиям должно было перейти мне, едва хватит на уплату кредиторов, и что ничего, со всего дома и имени, не останется мне, кроме разве золотой рамки с миниатюрой матери, умершей, когда я родился; с самого того времени, повторяю я тянул лямку и трудился неустанно! Пользуясь своим университетским образованием, я занялся литературой. Я искал работу, кажется, во всех Лондонских редакциях: многие отказывали мне, другие брали меня на пробу, но ни от кого я не мог добиться постоянного жалованья. Всякий, кто хочет содержать себя исключительно трудом мозгов и пера, рискует вначале быть отвергнутым. Его усилия осмеяны, его рукописи возвращены непрочитанными, и им интересуются меньше, чем осужденным убийцей, находящимся в тюрьме. Убийца, по крайней мере, одет и накормлен; изредка снисходительный сторож соглашается поиграть с ним в картишки. Но на человека, одаренного оригинальными мыслями и способностью выражать их, смотрят как на нечто хуже преступника, и весь чиновничий люд соединяется, чтобы общими силами уничтожить его. Я принимал и удары и пинки в угрюмом молчании и продолжал жить, — не из любви к жизни, а просто, потому что я презирал трусость, наталкивающую на самоубийство. Я был еще довольно молод, чтобы не терять надежды, — смутная мысль, что и моя очередь настанет, что вечно кружащееся колесо фортуны, столь жестоко давящее меня теперь, когда-нибудь да подхватит меня, заставляла меня уныло продолжать существование, — но это было бессмысленное существование, больше ничего. В продолжение шести месяцев, я вел критические статьи в одном известном литературном вестнике. Мне посылали тридцать романов в неделю для разбора, я рассматривал наскоро штук восемь или десять и писал на них целый столбец ругани, оставляя другие без всякого внимания. Я пришел к заключению, что эта система вызывала одобрение, — мой редактор был доволен и щедро платил мне в размере пятнадцати шиллингов в неделю. Но в один злосчастный день, я переменил тактику и горячо похвалил произведение, которое по совести отличалось хорошим направлением и безусловной даровитостью. Автор, оказалось, был старым врагом моего редактора; к несчастью для меня, мои похвалы ненавистного ему человека явились в печати; результатом этого было то, что личная злоба взяла верх над общей справедливостью, и я был моментально уволен.
После этого я протянул еще некоторое время, писав сущую дребедень в ежедневных газетах; я существовал обещаниями, которые никогда не исполнялись и дошел до того, что, как я говорил раньше, в начале января этой суровой зимы я очутился без копейки, лицом к лицу с голодной смертью; кроме того я еще задолжал за убогую конуру, которую снимал недалеко от Британского музея. Я провел целый день в поисках за работой, объехал все редакции… Но не было ни одного вакантного места. Я также безуспешно старался поместить свою рукопись; — роман, не лишенный достоинства, но который, по всеобщему мнению чтецов в редакциях, никуда не годился. Эти „чтецы“, как я потом узнал, большей частью сами занимались беллетристикой, и в свободные минуты разбирали присланные в редакцию рукописи. Я никогда не пойму логики этого устройства; для меня это кажется способом поощрять бездарность и угнетать оригинальные умы. Простой разум указывает на факт, что чтец, желающий сохранить свое место в литературном мире, естественно будет скорее поощрять посредственные произведения, чем те, которые могли бы затуманить его славу. Как бы там ни было, и хороша ли эта система или нет, во всяком случае, я и мой злосчастный роман пострадали от нее. Последний издатель, к которому я зашел, был добряк, который посмотрел на мое исхудалое лицо и изношенную одежду с видимым состраданием.
— Мне жаль, — сказал он — очень жаль; но приговор моих критиков единогласен. Насколько я мог судить, вы смотрите на все с серьезной точки зрения, и слишком строго судите современное общество. Это не годится, батюшка! Никогда не нападайте на высшее общество… оно покупает книги. Если бы вы могли написать какую-нибудь любовную повесть, что-нибудь рискованное, — не совсем нравственное, — вот это удовлетворило бы нынешние требования!
— Простите, — перебил я уныло, — вы совершенно уверены в правильности вашего суждения о современном вкусе?
Редактор улыбнулся мягко и слегка насмешливо, как будто удивляясь моему абсолютному неведению.
— Конечно, я уверен, — ответил он. — Я основательно изучил общественный вкус, как изучил собственный карман. Но поймите меня; я не советую вам писать книги на неприличные темы, — вы можете это предоставить передовой женщине, но уверяю вас, что серьезная литература продается туго. Критики не поощряют её; во-первых им и публике нравится одно и тоже: что-нибудь реальное, сенсационное, написанное газетным стилем. Литературный язык — язык Аддисона — ошибка.
— Я тоже ошибка, — сказал я с деланной улыбкой. — Во всяком случае, если то, что вы мне говорите — правда, я должен откинуть перо и заняться другим ремеслом. Я принадлежу к старой школе и считаю литературу за высшее звание; я предпочитаю отказаться от нее, чем добровольно ее унизить.
Редактор посмотрел на меня не то удивленно, не то недоверчиво.
— Ну что же? — заметил он, наконец, — вы ударяетесь слегка в донкихотство, — это пройдет; пойдемте в мой клуб и пообедаемте вместе.
Я стремительно отказался, поняв, что предложение было сделано в виду моего отчаянного положения; гордость, пожалуй, неуместная гордость, пришла мне на помощь. Я быстро распростился с редактором и, схватив отвергнутую рукопись, вернулся в свою убогую квартиру. Когда я подымался по лестнице, меня остановила хозяйка, прося меня уплатить за квартиру не позже следующего дня. Старуха говорила вежливо; видно было, что она сочувствовала мне… Эта жалость уязвила меня столько же, как недавнее предложение издателя пообедать с ним, и с видом почти наглой уверенности, я обещал уплатить следуемые с меня деньги в назначенное время, хотя совершенно не знал, откуда достать требуемую сумму. Достигнув своей комнаты и закрыв дверь на ключ, я швырнул ненужную рукопись на пол и, беспомощно опустившись на стул, начал громко ругаться и проклинать судьбу. Меня это слегка облегчило; хотя я был изнурен голодом, я еще не дошел до слез… Бешеное проклятие было для меня таким же утешением, как приступ рыданий для нервной женщины. Но я не мог плакать, и, несмотря на глубокое свое отчаяние, не был способен обратиться к Богу. Откровенно говоря, в то время я не верил в Бога. Я был вполне доволен собой и презирал старые суеверия и даже саму религию. Конечно, меня воспитывали в христианской вере, но, несмотря на это, духовно я блуждал в каком-то хаосе, — умственно был скован мнениями окружающих, а физически дошел до крайней нужды… Мое положение было отчаянное, и я сам был отчаянный! Если добрые и злые ангелы когда-либо бросают жребий за душу простого смертного, то в этот момент они бросали его за мою душу. Несмотря на все это, у меня было сознание, что я сделал, что мог. Я был загнан в угол людьми, желавшими отнять у меня даже право на существование; но я боролся с ними. Я работал честно и терпеливо, — все было напрасно, и я знал о существовании мошенников, наживавших большие деньги, дураков, скопивших миллионы! Их благосостояние указывало на то, что честность не всегда венчается успехом. Но что мне было делать? Как приступить к иезуитскому „делай зло, чтобы достичь добра“, личного добра?.. Я продолжал размышлять в этом духе, но как-то вяло и бессвязно.
Ночь была чрезвычайно холодная. Мои руки окоченели. Я старался согреть их у керосиновой лампы, которой хозяйка позволяла мне пользоваться, несмотря на запоздалые платежи. Внезапно, я заметил три письма на столе: одно в длинном голубом конверте, похожем на нотариальную повестку или возвращенную рукопись, — другое, с почтовым клеймом из Мельбурна, а третье — толстое квадратное послание с красным золоченым княжеским гербом на обороте. Я равнодушно перевернул все три конверта, потом, взяв Австралийское, подержал его минуту в руке, раньше, чем сломить печать. Я знал от кого оно и старался угадать его содержание. Несколько месяцев тому назад, я написал подробный отчет своих возрастающих долгов и бесконечных неприятностей одному товарищу по школе, который, находя Англию слишком узкой для своего тщеславия, отправился в дальние страны, надеясь наткнуться на золотые россыпи. Я узнал, что его дела шли хорошо и что он создал себе вполне обеспеченное положение; основываясь на этом, я решился попросить у него пятьдесят фунтов в долг. Я держал в руках его ответ, не решаясь открыть его.
— Конечно, — отказ! — сказал я в полголоса. — Как бы товарищ не был хорош с вами, он мгновенно черствеет, когда дело идет о деньгах. Он выразит глубокое сожаление, сошлется на застой торговли и скверные времена для финансовых оборотов и кончит надеждой, что все обойдется! Я знаю все это наизусть! Впрочем, с какого права я требую от него больше, чем от других? Несколько сентиментальных дней, проведенных рука об руку в Оксфорде, — вот к чему сводится наша дружба.
Я невольно вздохнул, и нечто вроде тумана застлало мне глаза. Я увидал опять серые башни мирной Магдалины, и светло-зеленые деревья нашего милого университетского города. Я и товарищ, письмо которого я теперь держал в руках, мы бродили вместе, молодые, счастливые, и воображали, что мы гении, родившиеся специально для обновления миpa; мы оба страстно любили классиков, и были начинены Гомером и мыслями и правилами бессмертных греческих и римских писателей. В то время, мы действительно воображали, что сотворены из того же теста, как герои. Но вступление на общую арену вскоре отняло у нас наше самомнение — мы превратились в простых тружеников — прозаические задачи каждого дня отогнали Гомера на задний план. И мы поняли, что общество интересуется более последним нецензурным скандалом, чем трагедиями Софокла и мудростью Платона. Ну что же? С нашей стороны было несомненно глупо надеяться возобновить мир, тогда как Платону это не удалось, — но даже черствый циник не станет отрицать, что приятно вспоминать дни юности, сознавая, что это время, по крайней мере, не было лишено благородных стремлений…
Лампа тускло горела, и мне пришлось поправить ее раньше, чем приступить к чтению письма друга. В соседней комнате кто-то играл на скрипке и играл хорошо, нежно, иногда даже с некоторым 6pиo; звуки отделялись один за другим, и я прислушался к игре со смутным ощущением удовольствия. Я ослаб от голода и медленно переходил в какое-то полусознательное состояние; захватывающая прелесть музыки, вызывая во мне эстетические и, пожалуй, сладострастные ощущения, уничтожили на некоторое время более животные требования.
— Ну вот, — пробормотал я, обращаясь к незримому музыканту, — ты упражняешься на скрипке ради жалкого вознаграждения, которое еле хватит на твое пропитание. Может быть, ты участвуешь в каком-нибудь дешевом оркестре, или просто играешь на улице, где посреди роскоши ты умираешь с голода! Ты не можешь надеяться попасть в высшие круги и стать модным музыкантом; если же ты надеешься на это, то жестоко ошибаешься! Играй, мой друг, играй! звуки, вызванные тобой, крайне приятны и должны были бы составить, твое счастье! Желал бы я знать, действительно ли ты счастлив или, как я, быстро отправляешься к черту?»
Музыка становилась нежнее и жалостливей под аккомпанемент внезапного ливня, сопровожденного градом. Свирепый ветер врывался сквозь щели дверей и свистал уныло в трубе камина, — ветер, холодный как объятие смерти и пронизывающий как лезвие ножа. Я задрожал и, наклонившись к тускло горевшей лампе, приступил к чтению своих писем. Когда я распечатал письмо из Австралии, на стол выпал чек в пятьдесят фунтов, учитываемый в одном из наиболее известных лондонских банков. Мое сердце застучало от прилива благодарности и облегчения.
— Мой милый Джек! — воскликнул я, — я обвинял тебя напрасно, твое сердце осталось добрым.
И, глубоко проникнутый великодушием своего друга, я стремительно принялся читать его письмо. Оно было не длинное и писанное видимо второпях.
«Дорогой Джеффри, мне было очень жаль узнать, что ты в таком скверном положении; что человек с твоими способностями не может завоевать себе должного места в литературном мире, только доказывает, какое стадо дураков ныне процветает в Лондоне. Мне кажется, что все дело сводится к необходимости нажать некоторые пружины и это возможно только при помощи денег. Посылаю тебе с радостью просимые пятьдесят фунтов, — пожалуйста, не торопись отдавать их. Думаю, ты будешь мне благодарен за то, что я посылаю тебе друга, настоящего друга, неподдельного, уверяю тебя! Я дал ему письмо к тебе, и, между нами, самое лучшее, что ты можешь сделать, это предоставить ему себя и свой литературный труд. Он знает всех и знаком со всеми ухищрениями редакторских приемов и газетных клик. К тому же, он филантроп и всегда рад случаю помочь либо деньгами, либо протекцией. Он очень влиятелен в высших кругах и вытащил меня из крупной неприятности; я страшно благодарен князю и при случае рассказал ему и про тебя: какой ты умный и с каким уважением относились к тебе в нашем милом университете; он обещался поставить тебя на ноги! Он всесилен, это понятно, если принять во внимание, что весь цивилизованный и нравственный мир подчиняется богатству, а у него денег — хоть отбавляй! Воспользуйся им, он только этого и желает; напиши мне, когда твои дела продвинутся. Не беспокойся насчет возврата пятидесяти фунтов, пока твои дела совершенно не поправятся.
Вечно твой
Босслз»
Я улыбнулся, прочитав смешную подпись, хотя в моих глазах стояли слезы. «Босслз» было прозвище, данное ему товарищами, и никто иначе не называл его, кроме профессоров, для которых он был Джон Кэррингтон. Я сложил письмо с чеком и, размышляя, какого рода человек этот филантроп с несметным количеством денег, собрался открыть другие письма, радостно сознавая, что на следующий день могу уладить счета с хозяйкой. Кроме того, мне теперь было возможно заказать себе ужин и одновременно зажечь огонь в унылом камине. Но раньше, чём заняться удовлетворением своего животного я, я открыл длинный голубой конверт, столь похожий на угрожающую повестку, и, развернув лист, просмотрел его с изумлением: что это означало? Строки замерцали перед моими глазами, — удивленный и пораженный я читал и перечитывал написанное, не понимая в чем суть… Наконец, я понял, и нечто вроде электрического тока пронзило меня… Нет! Нет! Это было невозможно! Судьба не бывает столь сумасшедшей, столь игриво и бессмысленно капризной! Это злая шутка, устроенная нарочно, чтобы меня извести. А между тем… если это была шутка, то шутка изумительная! Имеющая также вес закона! Клянусь, новость казалась мне положительно достоверной!
Глава вторая
Стараясь пересилить свое волнение, я медленно перечел документ; мое изумление только усилилось, и у меня промелькнула мысль, что я сошел с ума или заболеваю белой горячкой. Неужели это удивительное, из ряду выходящее известие — правда? Если оно не ложно, то… силы небесные! Мне чуть не сделалось дурно; потребовалась вся моя сила воли, чтобы не лишиться чувств от восторга и неожиданности, — если известие не ложно, то мир принадлежит мне; из нищего я превратился во властелина… все мои самые несбыточные надежды близки к осуществлению! Письмо, удивительное письмо, было озаглавлено именем одного из известнейших нотариусов Лондона и уведомляло меня деловым языком, что дальний родственник моего отца, о котором я мельком слыхал, будучи еще ребенком, скоропостижно скончался в Южной Америка, оставляя мне одному все свое огромное состояние.
«Состояние усопшего достигает цифры свыше пяти миллионов фунтов стерлингов; мы сочтем за большое одолжение, если вы, найдете возможным зайти на этой неделе в нашу контору для личных переговоров. Большая часть капитала находится в Государственном Банке; довольно крупные суммы помещены во французских правительственных рентах. Мы предпочли бы дать вам дальнейшие сведения лично. В надежде вскоре увидать вас, мы просим вас принять уверение и пр.»
Пять миллионов! Я голодающий писатель, безнадежный посетитель редакций, без семьи и без друзей, — я владелец пяти миллионов фунтов! Я старался понять все значение этого удивительного факта, так как это, несомненно, был факт, и не мог! Мне казалось, что я в каком-то диком заблуждении, вызванном в моем усталом уме недостатком пищи. Я оглядел комнату с ее жалкой мебелью, пустым камином, грязной лампой, низкой убогой постелью и всеми признаками крайней бедности, — а потом разразился неудержимым хохотом; до такой степени меня поразил контраст между тем, что меня окружало и известием, которое я получил!
— Что за каприз сумасшедшей фортуны? — воскликнул я громко. — Кто бы мог этого ожидать? Бог мой! Подумать, что я, я избран из всего мира для столь поразительного счастья! Клянусь небесами, если все это правда, то не пройдет месяца, как я заставлю общество кружиться, как волчок, по одному моему мановению!
И я опять громко засмеялся, засмеялся, как ругался раньше, чтобы облегчить себя. Кто-то засмеялся мне в ответ, — это было эхо моего смеха… Испуганный, я остановился и прислушался. Дождь лил по-прежнему, ветер злостно свистал, как разъяренная ведьма, — соседний скрипач исполнял блестящую руладу на своем инструменте, — но других звуков не было. Несмотря на это, я был готов поклясться, что слышал грубый мужской смех, раздавшийся позади меня…
— Это плод моего воображения, — пробормотал я и поднял фитиль в лампе в надежде получить больше света.
— Я просто разнервничался; положим, что это неудивительно! Бедный Босслз! Славный малый, — продолжал я, вспомнив его чек на пятьдесят фунтов, казавшийся мне таким благодеянием еще несколько минут до этого, — какой сюрпризе ожидает тебя… Я возвращу тебе твои деньги немедленно с прибавкой пятидесяти фунтов в виде процентов за твою щедрость. А что касается современного мецената, которого ты посылаешь мне на помощь, он, пожалуй, превосходный старичок, но в этот раз он почувствует себя лишним! Я не нуждаюсь ни в поддержке, ни в советах, ни в покровительстве, — теперь я могу их просто купить! Титулы, почести, поместья — все покупное… Любовь, дружба, положение — продажны в нашем усовершенствованном коммерческом веке и идут к тому, кто больше за них дает. Клянусь своей душой! Этот богатый филантроп не посмеет тягаться со мной! Навряд ли у него больше пяти миллионов… А теперь надо поужинать! Придется есть в кредит, пока я не получу денег, — в общем, отчего бы мне не покинуть сейчас эту отвратительную дыру и переехать в лучшую гостиницу Лондона?
Я хотел было выбежать из комнаты в приливе возбужденности и радости, когда новый сильный порыв ветра прорвался сквозь трубу камина, неся с собой комки сажи, которые упали черной массой на мою отверженную рукопись, брошенную мной в отчаянии на пол. Я быстро поднял и вытер тетрадь, думая, какова теперь будет ее дальнейшая судьба, теперь, когда я могу издать ее сам и не только издать, а напечатать объявления и рекламировать ее по всем правилам искусства, столь знакомого в интимных кружках писателей. Я улыбнулся, подумав, как я отомщу всем, которые до сих пор пренебрегали моим трудом, — как они будут дрожать передо мной, ластиться как наказанные щенки и подобострастно льстить моему таланту! Я заставлю даже самых упрямых преклониться передо мною, — я это решил непременно, — если деньги не всегда побеждают, это лишь потому, что их не сопровождает ум. Деньги и ум вместе могут овладеть миром — иногда ум может достичь этого результата и без денег; над этим серьезным фактом не мешало бы призадуматься и людям без ума…
Поглощенный честолюбивыми мыслями, я безотчетно внимал диким звукам скрипки, долетавшим до меня из соседней комнаты, — звуки, похожие то на отчаянные рыдания, то на беззаботный смех веселой женщины. Я вспомнил вдруг, что еще не открыл третьего письма с княжеским золоченым гербом; оно лежало нетронутое на столе. Я поднял его и принялся распечатывать толстый конверт с каким-то непонятным чувством отвращения. Вынув, наконец, сложенный лист толстой бумаги, украшенной гербом, я прочел следующие строки, написанные удивительно четким и красивым, хотя мелким почерком.
«Милостивый Государь, у меня есть письмо к вам от Вашего бывшего товарища Кэррингтона, живущего ныне в Мельбурне; он был так добр, что дал мне возможность познакомиться с человеком, который, как я понял, одарен священными дарами литературного гения. Я заеду к Вам сегодня между 8 и 9 часами вечера в надежде застать вас дома незанятым.
Присылаю свою визитную карточку с адресом…
Преданный Вам
Лючио Риманец»
Карточка, про которую он писал выпала на стол. На ней виднелась маленькая изящная корона над словами:
Князь Лючио Риманец.
А в углу значился адрес, написанный карандашом: «Гранд Отель».
Я перечел краткое письмо. Оно было просто, вежливо и понятно. В нем не было ничего замечательного, положительного, но мне оно вдруг показалось полным скрытого смысла, — почему? — я не мог понять. Какая-то чарующая сила приковывала мой взгляд к характерному смелому почерку, и я подумал, что человек, писавший эти строки, обязательно понравится мне.
Но как же уныло свистел ветер; скрипка продолжала рыдать, как одушевленная заблудившаяся душа страждущего музыканта! У меня помутилось в голове и сердце болезненно сжалось; равномерное капание дождя казалось мне приближением приставленного ко мне шпиона. Я делался нервным и раздраженным, — предчувствие чего-то злого, какой то беды омрачило светлое сознание моего неожиданного счастья. Потом прилив стыда владел мною — стыда, что этот иностранный князь, владелец несметного богатства посетил меня, меня, миллионера, — в столь убогой квартире; несмотря на то, что я еще не дотронулся до своего богатства, я был охвачен мелким низким желанием притвориться, что я никогда действительно бедным не был. Если б у меня был хоть шиллинг, я бы послал телеграмму незнакомцу, прося его отложить свой визит, но у меня его не было….
— Во всяком случае, — сказал я, громко обращаясь к пустой комнате и к бушующему ветру, — я не встречу его сегодня; я отлучусь, не сказав куда — и, если князь придет, то подумает, что я еще не получил его письма. Я назначу ему свидание, когда буду на другой квартире и одетый как подобает моему положению; а между тем, ничего нет легче, как избежать встречи с этим непрошенным покровителем.
Пока я еще говорил, мерцающая лампа вдруг вспыхнула и потухла, оставляя меня в полном мраке. С восклицанием более громким, чем приличным, я начал разыскивать спички или в крайнем случае шляпу, — но я еще был занят неудачными поисками когда услыхал лошадиный топот, остановившийся как раз под моим окном. Я остановился и прислушался. Внизу раздался какой-то шум, я различил голос хозяйки, говорившей вежливо и подобострастно; ей ответил приятный мужской голос; наконец шаги, твердые и ровные, начали медленно подыматься по лестнице и остановились на моей площадке.
— Черт вмешался в это дело, — пробормотал я сквозь зубы. — Вот мое счастье! Пришел именно тот человек, которого мне хотелось избежать.
Глава третья
Дверь открылась, и, благодаря темноте, я мог лишь различить высокую тень, стоящую на пороге, хорошо помню впечатление, которое произвел на меня этот странный облик, преисполненный столь величественной силой, что я невольно обомлел и едва расслышал слова моей хозяйки.
— Господин желает вас видеть, — сказала она и остановилась в досаде, увидав полный мрак в моей комнате. — Каково? — воскликнула она, — лампа потухла, — потом обращаясь к посетителю, она прибавила:
— Боюсь, что мистер Темпест вышел; хотя я видела его полчаса тому назад. Если это вас не затруднит, то подождите минуточку, я принесу свечку и посмотрю, не оставил ли он записку на столе.
Она быстро удалилась и, хотя я знал, что мне следовало заговорить, какое то злобное чувство заставляло меня молчать и не выдавать своего присутствия. Между тем незнакомец сделал два-три шага вперед, и звонкий голос с насмешливым оттенком раздался:
— Джеффри Темпест, вы тут?
Зачем я не ответил? Необъяснимое, необычайное упрямство удерживало меня, — скрытый в темноте моей убогой комнаты я упорно молчал.
Величественный облик приблизился; рост и ширина незнакомца угнетающе подействовали на меня: еще раз голос повторил:
— Джеффри Темпест, вы тут?
Мне было стыдно дольше молчать: сделав над собой усилие, я победил свое непонятное упрямство, сделавшее из меня жалкого труса, и, храбро выступив вперед, я стал перед моим посетителем.
— Да, я здесь, — сказал я, — но мне неудобно так принимать вас! Вы, конечно, князь Риманец, я только что прочел вашу записку, предупреждавшую меня о вашем посещении, но я надеялся, что моя хозяйка, увидав темноту, решит, что меня нет, и уведет вас. Вы видите, я совершенно откровенен.
— Да, действительно, — ответил незнакомец, и в его звучном голосе послышалась насмешка… — Вы так откровенны, что я не могу не понять вас. Откинув вежливость в сторону, вы негодуете на меня за мой несвоевременный визит и желали бы, чтобы я не пришел.
Точное объяснение моего настроения показалось мне столь неучтивым, что я поспешил опровергнуть его, хотя знал, что оно было правильно. Правда, даже в мелочах, всегда неприятна.
— Пожалуйста, не считайте меня за грубияна, — сказал я, — дело в том, что я открыл вашу записку лишь несколько минут назад, и раньше, чем я мог сделать какое либо распоряжение для вашего приема, лампа у меня потухла, и я вынужден приветствовать вас сквозь такую темноту, что даже не могу подать вам руки.
— А все-таки попробуем, — сказал посетитель смягченным голосом, придавшим какую-то чарующую силу этим ничтожным словам. — Вот моя рука: — если в вашей руке кроется инстинктивная дружба, то они сойдутся и без внешней помощи.
Я немедленно протянул руку и почувствовал теплое, но властное пожатие. В ту же минуту комната озарилась светом, моя хозяйка взошла, неся с собой зажженную лампу, которую она поставила на стол. Она, кажется, удивилась, увидав меня, — но сказала ли она что-нибудь или нет — не помню, — я был так удивлен и очарован видом незнакомца, тонкая, изящная рука которого не выпускала мою, что я ничего не видел и ничего не слышал. Я сам не маленького роста, но князь был, по крайней мере, на пол головы выше меня; пристально вглядываясь в него, я пришел к заключению, что никогда ещё не видал человека, наружность которого соединяла такую разительную красоту с выражением столь глубокого разума. Голова, красивая по форме, выражала силу и мудрость и была поставлена на плечи, которых не устыдился бы и сам Геркулес, лицо представляло чистый, белый овал и было удивительно бледное; эта бледность усиливала блеск его больших темных и слегка выпуклых глаз, привлекающих своим странным выражением, не то веселости, не то горя. Самой характерной чертой этого лица, был, пожалуй, рот: обладая красивыми изгибами, он был, тем не менее, тверд и решителен и своей величиной избегал женственности; в спокойном положении, он выражал иронию, едкость и даже жестокость, но освещенный улыбкой, этот рот намекал, или мне казалось, что он намекал, на нечто более субтильное, чем все известные нам страсти, и с быстротой молнии в моем уме сверкнул вопрос, что это мистическое, необъяснимое ничто могло бы быть? С первого взгляда я оценил все изящные качества моего нового знакомого, и мне показалось, что я знаю его давно. Но вдруг, при свете принесенной лампы и лицом к лицу с моим посетителем, я вспомнил все, что окружало меня: пустую холодную комнату, отсутствие огня, черную сажу, загрязнившую голый пол, мою изорванную одежду, придававшую мне столь печальный вид, в особенности рядом с этим горделивым князем, носившем на себе столь явные признаки богатства, как роскошная соболья шуба, которую он небрежно откинул, не переставая смотреть на меня с улыбкой.
— Я знаю, что пришел в неурочный час, — сказал он, — но я всегда, так прихожу. Это мое несчастье! Воспитанные люди никогда не вторгаются туда, где их не просят, — я боюсь, что в этом случае мое воспитание хромает. Постарайтесь простить мне ради этого, — и он подал мне письмо, на котором я увидал знакомый почерк Кэррингтона. — И позвольте мне присесть, пока вы прочтете мой оправдательный документ.
И, приблизив к себе стул, князь Риманец сел: его красивое лицо и плавные движения положительно очаровывали меня.
— Никаких документов не нужно, — сказал я с искренним радушием. — Я уже получил письмо от Кэррингтона, в котором он говорит о вас с восторженной благодарностью. Но дело в том… простите меня, князь, если я кажусь вам удивленным и растерянным… но я думал встретиться с довольно пожилым человеком…
Я остановился, смущенный пристальным взглядом его блестящих глаз, уставленных на меня.
— В наше время, милостивый государь, никто не стар, — объявил князь шутливо, — даже дедушки и бабушки игривее в пятьдесят лет, нежели в пятнадцать! В высшем обществе совсем не говорят о летах, — это невоспитанно, почти непристойно! О неприличных вещах говорить нельзя, — и возраст стал неприличным, поэтому избегают в обществе говорить о нем. Вы ожидали встретить старого человека? Вы не ошиблись, я стар; Вы не можете себе представить, как я действительно стар!
Я улыбнулся этой нелепости.
— Да вы моложе меня, — сказал я, — по крайней мере, вы моложе на вид.
— Вид бывает обманчив, — ответил Риманец весело, — я, как многие из известных красавцев столицы, гораздо старше, чем кажусь! Но прошу вас, прочтите письмо, которое я принес вам; я не успокоюсь, пока вы этого не сделаете.
Желая искупить чрезвычайною учтивостью свою прежнюю грубость, я исполнил просьбу князя и, открыв письмо, прочел следующее:
«Дорогой Джеффри!
Податель сего, князь Риманец, из ряда выходящий ученый и принадлежит к одному из самых старых родов не только Европы, но, пожалуй, и мира! Тебе, как любителю древней истории, будет интересно знать, что его предки первоначально были князьями Халдеи, поселившиеся впоследствии в Тире, откуда они переехали в Этрурию, где оставались веками; последний отпрыск этого знаменитого рода и есть тот одаренный и благодетельный человек, которого, как хорошего друга, я рекомендую твоему особому вниманию. Непредвиденные обстоятельства, слегка бурного свойства, заставили его покинуть родину, причем он потерял часть своего состояния, так что теперь он более или менее странник на лице земли; но благодаря этому он видел многое и обладает весьма широким опытом. Кроме того, князь замечательный поэт и музыкант и хотя он занимается искусствами исключительно для собственного развлечения, я думаю, что его практические знания литературного дела послужат тебе в твоей трудной литературной карьере. Спешу прибавить, что касательно науки, он абсолютно всеведущ. Посылаю вам обоим уверенности в своей искренней дружбе и остаюсь
преданный тебе
Джон Кэррингтон».
Обычная подпись «Босслз» верно казалась писателю неуместной, но почему-то отсутствие ее огорчило меня. В письме звучало нечто принужденное, сухое, как будто оно было написано под чьим-то давлением. Отчего мне явилась эта мысль, не знаю? Я взглянул исподтишка на моего посетителя, — он поймал мой взгляд и в свою очередь посмотрел на меня пристально, как бы допытываясь чего-то. Боясь, что мое смутное недоверие выразилось у меня в глазах, я поспешил заговорить:
— Это письмо, князь, лишь увеличивает во мне чувство стыда и сожаления, вызванное моим грубым поведением в начале вашего визита. Никакие извинения не могут изгладить моей вины, но вы не можете себе представить, как я удручен и унижен, что должен был принять вас в столь неподходящей обстановке; я желал бы приветствовать вас совсем иначе…
Тут я остановился, раздраженный мыслью, что, в сущности, я чрезвычайно богат, но пока еще кажусь бедным. Князь махнул рукой, как бы отгоняя мои ненужные извинения.
— Зачем вы огорчаетесь? — спросил он, — радуйтесь скорее, что вы можете обойтись без обычной пошлой роскоши. Гений процветает на чердаке и умирает в хоромах, — разве это не общепринятая теория?
— Но это устарелая и ошибочная теория, — возразил я, — Гений жаждет попытать счастье во дворце, так как его обычная судьба — голодная смерть.
— Верно; но подумайте, сколько дураков он кормит, умирая! Над всем этим, милостивый государь, царит мудрое Провидение. Шуберт умер от нужды, — но, сколько заработали на его произведениях музыкальные издатели? Это закон справедливости: жертвовать честными людьми, дабы олухи не пропадали!
Князь засмеялся; я посмотрел на него с некоторым удивлением. Его замечание было так похоже на всегдашние мои мысли, что я не знал, говорит ли он серьезно или нет.
— Вы конечно шутите, — сказал я, — вы ведь не верите тому, что сказали?
— Ах, неужели я не верю, — воскликнул он и глаза его сверкнули, как молния, — если я не верю учету собственного опыта, то что же остается мне? Уверяю вас, дьявол правит миром с кнутом в руке, — и как это ни странно, принимая в соображение, что есть же еще отсталые люди, верящие в Бога, он справляется со своим цугом довольно легко!
Князь нахмурился и злобные черты вокруг рта как бы углубились, — потом он опять весело засмеялся и прибавил:
— Но к чему это нравоучение? — оно лишь претит духов; всяк разумный человек ненавидит, если ему говорят, как он должен поступать, но как он поступать не хочет! Я пришел сюда, чтобы подружиться с вами, если вы это позволите; откинемте дальнейшие церемонии; прошу вас, поедемте со мной в гостиницу, где я остановился и где уже заказал ужин на нас обоих.
Я был окончательно очарован его приятными манерами, красивой наружностью и звучным голосом; насмешливый поворот его мыслей был мне по душе: я почувствовал, что мы поладим друг с другом, и раздражение, вызванное во мне тем, что князь застал меня в столь бедной обстановке, слегка улеглось.
— С удовольствием, — ответил я, — но, сперва, позвольте вам объяснить мое положение. Вы уже слышали про мои скверные обстоятельства от моего друга Джона Кэррингтона, и я знаю по первому его письму, что вы пришли ко мне исключительно по доброте и мягкосердечности. Благодарю вас за ваше благое намерение. Вы думали найти несчастного литератора, борющегося за существование под страшным гнетом бедности и неудачи, и два часа тому назад вы были бы правы, но с тех пор обстоятельства изменились: я получил известие, радикально повлиявшее на мое положение; одним словом, сегодня вечером случилось для меня нечто неожиданное и удивительное…
— Надеюсь, приятное? — мягко перебил меня князь.
Я улыбнулся.
— Посудите сами, — и я протянул ему письмо нотариуса, извещавшего меня о неожиданном наследстве.
Князь быстро просмотрел письмо, потом сложил его и с вежливым поклоном передал его мне.
— Пожалуй, мне следует поздравить вас, — заметил он. — Итак, поздравляю вас, хотя это богатство, которое, по-видимому, удовлетворяет вас, мне лично кажется ничтожным! Без особенного труда, вы можете прожить его через каких-нибудь восемь лет, а потому оно не гарантирует вам абсолютную беззаботность. Чтобы быть богатым, действительно богатым, следовало бы иметь миллион в год. Это давало бы право надеяться не покончить свою жизнь в богадельне.
Он засмеялся; я же глупо уставился на него, не зная, как принять его слова — за правду или пустое хвастовство! Пять миллионов фунтов чистыми деньгами — ничтожество? Князь продолжал говорить, как бы не замечая моего замешательства.
— Неистощимая жадность человека никогда не может быть удовлетворена! Если он не жаждет одного, то жаждет другого, и его вкусы почти всегда дороги. Несколько красивых и легкомысленных женщин быстро избавят вас от ваших миллионов покупкой одних лишь драгоценных камней. Игра на тотализаторе подействует еще быстрее. Нет, нет, вы не богаты! Вы еще бедны; только ваши нужды не так существенны, как прежде. Сознаюсь вам: я слегка разочарован; я пришел к вам в надежде помочь кому-нибудь хоть раз в жизни, — роль кормильца восходящего гения меня прельщала, а оказывается я предупрежден, как всегда! Как это ни странно, тем не менее, это факт: достаточно мне иметь какое-нибудь намерение по отношению к человеку, чтобы быть предупрежденным, так или иначе. Какая горькая судьба!
Князь остановился и поднял голову, как бы прислушиваясь к чему-то.
— Что это? — спросил он.
В соседней комнате скрипач разыгрывал знакомую Аве Mapию; я объяснил ему, в чем дело.
— Мрачно, очень мрачно, — сказал он, насмешливо пожимая плечами. — Ненавижу такую скучную музыку! Ну, что же? хотя вы и миллионер и вскоре будете правилом высшего общества, вам не кажется, что нет препятствий к предложенному ужину? А потом в увеселительный сад, что вы на это скажете?
И князь радушно хлопнул меня по плечу, упорно глядя мне в лицо своими удивительными глазами, в которых, казалось, отражались огненные слезы. Его блестящий повелительный взгляд совершенно покорил меня; я не сопротивлялся странному влечению, тянувшему меня к человеку, с которым я только что познакомился. Это чувство было слишком приятно, чтобы я стал бороться с ним. Одну минуту я начал было колебаться, вспомнив свою истасканную одежду.
— Я не пригож для вашего общества, князь, — сказал я, — я похож более на бродягу, чем на миллионера.
Риманец взглянул на меня и улыбнулся.
— Вы не правы, — воскликнул он, — вы этим не отличаетесь от многих крезов! Только бедняки и гордецы стараются одеться хорошо, — они и шаловливые дамочки пользуются красивой одеждой. Скверно сшитый сюртук большею частью украшает первого министра; если вы встретите женщину в ужасно некрасивом платье по цвету и по фасону, будьте уверены, что она нравственна, занимается благотворительностью и по меньшей мере герцогиня.
И, запахнув свою соболью шубу, князь медленно встал.
— Какое дело нам до сюртука, если карман полон, — продолжал он весело, — достаточно того, чтобы газеты хоть раз протрубили о ваших миллионах, и уже найдется предприимчивый портной, который выдумает пальто «а-ля Темпест», мягко оттененное, как ваше нынешнее пальто в неопределенно-зеленый цвет! А теперь, пойдемте; известие вашего нотариуса должно было придать вам хороший аппетит, или оно не так важно, как вы говорите; я хочу, чтобы вы отдали должное моему ужину. Мой повар всегда ездит со мной и, не хвастаясь, могу сказать, что он чрезвычайно искусен! Надеюсь, между прочим, что вы позволите мне оказать вам хоть одну услугу, а именно, пока не уладятся все законные формальности по вашему наследству, позвольте мне быть вашим банкиром.
Предложение было сделано с видом такой изысканной деликатности и дружбы, что я не мог не принять его с благодарностью, тем более, что оно выводило меня из временных стесненных обстоятельств. Я написал несколько строк моей хозяйке, предупреждая ее, что она получит должные ей деньги на следующий день по почте, потом, засунув рукопись, единственную мою принадлежность, в боковой карман, я потушил лампу и рядом с моим новым другом покинул мою мрачную квартиру и с ней все грустные воспоминания прошлого. Я нисколько не думал, что настанет час, когда время, проведенное мною на этом чердаке, покажется мне счастливейшей частью моей жизни, когда горькая бедность, испытанная мною в то время, будет казаться мне благословением сурового, но святого ангела, приставленного ко мне для указания высшего и благородного пути, — когда я буду молиться с отчаянными рыданиями, чтобы только вернуться к своему прежнему нравственному я! Хорошо ли или плохо, что будущее совершенно скрыто от нас, это трудно разрешимый вопрос. Во всяком случае, в ту минуту мое неведение было счастьем! Я с радостью покинул дом, где испытал только одни неприятности и разочарования и повернул ему спину с чувством несказанного облегчения, — последнее, что я услышал, когда вышел на улицу, была жалостливая тихая мелодия в минорном тоне, посланная за мной в виде прощального привета незнакомого и невидимого скрипача.
Глава четвертая
Карета князя, запряженная парой горячих вороных рысаков, дожидалась нас; лакей, увидав хозяина, открыл дверцы, вежливо приподняв цилиндр, обшитый золоченым галуном. Я взошел в экипаж первый по просьбе моего спутника; откинувшись на мягкие подушки, я до такой степени сознал свою силу, что принял за должное роскошь, окружавшую меня; дни моей нужды казались мне уже отдаленными, почти туманными. Голод и счастье совместно владели мной; я был в каком-то смутном состоянии, вызванным продолжительным отсутствием пищи, и ничто не казалось мне действительным. Я знал, что не пойму значения своего неожиданного счастья, пока не удовлетворю физическую нужду и не стану вновь нормальным человеком. В данную минуту, голова у меня кружилась, бессвязные мысли туманили ум, и мне самому казалось, что я жертва какого-то капризного сна, от которого вскоре пробужусь. Карета бесшумно катилась по мостовой, изредка подскакивая на резиновых шинах, и слышен был лишь равномерный топот лошадей. Внезапно в полумраке я заметил огненный взгляд моего нового друга, устремленный на меня с каким-то странным упорством.
— Вы еще не почувствовали, что мир у ваших ног? — спросил он полуигриво, полунасмешливо, — в роде кегельного шара, который ждет чтобы вы с ним поиграли? Мир такой потешный и двинуть его так легко! Мудрецы всех веков старались исправить его, но напрасно; мир продолжает любить сумасбродство больше разума! Это деревянный шар, или мяч для тенниса, готовый полететь, куда и когда угодно, лишь бы ракета была золотая!
— Вы говорите едко, князь! — сказал я, — но у вас верно обширнейший опыт?
— Да, — ответил он, не колеблясь, — мое царство велико.
— Вы, значит, владетельное лицо?! — воскликнул я в удивлении, — и ваш титул не только почетный?
— По понятиям вашей аристократии мой титул почетный, — ответил князь быстро, — когда я говорю, что мое царство велико, я подразумеваю, что я царствую повсюду, где люди подчиняются богатству! С этой точки зрения разве я не прав, утверждая, что мое царство велико? почти безгранично?
— Вы циник, — сказал я, — неужели вы не верите, что есть вещи, которых купить нельзя — например честь и добродетель?
Князь презрительно улыбнулся.
— Если честь и добродетель действительно существуют, — ответил он, — то они конечно неподкупны! Личный же опыт научи меня, что я могу купить все. Чувства, называемые большинством людей добродетелью и честью страшно условны — стоит предложить должную сумму денег, и они превращаются в нечто другое; это любопытно? — не правда ли, чрезвычайно любопытно? Сознаюсь, однако, что однажды я наткнулся на безусловное бескорыстие, — но только раз! Пожалуй, я еще раз наткнусь на подобный факт, хотя сильно в этом сомневаюсь. Возвращаясь к себе, прошу вас не думать, что я притворяюсь или представляюсь вам под ложным титулом. Я действительно князь и принадлежу более старому и знаменитому роду, чем все ваши аристократы; — но мои владения давно уже распались и мои подданные разбрелись по разным странам: — анархия, нигилизм и другие политические беспорядки заставляют меня умалчивать о моих делах. Денег, к счастью, у меня сколько угодно и, благодаря им, я прокладываю себе путь. Когда-нибудь, когда вы узнаете меня ближе, я ознакомлю вас с историей моей частной жизни. У меня еще несколько титулов и имен, непомеченных на моих визитных карточках, — я сохранил самый простой из них — чтобы избегнуть коверкания моего имени. Мои интимные друзья откидывают титул и просто называют меня Лючио.
— Это ваше крестное имя? — начал было я.
Князь перебил меня быстро и сердито:
— Совсем нет! у меня нет крестного имени, да и во всем моем существе вы не найдете ничего христианского.
Князь говорил с таким видимым нетерпением, что я не нашелся, что ответить:
— Неужели! — пробормотал я.
Он горько рассмеялся.
— «Неужели?» вот все, что Вы нашли сказать! Слово «христианин» меня изводит. Во всем мире нет ни одного настоящего христианина. Вы не христианин, никто не христианин в действительности, хотя многие притворяются, что они христиане и одним этим богохульствуют, делают больше зла, нежели злейший из падших духов! Я же вовсе не притворяюсь и у меня одна только вера…
— Какая?
— Глубокая и ужасная вера, — сказал князь внушительным тоном; — но важно то, что это — истинная вера — неопровержимая, как проявления природы. Но об этом мы поговорим потом, когда будем чувствовать себя в мрачном настроении; а теперь мы приехали, и единственная забота нашей жизни (это забота многих) — это, как можно лучше поужинать.
Карета остановилась и мы вышли. Увидав знакомых рысаков с серебряными приборами, швейцар и двое других служащих бросились нам навстречу; князь прошел мимо них без всякого внимания и обратился к скромно одетому в черном человеку, его камердинеру, приветствовавшему его с низким поклоном. Я пробормотал свое желание нанять комнату в гостинице.
— Мой человек сделает все нужные распоряжения, — сказал князь, — гостиница не полна; во всяком случае, лучшие номера еще свободны, и Вы конечно займете лучшие?
Глазеющий слуга до этого момента смотрел на мой потертый костюм с видом особенного презрения, выказываемого нахальными холопами тем, кого они считают бедняками, но, услышав эти слова, он мгновенно изменил насмешливое выражение своей лисьей физиономии и с раболепством кланялся мне, когда я проходил. Дрожь отвращения пробежала по мне, соединенная с некоторым злобным торжеством: отражение лицемерия на лице этого холопа было, как я знал, только тенью того, что я найду отражающимся в манерах и обращении всего «высшего» общества, так как там оценка достоинств не выше, чем оценка пошлого слуги, и за мерку принимаются исключительно деньги.
Если вы бедны и плохо одеты — вас оттолкнут, но если вы богаты — вы можете носить потертое платье, сколько вам угодно: за вами будут ухаживать, вам будут льстить и всюду приглашать, хотя бы вы были величайшим глупцом или первостатейным негодяем.
Такие мысли смутно бродили в моей голове, пока я следовал за хозяином в его комнаты. Он занимал целое отделение в отеле, имея большую гостиную, столовую, кабинет, убранные самым роскошным образом, кроме того — спальню, ванную комнату и уборную, и еще комнаты для лакея и двух других слуг.
Стол был накрыт для ужина и сверкал дорогим хрусталем, серебром и фарфором, украшенный корзинами самых дорогих фруктов и цветов, и несколько минут спустя мы уже сидели за ним.
Лакей князя служил во главе, и при полном свете электрических ламп я заметил, что лицо этого человека казалось очень мрачным и неприятным, даже таило злое выражение, но в исполнении своих обязанностей он был безукоризнен, будучи быстрым, внимательным и почтительным, так что я внутренне упрекнул себя за инстинктивную неприязнь к нему. Его имя было Амиэль; я невольно следил за его движениями, так они были бесшумны, и его шаги напоминали крадущуюся поступь кошки или тигра.
Ему помогали двое других слуг, одинаково расторопных и хорошо дрессированных, и я наслаждался изысканными блюдами, которых так давно не пробовал, и ароматным вином, о котором могли только мечтать разные знатоки. Я начинал себя чувствовать совершенно легко и разговаривал свободно и доверчиво, и сильное влечение к моему новому другу увеличивалось с каждой минутой, проведенной в его компании.
— Будете ли вы продолжать вашу литературную карьеру теперь, когда вы получили это маленькое наследство? — спросил он, когда после ужина Амиэль поставил перед нами изысканный коньяк и сигары и почтительно удалился.
— Конечно, — возразил я, — хотя бы только для удовольствия. С деньгами я могу заставить обратить на себя внимание. Ни одна газета не откажет в хорошо оплаченной рекламе.
— Верно! Но не откажется ли вдохновение изливаться из набитого кошелька и пустой головы?
Это замечание рассердило меня.
— Вы считаете, что у меня пустая голова? — спросил я с досадой.
— Не теперь; но дорогой Темпест, не позволяйте токайскому вину, которое мы только что выпили, или коньяку, который мы еще должны выпить, отвечать за вас так стремительно. Уверяю вас, я не считаю вас легкомысленным; наоборот, судя по тому, что я слышал о вас, ваша голова полна идей превосходных, оригинальных, но в которых, к сожалению, условная критика не нуждается. Но вопрос в том, будут ли эти мысли продолжать рождаться в вашем уме или полный кошелек заставит их исчезнуть? Вдохновение и оригинальность мыслей редко сопровождают миллионера. В данном случае я могу ошибиться: надеюсь, что я ошибаюсь, но почти всегда бывает так: когда на долю восходящего гения выпадают мешки с золотом, Бог покидает его, и сатана вступает в свои права. Неужели вы не слыхали этого раньше?
— Никогда, — ответил я, улыбаясь.
— Ну конечно это пустые слова, в особенности в наше время, когда не верят ни в Бога, ни в дьявола! Подразумевается, однако, что надо выбрать между высшей ступенью, т. е. гением и низшей — деньгами. Нельзя одновременно ползать и летать!
— Большие деньги не могут заставить человека ползать, — сказал я, — наоборот, они лишь могут укрепить его способности и поднять его до самых больших высот.
— Вы так думаете? — заметил князь, с озабоченным видом зажигая сигару, — в таком случае вы мало изучали то, что я назову природной психикой. То, что от земли — притягивает к земле. Вы не можете этого не понять. Золото первоначально принадлежит земле, — оно выкапывается из земли и превращается в толстые тяжелые слитки, — одним словом это существенный металл. Гений принадлежит неизвестно чему; нельзя ни выкопать его, ни передать его, а только преклоняться перед ним, — это редкий гость, своенравный, как ветер, переворачивающей беспощадно общепринятые условия жизни. Гений, как я говорил вам — нечто высшее, не имеющее ничего общего с земными вкусами и заботами, а деньги — положительное преимущество, притягивающее вас невольно к земле, где вы и остаетесь!
Я засмеялся.
— Вы красноречиво громите богатство, — сказал я, — но вы сами необычайно богаты, — неужели вы сожалеете об этом?
— Нет, я об этом не сожалею; это было бы бесполезно, а я не люблю тратить времени попусту; но я говорю вам правду. Гений и несметное богатство редко идут рука об руку. Например, я: вы не поверите, какие у меня были способности в былое время… Когда я еще не был хозяином самого себя!
— Но я уверен, что они имеются у вас и теперь, — заметил я глядя на его красивую голову и умные глаза.
Странная, необъяснимая улыбка, замеченная мной еще раньше, вновь озарила его лицо.
— Вы хотите сказать, что моя внешность вам нравится, — она нравится многим! Но дело в том, что как только детство проходит, мы притворяемся быть другими, чем мы есть, и, благодаря долгой практике, в конце концов, наша обложка очень удачно скрывает наше настоящее «я». Это очень умно — и теперь люди превратились в какие-то телесные стены, через которые ни враг, ни друг ничего не увидит… Каждый человек, сам по себе, одинокая душа, заключенная в клетку собственного изделия; — когда он наедине, он знает и ненавидит себя, — иногда даже он страшится ужасного изверга, скрывающегося под привлекательной внешней маской и спешит забыть о нем, окунаясь в одурманивающее пьянство и разврат! Я делаю это часто, вы этого не подозревали?
— Никогда, — ответил я быстро; в его голосе звучали трогательные нотки… — вы клевещете на самого себя и обвиняете себя напрасно.
Лючио мягко засмеялся.
— Может быть, — сказал он небрежно, — одному вы можете верить, что я не хуже большинства людей. Но вернемся к вопросу о вашей литературной карьере, вы написали книгу, не правда ли? Издайте ее и посмотрите, каков будет результата. Если первая ваша книга будет пользоваться успехом, — это достаточно, а способы всегда найдутся для обеспечения успеха. В чем суть вашего романа? Надеюсь, что он неприличен?
— Нисколько, — ответил я, — роман трактует лишь о благороднейших сторонах жизни и высших стремлениях: я написал эту, книгу с намерением очистить и возвысить мысли моих читателей и одновременно старался утешить опечаленных и тоскующих….
Риманец улыбнулся и посмотрел на меня с жалостью.
— Не годится! — воскликнул он, — уверяю вас, что это не годится, — ваш роман не удовлетворяет требованиям нашего времени. Пожалуй, он сойдет, если вы устроите вечер для всех критиков и угостите их хорошим ужином с неограниченным числом лучших вин. Иначе не ожидайте успеха. Для успеха вовсе не нужно гоняться за высшими идеалами… — надо просто быть неприличным, — но только настолько, насколько это допускают передовые женщины, — а границ у них почти не существует. Пишите побольше о любовных отношениях, одним словом, говорите о мужчинах и женщинах, как вы бы говорили о скотине, существующей исключительно для приплода, и ваш успех будет поразительный! Ни один критик не посмеет не похвалить вас, а пятнадцатилетние девушки будут зачитываться вашим романом в тишине своих девственных спален.
И глаза князя блеснули таким огнем безграничного презрения, что я ужаснулся и не знал, что ответить; он же продолжал:
— Как могло вам прийти в голову, мой милый Темпест, писать о высших стремлениях жизни? В этом мире нет больше места для высших ваших стремлений, — все пошло и материально, — человек и его стремления ничтожны, как и он сам. А для высших форм жизни ищите другие миры, они ведь существуют. Кроме того, люди не ищут чистых мыслей в романах, которые они читают для удовольствия, — для этого они идут в церковь и там скучают. И зачем вам утешать людей страдающих из-за собственной вины и глупости? Вас никто утешать не станет, никто вам монеты не подаст, чтобы спасти от голодной смерти. Мой добрый друг, откиньте ваше донкихотство одновременно с вашей бедностью. Живите для себя; — если вы будете жить для других, то вы встретите лишь черную неблагодарность, последуйте моему совету и ни под каким видом не жертвуйте своими личными интересами.
Кончив свою фразу, князь встал из-за стола и повернулся спиной к пылающему камину, продолжая спокойно докуривать сигару, — я посмотрел на его изящный стан и красивое лицо с первым, чуть заметным, оттенком недоверия.
— Если бы вы не были так удивительно хороши, собой, я бы сказал, что вы бессердечны, — сказал я, наконец, — но черты вашего лица противоречат вашим словам. В действительности вы не так равнодушны к человечеству, как кажетесь, весь ваш вид выражает благородство, которое вы не в силах победить, даже если бы вы этого хотели. К тому же разве вы не стараетесь всегда делать добро?
Он улыбнулся.
— Да, всегда, то есть я стараюсь удовлетворить желания людей, но хорошо ли это или дурно, — еще не доказано. Нужды людей почти безграничны, — единственно чего они, кажется, до сих, пор не желают, это прекратить знакомство со мной.
— Конечно нет; раз они встретили вас, то это невозможно, — воскликнул я, и засмеялся, до такой степени его предположение показалось мне смешным.
Князь посмотрел на меня исподлобья.
— Желания людей не всегда нравственны, — заметил он, стряхнув пепел сигары в камин.
— Но вы, конечно, не поощряете их пороков, — возразил я, все еще смеясь. — Это было бы чересчур точное исполнение роли благодетеля.
— Я вижу, что мы заблудимся в теории, если станем дольше рассуждать, — сказал он. — Вы забываете, милый друг, что никто не может решить окончательно, что добродетель и что порок? Это вещи условные и как хамелеоны в разных странах принимают разные цвета. У Авраама были две или три жены и столько же содержанок, а в Ветхом Завете он пользуется репутаций праведного. Лорд Толнодди в Лондоне имеет одну жену и несколько содержанок и в других отношениях очень похож на Авраама, а его считают за безнравственного человека. Кто решит этот вопрос? Лучше переменить разговор, так как мы никогда ни к какому заключению не придем. Как нам провести вечер? В Тиволи танцует толстая, хитрая девушка, забравшая в свои тенета одного известного старого герцога, — не пойти ли посмотреть, какими телесными вывертами она старается создать себе солидное положение в английских аристократах? Или вы устали, и предпочитаете улечься спать?
Откровенно говоря, я страшно устал и умственно, и физически, благодаря необыкновенным волнениям дня, — голова моя тоже отяжелела от вина, к которому я не привык.
— Сознаюсь, что я предпочел бы постель всякому удовольствию, — пробормотал я, — но как насчет комнаты?
— Амиэль верно уж позаботился об этом; надо спросить его, — сказал князь и позвонил; камердинер немедленно явился.
— Вы приготовили комнату для мистера Темпеста?
— Да, ваше сиятельство; номер в этом коридоре почти напротив комнат вашего сиятельства. Он не так меблирован, как было бы желательно, но я употребил все усилия, чтобы устроить его по возможности удобнее.
— Благодарю, я Вам очень признателен.
Амиэль почтительно поклонившись, удалился.
Я подошел к князю, чтобы пожелать ему доброй ночи. Он взял мою протянутую руку и, держа ее в своей, упорно посмотрел на меня, как бы чего-то допытываясь.
— Я полюбил вас, Джеффри Темпест, — сказал он, наконец, — но именно потому, что я полюбил вас и думаю, что в вашей душе есть другие задатки, кроме животных и плотских, я сделаю вам довольно оригинальное предложение. А именно: если я не нравлюсь вам, скажите это теперь и мы расстанемся сейчас же, пока мы еще не успели ближе познакомиться; постараюсь не встречать вас больше на жизненном пути, разве только если вы сами отыщете меня. Если же, наоборот, я нравлюсь вам и вы чувствуете в моем умственном направлении нечто родное, то обещайте быть моим другом и постоянным товарищем, по крайней мере, на несколько месяцев. Я могу ввести вас в высшее общество, представить первым красавицам Европы и познакомить с самыми блистательными мужчинами. Я знаю всех, так что могу быть полезным. Но если вы чувствуете в глубине вашей души малейшее ко мне отвращение… — князь приостановился, потом продолжал необычайно торжественным тоном, — во имя Всевышего не противьтесь этому и оставьте меня; клянусь вам что я вовсе не такой, каким кажусь!
Глубоко потрясенный его странными словами и внушительным тоном, я остался в колебаниях от этой минуты, если бы я только знал тогда, от чего зависело все мое будущее. Действительно я почувствовал недоверие, почти отвращение к этому очаровательному, но циничному человеку, и он это заметил. Но теперь все подозрения исчезли сразу, и я сжал его руку в приливе удвоенной радости.
— Мой милый друг, ваше предостережение опоздало, — воскликнул я весело, — кто бы вы ни были и каким бы вы ни казались в собственных глазах, я нахожу вас крайне симпатичным и себя осчастливленным вашим знакомством. Мой старый друг Кэррингтон действительно услужил мне, устроив нашу встречу: уверяю вас, что я горжусь вашей дружбой. Вы на себя клевещете и испытываете в этом какое-то наслаждение, но вы ведь знаете старинную пословицу: «Не так страшен черт, как его малюют!»
— Это правда, — задумчиво прошептал князь, — бедный черт! Его недостатки преувеличены, итак, мы будем друзьями?
— Надеюсь; я первый не нарушу этого дружеского договора!
Темные глаза князя уставились на меня пытливо, и в глубине их сверкнуло нечто в роде насмешки.
— Договор — хорошее слово! — сказал он, — итак мы сочтем это за договор. Я хотел было помочь вам с материальной стороны, но теперь вам этого не нужно; однако мне кажется, что я могу быть вам полезным иначе: а именно, со мной вам будет легче проникнуть в высшее общество. А что касается любви, то вы конечно влюбитесь, если еще не успели влюбиться?
— Нет, — ответил я стремительно и искренно, — я еще не встречал женщины, подходящей к моему идеалу красоты.
Князь громко рассмеялся.
— Ваши требования дерзки, — воскликнул он — и так ничто, кроме совершенной красоты не удовлетворит вас?… Но подумайте, мой друг, вы сами, хотя вы и недурны и хорошо сложены, вы ведь далеко не Аполлон!
— Это к делу не относится, — сказал я, — мужчина должен выбирать женщину для личного наслаждения с такой же осторожностью, как он выбирает вино или лошадей, — а потому повторяю, я желаю совершенства… или ничего…
— А женщина? — спросил Риманец, и глаза его при этом сверкнули.
— Женщина не имеет права выбора, — ответил я (это был любимейший из моих аргументов, и я излагал его с удовольствием при каждом удобном случае): — она обязана соединиться с тем, кто может прилично содержать ее. Мужчина всегда мужчина, а женщина приложение к мужчине, — без красоты она не имеет права требовать, чтобы ее содержали.
— Правильно, совершенно правильно и логично, подтвердил князь, принимая чрезвычайно серьезный вид, — я сам нисколько не симпатизирую новым идеям о какой-то интеллектуальности женщины. Женщина, в конце концов, просто самка, — ее душа лишь отражение души мужчины; она абсолютно лишена логики и рассуждать не умеет. Однако религия поддерживается этим безрассудным творением, — и любопытен факт, что несмотря на безусловное превосходство мужчины, женщине удавалось неоднократно взбаламутить мир и низвергнуть планы мудрейших королей и советников, которые должны были по логике побороть ее. В наше время справиться с женщиной стало еще трудней.
— Это преходящее явление, — заметил я небрежно, — движение нескольких некрасивых и нелюбимых представительниц прекрасного пола. Женщины мало привлекают меня, и вряд ли я когда-нибудь женюсь.
— Что же, у вас еще время есть; а между тем вы можете позабавиться, — сказал князь, пристально глядя на меня. — Я же могу познакомить вас с брачными рынками всего света, хотя предупреждаю, лучшего товара как в нашей столице вы не найдете нигде! Цены дешевые, мой друг, вы можете получить чудный образец блондинки или брюнетки почти задаром. В свободное время мы рассмотрим их! Я рад, что вы сами решили быть моим товарищем, — ибо я горд, я страшно горд и никогда не остаюсь в обществе человека, когда чувствую, что он сам этого не желает. А теперь, спокойной ночи!
— Спокойной ночи, — повторил я, мы подали друг другу руку и не успели разъединить их, как яркая молния внезапно осветила всю комнату; почти в ту же минуту раздался страшнейший удар грома, электрические лампы потухли и лишь тусклое пламя камина продолжало освещать наши лица. Я невольно вздрогнул и слегка смутился, князь оставался неподвижен на том же месте, — неожиданное обстоятельство, казалось, нисколько не смутило его, — его глаза сверкали ярко, как у кошки.
— Какая гроза, — заметил он, зимою такого грома почти не бывает! Амиэль…
Камердинер вошел; его лицо как будто застыло, превратившись в загадочную маску.
— Лампы потухли, — обратился к нему князь — странно, что цивилизованный мир не сумел окончательно справиться с электричеством; не можете ли вы исправить их, Амиэль?
— Конечно, ваше сиятельство; — и через несколько минут благодаря каким-то приемам, которых я усмотреть не мог, лампочки под стеклянными колпаками вновь загорелись.
Гром ударил еще раз и хлынул дождь.
— Замечательная погода для января месяца, — повторил Риманец, вторично протянув мне руку, — спокойной ночи, мой друг, спите хорошо!
— Если разъяренные стихи позволят, — ответил я с улыбкой.