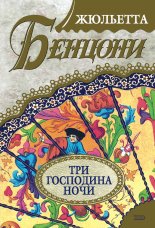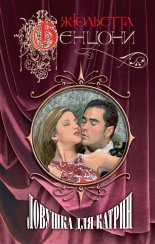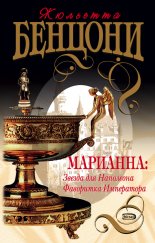Жажда возмездия Бенцони Жюльетта
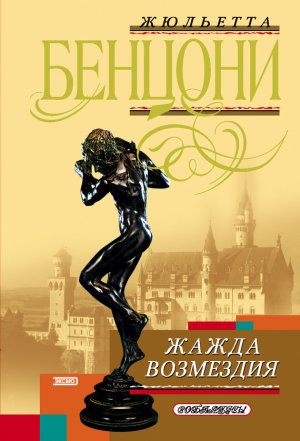
— Послы поедут с вами? .
— Что до меня, так я поеду за монсеньером, если только он сам не отошлет меня, — возразил Панигарола. — Разве я не являюсь глазами и ушами моего благородного хозяина? А порой и его голосом?
— Вы больше, чем посол, потому что мы испытываем к вам дружеские чувства, — любезно ответил герцог, — вы останетесь рядом с нами.
— Могу ли я надеяться, что посол будет сопровождать герцога один? — дипломатично спросил Филипп, глядя при этом на Фьору. — Некоторые пажи мне кажутся слишком хрупкими для того, чтобы носить полное вооружение.
Миланец заметил этот взгляд и улыбнулся:
— Монсеньор герцог оставляет свои сокровища в лагере. С его позволения я сделаю то же с тем сокровищем, которое он мне в свое время поручил.
На другой день, 10 марта, крепость Вомаркюс пала под мощными ударами бургундцев, которые поставили в ней свой гарнизон, а на другой день, 11 марта, в субботу, армия начала то, что герцог назвал «военной прогулкой».
Воспоминание об этом зябком утре надолго останется в сердце Фьоры. Закутавшись в меховой плащ, подаренный ей герцогом, и стоя на пороге своей палатки, Фьора смотрела, как он удалялся по равнине, похожий на железную статую, увенчанную золотым львом, на своем Моро, любимом коне, напоминавшем из-за металлических доспехов сказочное животное, и сопровождаемый личным знаменосцем. А вокруг него — множество кавалеров ордена Золотого Руна, каждый со своим гербом: фантастический мир грифонов, леопардов, быков, химер и сирен… Над головой его лошади подрагивал золотой цветок лилии, на концах лепестков которого сверкали бриллианты — жалкий и навсегда утраченный им символ королевской власти, которую сам герцог, впрочем, глубоко ненавидел.
Начинавшийся день был серым, а небо мутным.
Слева горы Альбер и Шоссрон были еще покрыты снегом, а поверхность озера отсвечивала ртутным блеском.
Авангард, вернувшийся из Вомаркюса, удалялся по извилистой дороге «Виа Детра», а основная часть армии огибала Грандсон и исчезала вдали. Герцог даже не позаботился расположить ее в боевом порядке, считая, что никому не придется вступать в сражение, а надо будет всего лишь преодолеть какое-то расстояние, чтобы застигнуть швейцарцев врасплох.
Все верно, если надеяться, что те ничего не подозревают.
Чего Карл Смелый не мог себе представить, так это того, что его ожидает готовая к бою профессиональная армия из отборных и закаленных в сражениях солдат.
Казалось, в нее вошло все мужское население страны.
Сюда пришли из Базеля, присоединившись к отряду из Страсбурга, пришли и из Фрибурга, Солевра, Бьенна, Бадена и многих других городов. Здесь были уроженцы Цюриха, а также семь тысяч человек из Берна. Всего собралось от пятнадцати до двадцати тысяч, которые в тот же час, что и бургундцы, направились в сторону Грандсона, чтобы отомстить за своих убитых братьев. Карлу предстояло встретиться с самой опасной в Европе пехотой, но он еще не знал об этом и мирно беседовал с едущим рядом с ним еще одним сводным братом Бодуэном, принцем д'Оранж, а также Жаном Лаленгом и Оливье де Ла Бомом.
В полдень, когда Фьора и Баттиста играли в шахматы, они вдруг одновременно повернулись туда, где скрылась армия, и прислушались. Оттуда доносился странный шум, разобрать который из-за дальности расстояния не было возможности. Шум прекратился, затем возобновился с новой силой, и это вызвало у Фьоры холодок ужаса.
— Что это такое? — спросила она.
— Честное слово, не знаю, — ответила Леонарда, которая сидела рядом за столом и шила, но на всякий случай перекрестилась.
— Я слышал, — вмешался паж, — что в горах Швейцарии есть такие трубы, через которые горы дышат, и это дыхание можно слышать на большие расстояния…
Если это так, то тогда…
— Это герцог, который вопреки своим ожиданиям встретил швейцарцев, — закончила Фьора. — Боже мой, от этого вся кровь стынет в жилах!
Вместе с пажом Фьора вышла из палатки. Шум стих, и наступило полное молчание. В Грандсоне, где на берегу реки до сих пор висели трупы, царила такая же тишина. Часовые тоже застыли в молчании и прислушивались. Вдруг сразу поднялся страшный шум.
— Слишком далеко, чтобы что-то разобрать, — проговорил Баттиста, — но там идет битва.
Больше никто ничего не говорил. Фьора с тоской подумала о том, что там с Филиппом. Его отвага была всем известна. Сейчас он должен был находиться в самой гуще битвы, готовый пожертвовать своей жизнью за герцога. Она опустилась на колени рядом с Леонардой и присоединилась к ее молитве.
Все самое страшное случилось ближе к полудню.
Внезапно показалась бургундская армия, похожая на приливную волну. Она отступала в полном беспорядке, а совсем рядом раздался опять этот страшный вой — это играли военные трубы Урн и Люцерна, который, однако же, перекрывал безумный крик: «Спасайся, кто может!»
— Бежим! — одними губами выговорил Баттиста. — Армия бежит.
Все дальнейшее показалось Фьоре дурным сном.
Появился Панигарола, покрытый пылью, с пятнами крови на одежде:
— Быстрее! Где лошади? Нам надо догнать герцога!
Спустя какое-то время Фьора осознала, что скачет в сторону Орбэ рядом с Леонардой, Баттистой и послом, к которому присоединились его секретарь и слуги. Впрочем, они были не одни: бежали все, кто оставался в лагере, бежали не зная куда, но все были страшно напуганы теми жуткими звуками, которые все приближались к ним.
— Что случилось? — спросила Фьора.
— Случилось немыслимое: в то время, как некоторые наши отряды перестраивались, они были вовлечены в беспорядочное бегство теми войсками, которые уже успели произвести маневр. Одновременно швейцарцы появились из леса и атаковали с флангов, что вызвало дополнительную панику. Две трети армии отступили, даже не начав сражаться!
— Вы встретили швейцарцев?
— Да. И, признаюсь, это было страшно! Вдруг я увидел, как появилась пехота: плечом к плечу шли примерно восемь тысяч человек, выставив впереди себя пики, раза в два длиннее, чем наши копья, огромный ощетинившийся еж, над которым развевались зеленые флажки и большое белое знамя. Эти люди сражались с открытыми руками, в коротких кирасах, одетых на кожаные куртки, а на головах у них были металлические шлемы. Казалось, что они вышли из сказки и сеяли ужас и страх.
Обернувшись назад в седле, Фьора увидела покинутый лагерь с его роскошными палатками, пушками и всем имуществом. Луч неожиданно появившегося солнца позолотил шар, украшавший верхушку ярко-красной палатки герцога.
— И герцог Карл бросает все это?
Панигарола пожал плечами:
— Невероятно, но это так. В этом лагере швейцарцам достанется, наверное, самая богатая добыча, какая вообще была до сих пор . Мне кажется, — добавил он, — что мы теперь можем не торопиться. Нас никто не преследует… У швейцарцев мало кавалерии. Кроме того, они все сейчас заняты грабежом.
— Где монсеньор герцог? — спросил Баттиста.
— Он впереди нас. Мы должны присоединиться к нему во Франш-Конте, в Нозеруа. Но мы остановимся передохнуть в гостинице в Жупе. Мне кажется, — слегка усмехнулся он, — что донна Леонарда оценит мой план по достоинству.
— Я ценю уже то, мессир посол, что вы не пробуете пуститься в галоп и посмотреть, что из этого получится…
Горстка людей вокруг сломленного собственным бессилием принца — вот что можно было увидеть на другой вечер в маленьком городке Нозеруа, расположенном на склоне холма, похожем на протянутую к небу ладонь. От огромной армии герцога Карла осталось одно воспоминание. Нельзя сказать, что многие погибли в той битве, но из-за страха, обуявшего итальянцев, остальные отряды были смяты и рассеяны на огромной территории по разным направлениям. Оставляя поле боя, герцог отдал приказ, чтобы как-то остановили эту ужасную панику, но сделать уже ничего было нельзя.
Оглохшая и ослепшая от страха армия бежала, как стадо оленей от лесного пожара.
Пасмурным утром жители городка увидели, как по улицам проезжал в сверкающих доспехах бледный человек, из которого, казалось, ушла вся жизнь, и его устремленный куда-то вдаль взгляд ничего не видел. Он ехал своей дорогой по заснеженной улице, и удары копыт его лошади были совсем не слышны. Он, ехал в сторону замка, и все вокруг низко склонялись перед ним.
Но ветерок разносил по толпе легкий шепот о том, что среди сопровождавших его сеньоров уже не было сеньора Нозеруа, Хьюге де Шалон-Оранжа. Если его не было в свите, чтобы открыть ворота замка человеку, которого он любил, с ним должно было произойти что-нибудь плохое, и поэтому над Нозеруа повисла печаль, еще более удручающая, чем свинцовые облака в небе . Герцога приветствовали, но сдержанно, а многие крестились, как при виде похоронной процессии. И ворота замка закрылись за принцем, который впервые изведал такое поражение. Казалось, что он ранен смертельно…
Однако когда Панигарола и его спутники приехали в замок, они увидели перед собой бурлящего активной деятельностью человека. Карл разослал гонцов на все дороги, чтобы те приводили к нему сбежавших с поля боя солдат; написал письма в Лотарингию и Люксембург, чтобы ему выслали оттуда артиллерию, в Бургундию и Безансон — с просьбой о деньгах и о продовольствии. Но больше всего удивляло, что он без конца разговаривал, а ведь раньше Карл предпочитал молчание.
Он всем объяснял: исход битвы — это дело случая, обязанного собою трусости прежде всего итальянцев, а затем пикардийцев, англичан и валлонцев. И как только он наберет новую армию, но в этот раз из настоящих храбрецов, тут же вернется в Швейцарию.
— Самое большее, за неделю, — заявил он пораженному Панигароле, — мы разобьем новый лагерь здесь, недалеко от Салена. Оливье де Ла Марш, которому я уже написал, займется всем необходимым.
Затем он повернулся к Фьоре, которая с недоумением смотрела на него:
— В вашей первой войне вам не повезло, но я обещаю вам, что скоро вы увидите что-нибудь получше… гораздо лучше и очень скоро.
— Монсеньор, — пробормотала она, — простите, что осмеливаюсь задавать вам вопросы… Но есть ли сведения… о графе Селонже?
В глазах герцога промелькнул огонек.
— Нет. Как и о моем брате, с которым он рядом сражался. Но я искренне надеюсь, что с ними не случилось ничего плохого, потому что в той же куче я видел и принца д'Оранжа, которому было поручено командование авангардом. Может быть, скоро мы все узнаем…
Новости стали известны, когда на другое утро в город вошел Антуан Бургундский, который привел с собой большой отряд кавалерии. Рядом с ним ехал Матье де Прам с мертвенно-бледным лицом и заплаканными глазами, который скорее упал, чем опустился на колени перед герцогом. Сказать он мог не так много: он видел, как Филипп де Селонже упал, а над ним навис меч, но сам Матье не смог прийти к нему на помощь, потому что его увлекли за собою отступающие войска. Позади Карла раздался сдавленный крик, похожий на стон.
Когда он повернул голову, то увидел глаза Фьоры, расширенные от ужаса. Она не плакала, не причитала, она на глазах превращалась в статую, и только ее губы дрожали на застывшем лице, и это свидетельствовало о том, что она еще жива. Ласково обняв ее за плечи, Карл проговорил:
— Идем, дитя мое, идем. Будем плакать вместе.
Глава 13. В ОСТАВЛЕННОЙ ПАЛАТКЕ
С тех пор завязалась странная дружба между этим снедаемым всеми бесами гордыни и стыда герцогом, которому недавнее жестокое поражение преподало урок сомнения, и молодой женщиной, потерявшей последнее, что помогало ей надеяться. Никто так никогда и не узнал, о чем они говорили на протяжении многих часов в молельне герцогской церкви под охраной единственного Баттисты Колонна, который так и сиял от гордости.
Однажды утром Фьора протянула Леонарде ножницы и велела отрезать себе волосы до плеч, по итальянской моде.
— Герцог Карл, — заявила она в ответ на протесты своей старой подруги, — поклялся не брить бороду до тех пор, пока не отомстит швейцарцам. А я не сниму мужской костюм и буду следовать повсюду за монсеньором до тех пор, пока…
— Пока вы сами не погибнете, как погиб мессир Филипп? — раздраженно заметила Леонарда. — Разве для вас нет в жизни другого пути? Вы же так молоды!
— А что вы мне можете предложить? Уйти в монастырь, как все те, чье сердце навсегда разбито? У меня никогда не было к этому склонности, а сейчас более чем когда-либо!
— Кто вам сказал, что рана вашего сердца никогда не заживет? Вспомните: когда вы узнали графа Селонже, вы были влюблены в Джулиано Медичи и очень ревновали его к донне Симонетте.
— Я любила тогда все, что блестит, а в Джулиано было столько блеска! Но все погасло, как только появился Филипп, и я сразу же поняла, что не любила Джулиано!
— Как бы я хотела, чтобы вы этого никогда не поняли! — вздохнула Леонарда. — Но вернемся к герцогу — ведь вы хотели отомстить ему?
— Я помню об этом, но, как бы вам сказать… Мне кажется, что он сам себя разрушает, и при виде его я испытываю такое же ощущение, как когда-то при виде Пьера де Бревай, прикованного к своему креслу, который напоминал мне живого мертвеца. Он хотел только одного — умереть. Оставить ему жизнь было бы самым худшим наказанием для него. Деметриос, который провидит будущее, сказал бы то же самое.
— Вполне возможно. Не подумайте, что я хочу вас снова толкнуть на путь мести, что мне и раньше не нравилось. Но если вы поняли, что лучше все отдать в руки божьи…
— Руки божьи? Он только что отнял у меня человека, которого я любила! Нет, не надо ничего говорить, и не мешайте мне сделать то, что я задумала! А для начала отрежьте мне волосы, или вы хотите, чтобы я сделала это сама?
— Конечно, нет! По крайней мере, я сделаю это ровно.
С решительным видом Леонарда взялась за ножницы и гребень и принялась кромсать эту красоту, думая при этом, что волосы, в конце концов, все равно вырастут.
Когда Фьора на другое утро встретилась с герцогом, одетая в короткий плащ из черного бархата, подаренный им, она преклоняла перед ним колено, как это сделал бы юноша, на что герцог улыбнулся:
— Как жаль, что я не могу сделать из вас рыцаря!
Но, по крайней мере, я могу сделать вот что…
Он взял в открытом сундуке кинжал с изящной отделкой и с рукояткой, украшенной аметистами, и, подняв Фьору с колен, привесил ей этот кинжал к поясу:
— Увидев, как складывается ситуация, двое из моих слуг спасли повозку, на которую набросали все, что попадалось им под руку. Эта вещь оттуда. Когда мы вступим в битву, я дам вам другое оружие…
— Другое оружие мне не нужно, монсеньор. Я не буду знать, что с ним делать. Я хочу просто следовать за вами, как это делает миланский посол.
— Он считает к тому же, что это самое лучшее место для наблюдений, которые он передает своему герцогу.
Кроме этого, мне нравится беседовать с ним. Но, — добавил Карл, — ваше присутствие, признаюсь, мне будет особенно приятно. Даже если в этом я и проявляю свой эгоизм… Дружеское отношение для меня сейчас просто необходимо.
Все последующие дни были и вправду довольно мрачными. Последствия тяжелого поражения начали проявляться в виде некоторого охлаждения дипломатических отношений. На письма Панигаролы герцог Миланский отвечал невнятными извинениями и в результате не прислал ни одного человека. Старый король Рене, который собирался оставить Карлу Смелому в наследство свое графство Прованс и корону короля Сицилии и Иерусалима, круто изменил политику под влиянием агентов Людовика XI и стал интересоваться своим внуком, молодым герцогом Рене, у которого недавно отняли Лотарингию.
В это время герцог Карл очень страдал от пережитого позора, и после краткого периода лихорадочной деятельности у него начался период черной меланхолии.
Он никуда не выходил и никого к себе не пускал. Он все время лежал и ничего не ел, но пил много вина, хотя раньше соблюдал в этом умеренность. Он не следил за собой, и на осунувшемся лице отросла небольшая черная борода, а в глазах был виден блеск отчаяния.
— Он трудно справляется с депрессией, — посетовал миланец в разговоре с Фьорой. — Виной этому португальская кровь… Надо что-то делать, но что?
— Он так любит музыку! Почему бы не позвать певцов из его капеллы? — предложила Фьора.
— Простите мне это смелое сравнение, но только один дьявол знает, где они сейчас находятся.
— А возможно ли в этом городе ветров найти лютню или гитару?
В замке погибшего Хьюго де Шалона было все необходимое. Поэтому Фьора в тот же вечер держала в руках лютню. Она устроилась на уголке сундука в маленькой прихожей герцога. После кратких переговоров с Баттистой они запели старинную французскую песню, которую очень любили в то время во всей Европе. Беспокойно поглядывая на закрытую дверь, Баттиста Колонна начал пение, но при первых же звуках дверь резко распахнулась и появился Карл с перекошенным от злобы ртом и налитыми кровью глазами:
— Кто осмеливается здесь петь про короля Людовика, неважно какого?
— Монсеньор, это я попросила Баттисту спеть для вас, — спокойно ответила Фьора.
— Вы, кажется, полагаете, что вам все позволено?
Я слишком часто проявлял по отношению к вам непростительную слабость и…
— Вы проявляли ее по отношению к самому себе, монсеньор. Я как раз хотела вам напомнить, что, пока вы пребываете в непонятной меланхолии, король Франции делает свое дело.
Рука, поднятая для удара, бессильно упала, в глазах постепенно погасло бешенство. Герцог отвернулся и направился в свою комнату.
— Скажите слугам, чтобы мне приготовили ванну! — приказал он. — А вы продолжайте. Только выберите что-нибудь другое.
Этот импровизированный концерт продолжался до самой полуночи, когда личный лакей герцога Карла де Визен вошел в прихожую и сообщил Фьоре и Баттисте, что его хозяин уснул и не может их больше слышать, а сами они могут идти к себе.
— Вы сделали доброе дело, — выразил им свое мнение Панигарола, когда пришел их послушать. — Могу спорить, что кризис миновал, и завтра монсеньор вновь обретет свое обычное деятельное состояние.
И правда, утром, отправив несколько писем, в одном из которых он требовал переплавить все бургундские колокола, герцог решил покинуть Нозеруа и переехать в Лозанну, где хотел собрать новую армию и начать осаду Берна, который внес основную лепту в его поражение.
— До тех пор пока я не разрушу Берн, бургундская армия не обретет своего былого блеска, — заявил Карл и целиком погрузился в подготовку новой кампании, в результате которой он надеялся возродить поблекшую было славу.
Антуан Бургундский и принц де Тарант, которым удалось собрать часть поверженного в бегство войска, решили устроить лагерь на обширном плато, доминирующем над Женевским озером, между Романе и Ле Монтом. Там соорудили дом, хотя и не такой роскошный, как при осаде Пейса, но все же достаточно удобный.
Вокруг этого строения располагались прибывающие войска. Из Англии прибыло три тысячи, шесть тысяч — из Болоньи, столько же — из Льежа и Люксембурга и, наконец, шесть тысяч савойцев, которых привела сама герцогиня Савойская из Женевы для оказания помощи своему союзнику герцогу Бургундскому.
Внешность этой красивой белокурой женщины удивила Фьору. Она ни в чем не была похожа на своего брата Людовика XI, при этом бросался в глаза ее цветущий вид, в котором было много очарования. Когда она приближалась к своему союзнику, улыбаясь и с раскрытыми для объятий руками, Фьора поняла, почему эта французская принцесса объединила свои войска с войсками злейшего врага своего родного брата.
— Ведь она его любит? — тихо спросила она у Панигаролы.
— Это никогда не вызывало у меня ни тени сомнения, но в данный момент я нахожу, что она поступает неосторожно. Король Людовик находится в Лионе и собирает в Гренобле армию из верных ему жителей Дофине. А мой господин, герцог Миланский, отправил к Людовику послов и предложил ему союз, чтобы потом как-то захватить Савойю.
— А вы не хотите предупредить об этом герцога Карла?
— У меня нет никаких официальных полномочий.
К тому же я буду сильно удивлен, если король позволит герцогу Миланскому захватить Савойю. Но все же я нахожу, что прекрасная герцогиня очень неосторожна.
А она принесла с собой весну, которая вдруг проявилась с неудержимой силой, свойственной природе.
Раны земли зарастали свежей травой. На поверхности озера, в котором отражалось небо, серебрилась рябь, а вдоль берегов начинали цвести яблони и миндаль. Воздух был наполнен ароматами, и к середине дня ощущалось ласковое тепло солнца, которое, казалось, торопилось погасить в памяти людей страшную осень и холодную зиму. В Лозанне, которую военные несчастья обошли стороной, жизнь кипела и на людных улицах, и в цветущих садах. Там же теснились и иностранные послы, которых было невозможно разместить в лагере.
Панигарола и его коллеги из Венеции, Неаполя, Генуи и других итальянских городов выбрали себе местопребыванием трактир «Золотой лев», который был самым лучшим во всем городе. Другие трактиры и монастыри были также переполнены, и поэтому в город стекались со всех сторон торговцы, привлеченные множеством благородных сеньоров.
Кульминационным моментом стало одновременное прибытие легата Алессандро Нанни и апостольского посланника Хесслера, которых послал император, чтобы заключить брак между принцем Максимилианом и юной Марией Бургундской. И поэтому пасхальная месса, которая проходила в соборе Лозанны, получилась особенно торжественной.
Фьора присутствовала на ней в строгом платье, спрятав свои остриженные волосы под энненом из серебристого материала, на котором сверху был прикреплен черный креп в знак ее траура. Накануне Карл, чтобы пресечь нарождающиеся слухи, торжественно признал ее «благородной и высокорожденной дамой, графиней де Селонже, вдовой мессира Филиппа де Селонже, кавалера ордена Золотого Руна, погибшего смертью храбрых в битве под Грандсоном». Затем он добавил: «Отныне, оставшись одна на всем свете, мадам де Селонже поклялась следовать за нами повсюду и принимать участие в сражениях вместо своего павшего супруга и, с божией помощью, отомстить за пролитую им кровь».
В ходе всей пасхальной службы Фьора чувствовала на себе многочисленные взгляды, в которых было больше любопытства, чем сочувствия, но ни то, ни другое ее не волновало. Что могло иметь хоть какое-то значение, когда Филиппа нет больше на этой земле, когда его глаза больше никогда не посмотрят на нее, а руки не коснутся ее тела? И не имело значения, думают ли о ней хорошо или плохо. Единственными людьми, с которыми еще что-то связывало ее, были Баттиста Колонна и Панигарола. И, безусловно, герцог, но она не могла разобраться в характере их привязанности. Это было нечто вроде обоюдного гипноза, к которому примешивались еще жалость и влечение, как это бывает с теми людьми, судьба которых отмечена грядущей катастрофой. Внутренний голос говорил молодой женщине, что над Карлом Смелым витает черный ангел смерти и что именно тени его крыльев пытается избежать герцог, вступая с этим ангелом в борьбу.
С самого Нозеруа его здоровье так окончательно и не восстановилось. Он страдал от постоянной лихорадки и болей в желудке, ему не помогали настойки, которые готовил для него Маттео де Клеричи и еще один врач, присланный герцогиней Савойской, обеспокоенной состоянием его здоровья; но мучили Карла не столько телесные страдания, основная беда заключалась в больной душе, которая отказывалась верить в постигшую его судьбу.
Из собора Фьора вместе с Леонардой направились в трактир «Золотой лев», в котором Панигарола нашел им комнату. Герцог не захотел, чтобы она жила в лагере, где царила полная неразбериха и отсутствовала дисциплина, а драки были обычным явлением. Фьоре показалось, что кто-то идет за ними следом. Она ускорила шаг и услышала за собой звук торопливых шагов. Тогда, внезапно остановившись, она оглянулась. Перед нею стоял в полном вооружении человек, в котором она узнала Кристофа де Бревай. Глаза у него были полны слез.
— Почему, — спросил он с болью и гневом, — вы скрыли от меня ваше замужество? При нашей встрече вы обманули меня! Зачем?
— Разве это важно? Вспомните: вы сбежали из монастыря и захотели стать солдатом. Какое вам дело до того, как я жила прежде?
— Конечно, никакого… но, увидев вас, я понял, чего хочу от жизни. Добыть себе славы, богатства, а затем найти вас, чтобы…
— Не продолжайте! Вы хорошо знаете, что между нами не может быть ничего! Вы — мой дядя, нравится вам это или нет, а я теперь, когда все закончено, хочу поскорее забыть, что в мире существуют люди по фамилии де Бревай.
— Все закончено? Что вы хотите этим сказать?
— Что Рено дю Амель умер, умер от страха, когда увидел меня ночью у своего изголовья. А ваш отец…
В нескольких словах Фьора поведала о возвращении Маргариты в замок своих предков и о том, что они там обнаружили.
— С вашей матерью все в порядке, и я надеюсь, что она обрела нечто, похожее на счастье.
— Ну а вы, — прервала ее Леонарда, которая пристально наблюдала за молодым человеком, — вы так много ждали от военной службы, так скажите, вам сейчас лучше, чем в монастыре?
— Да, потому что я много страдал в Жито, но охотно признаюсь, что не очень люблю свою профессию.
Когда я расстался с вами, то нанялся в войска графа де Шиме, выдав себя за сына ремесленника. Я довольно быстро понял свою ошибку: я завидовал блестящей жизни кавалеров, но мне под чужим именем не на что было надеяться, мне было позволено чистить сбрую и ходить к девке из борделя, если возникало желание. И к тому же война вызывает во мне отвращение. Я видел столько ужасов…
— Тогда уходите отсюда, — сказала Фьора. — Возвращайтесь к себе. Ваша мать будет счастлива вас снова видеть, а бояться отца больше не придется.
Кристоф вздернул плечи, как бы пытаясь сбросить с них тяжесть, которая давно мучила его:
— Вы забываете, что я не сдержал своих клятв! Стоит мне появиться в Бургундии, как меня вернут в тот же монастырь и до самой смерти приговорят к затворничеству. Пусть уж лучше она найдет меня на поле сражения, под открытым небом, а не в одиночной келье.
— Возможно, мне снова удастся вам помочь, — мягко сказала Фьора. — Здесь находится папский легат, и я с ним знакома. Если он освободит вас от данных обетов, вы вернетесь в Бревай?
Кристоф отвернулся от своей собеседницы, чтобы она не смогла ничего прочитать по выражению его глаз.
— Наверное… Но не сейчас. Герцог пойдет на швейцарцев, и говорят, что вы будете с ним рядом. Я тоже хочу там быть!
— Кристоф, — вздохнула Фьора, — выкиньте меня из головы. Поскольку вам известно, что я была замужем, вам должно быть также известно, что теперь я овдовела…
— Вы можете говорить все, что вам угодно, но сердцу не прикажешь!
— Мне это известно лучше, чем вам, потому что я все еще люблю только того человека, которого у меня отняла смерть, и любить его я буду, пока жива. Единственное, чего я хочу, — это соединиться с ним. А сейчас скажем друг другу — прощай!
— Минутку! — вмешалась в разговор Леонарда. — Не позабудьте о своем обещании поговорить с легатом.
— Хорошо. Под каким именем вас знают в отряде графа де Шиме?
— Кристоф Лене — звучное имя, как видите, — с горечью ответил молодой человек.
— Все великие имена произошли от гораздо более мелких, — пожала плечами Фьора. — Даже королевские. Вы могли бы отличиться и с этим именем, но, поскольку вы сожалеете о своем, я постараюсь его вам вернуть, чтобы вы спокойно могли возвратиться к себе домой.
— Значит, вы презираете меня? — прошептал Кристоф и покраснел. — Мадам де Селонже пренебрегает такими людьми, как я?
— Нет, но признаюсь, что вы меня разочаровали.
Должны же вы когда-нибудь стать мужчиной.
— Тогда оставьте при себе вашу помощь и забудьте обо мне! — воскликнул он в полном отчаянии, и не успел никто и слова сказать, как он повернулся и сломя голову убежал. Фьора попыталась было догнать его, но Леонарда ее остановила.
— В чем дело? — с недоумением посмотрела она на Фьору. — Вы что, собираетесь бегать по городу в платье с треном и в этом эннене, высотой со шпиль собора?
Пусть он поступает как хочет, даже если не слишком хорошо представляет себе, что с ним происходит, кроме того, что он вас любит и хотел бы быть рядом с вами днем и ночью.
— Как раз этого я и не хочу. Лучше всего мне поговорить с монсеньером Нанни.
— Пока не надо ничего предпринимать! Если молодой Бревай решит вернуться домой, он сам найдет вас.
Тем не менее эта встреча взволновала Фьору. Мысль о том, что ее хороший поступок, который она совершила прошлым летом, может обернуться совершенно по-другому, мучила, и она более, чем когда-либо, пожалела об отсутствии Деметриоса, который всегда мог найти выход из любого положения, но грек был далеко и, видимо, покинул ее ради этого юного герцога Лотарингского, на которого сыпались сплошные неприятности. Против воли Фьора затаила на него обиду.
Все следующие дни герцог Карл сильно болел, и Кристоф больше не занимал мысли Фьоры. С острыми болями в желудке и распухшими ногами, с лицом, искаженным страданием, герцог был срочно доставлен в Лозанну, где ему приготовили помещение в замке. В течение трех дней и трех ночей все серьезно опасались за жизнь Карла, и врачи не отходили от его изголовья.
Город замер, прислушиваясь к прерывистому дыханию, которое в любую минуту могло прерваться.
— Если бы кто-нибудь мог сообщить ему добрую новость, — вздыхал Панигарола, — это бы поддержало его, но, как назло, все новости просто отвратительны.
В Лотарингии войска герцога Рене под предводительством бастарда де Водемона отобрали Эпиналь, а также Везелиз, Тезе и Пон-Сен-Винцент. Об этом ему, конечно, никто не осмеливается сказать. Такое сообщение могло отравить его, возможно, последние часы.
— Дело так плохо? — с сочувствием спросила Фьора.
— Насколько мне известно. Все в руках герцогини Иоланды, и она притворится, что ничего не слышит, если он кого-то из нас двоих позовет. Но говорят, что он без сознания. К нему пускают только Антуана, и я сам вчера видел, как он выходил из комнаты со слезами на глазах.
— Как жаль! Я знаю искусного врача из Византии, который мог творить чудеса.
— Флоренция? Сейчас ваш родной город в трауре, дорогая Фьора.
— В трауре? Это… не монсеньор Лоренцо?
— Нет. Умерла молодая женщина исключительной красоты, как говорят, может быть, вы ее знаете? Ее звали Звезда Генуи.
— Симонетта! — прошептала потрясенная Фьора. — Симонетта умерла?
— Несколько дней назад на вилле Медичи в Пьомбино, куда ее привезли в надежде, что морской воздух сможет вылечить ее, но напрасно.
Предсказание Деметриоса сбывалось! Ей показалось, что она слышит низкий голос грека вечером во время бала, когда они оба смотрели на Симонетту и Джулиано, которые, улыбаясь, вполголоса разговаривали.
«Ей осталось жить чуть больше года. Вся Флоренция будет скорбеть, но вас здесь уже не будет…» Искренне расстроенная, Фьора подумала, как несчастен, должно быть, Джулиано Медичи. А также о том, что прекрасный и хрупкий мир молодости постепенно рушится и, должно быть, однажды исчезнет навсегда. Флоренция пережила свои самые прекрасные праздники и свое самое прекрасное время, потому что их вдохновляла улыбка Симонетты. Ей вспоминалась пророческая песенка:
Хочешь быть счастливым — поспеши,
Потому что никогда не знаешь, что случится…
Фьора подумала, что счастье прошло дважды рядом с нею, и она два раза не смогла его удержать. Третьего раза не будет…
Вопреки общим страхам Карл Смелый выздоровел, сбрил бороду и вернулся к делам. 6 мая, еще слабый после болезни, он подписал в своей комнате вместе с Хесслером и в присутствии монсеньора Нанни договор о заключении брака между сыном императора Максимилианом и своей дочерью Марией. Свадьба должна будет состояться либо в Кельне, либо в Экс-ла-Шапелле.
Это была единственная добрая новость.
А плохих становилось все больше. Швейцарцы продолжали завоевывать Савойю. Солдаты из Вале овладели долиной Роны, а в Валь д'Аосте венецианцы и ломбардцы, шедшие на помощь к Карлу, никак не могли преодолеть перевал Сен-Бернар. Посланный против жителей Вале зять герцогини Иоланды храбрый граф де Ромон вынужден был отступить, и швейцарцы захватили восточный и южный берег Женевского озера. Из Лозанны можно было видеть подожженные ими деревни и города. К тому же герцогу были вынуждены рассказать о том, что случилось в Лотарингии.
Карл был еще очень слаб для того, чтобы разразиться обычным для себя приступом гнева, но он все же решил ускорить подготовительные работы. Через три дня после подписания договора о заключении брака он уже сел в седло, одетый в короткий шелковый плащ, расшитый золотом и подбитый мехом куницы — тяжесть оружия была еще непосильна для его ослабевших плеч, — и в течение четырех часов проводил смотр своих войск и нового вооружения. Так, солдатам были выданы пики такой же длины, как и у швейцарцев, стало значительно меньше кавалерии. Всего набралось около двадцати тысяч человек, из которых одну треть составляли малонадежные наемники, и примерно столько же — жители Савойи, полные решимости биться до последнего человека.
Было решено, что 27 мая армия двинется в направлении Верна. Начать движение она должна была из Морранса, расположенного на расстоянии одного лье к северу от Лозанны. Накануне Фьора, которая должна была присоединиться вместе с Панигаролой к герцогу, пришла в «Золотой лев» проститься с Леонардой, которая в компании с Баттистой оставалась в этом трактире.
Было безрассудно брать пожилую даму в военную экспедицию.
Прощались без лишних слов. Зная, что уговоры бессильны сломить решимость молодой женщины, Леонарда молча обняла Фьору и как можно теснее прижалась к ней. По ее лицу катились слезы.
— Не надо так переживать, донна Леонарда, — пытался успокоить ее Панигарола, который зашел к ней проститься вслед за Фьорой. — Я буду присматривать за нею. Послов редко убивают…
— Но я слышала, что швейцарцы поклялись не брать пленных…
— Монсеньор сказал то же самое. Но в плен меня тоже не возьмут, а донна Фьора все время будет рядом со мной. Знамя Милана знакомо каждому. Змея на нем будет для нас надежной защитой.
— Я знаю, что вы добрый человек и хорошо к ней относитесь, мессир посол… но она сама хочет смерти, а она — мое любимое дитя…
Миланец крепко сжал руки старой женщины:
— Я смогу ей в этом помешать. К тому же… Фьора понимает, что значит оказаться в гуще сражения. Какой бы храброй она ни была, инстинкт самосохранения очень силен.
— Я ее совсем не понимаю. Неужели она так любит Филиппа де Селонже, чтобы дойти до этого…
— Все случается только по воле божией! Молитесь за нее… и не мучьте себя слишком сильно…
Однако сам Панигарола не был так спокоен, каким хотел казаться. Эта кампания была еще большим безумством, чем поход на Грандсон. Победа над швейцарцами, по существу, ничего не давала Карлу или давала, но очень мало, тогда как поражение было непоправимо.
Было бы куда проще заняться переговорами, но как заставить принять разумное решение человека, руководимого лишь уязвленной гордыней? «Лучше умереть, чем принять позор!» Он все время повторял это себе, и единственное, чего добился от него Панигарола, так это разумно медленного продвижения армии. Зато его нельзя было убедить в том, что надо направляться прямо на Берн, в то время как он решил приступить к осаде небольшого городка-крепости Мора, расположенного на берегу озера с тем же названием.
— И как он не понимает, — сокрушенно сетовал посол в разговоре с Фьорой, — что будет расходовать свои силы на эту нору, вместо того чтобы прямо идти на противника? Карл хочет сейчас остановиться, а это даст возможность швейцарцам обойти его с тыла!
Но доводы логики не действовали на герцога. Он хотел громить все, что окажется на его дороге, все, что имеет швейцарское название. 11 июня он осадил Мора и стал лагерем на берегу небольшого озера, которое от Нешателя отделяли только низкие холмы.
В субботу утром, 22 июня, Панигарола и Фьора отправились на верховую прогулку за пределы лагеря. Погода была не очень хорошая, шел дождь, но ни миланец, ни Фьора не хотели хоть ненадолго покинуть лагерь.
В ночь с 20 — го на 21 — е прошла небольшая стычка, но она не имела серьезных последствий. Окрестности поросли небольшим леском, было зелено, свежо и красиво, и, повернувшись спиной к лагерю, трудно было представить себе, что находишься на войне. Фьора даже сняла легкий шлем, который носила по приказанию герцога. Она охотно поступила бы так же и с кольчугой, которой он же ее снабдил, но Панигарола не позволил ей сделать этого.
Всадники проехали через весь лагерь, отвечая на приветствия и улыбки встречных. Молодую женщину хорошо знали в лагере. Не потому, что она была единственной женщиной — Карл Смелый прогнал всех проституток, перед тем как покинуть Лозанну, — а потому, что все восхищались ее мужеством, добротой и ее клятвой сражаться под знаменем своего погибшего супруга, чтобы серебряные орлы Селонже участвовали в битве.
Фьора и ее попутчик, не обращая внимания на возгласы часовых, выехали за пределы лагеря на маленькую лужайку, когда неожиданно дождь прекратился и небо прояснилось. Фьора встряхнула мокрыми волосами, улыбнулась и хотела что-то сказать, но в это время посол крикнул:
— Смотрите! Бог мой, нас же сейчас сметут!
Из ближайших перелесков появились швейцарцы, тысячи воинов с аркебузами и копьями. Все они бежали в сторону вражеского лагеря, где их совсем не ожидали.
Одновременно оба всадника повернули лошадей также в сторону лагеря и стали во весь голос кричать:
— Тревога! Тревога, нас атакуют!
Ворота лагеря закрылись сразу за ними, и, даже прежде чем они добрались до герцогской палатки, раздался грохот выстрелов из аркебуз и пушек, заглушая мертвящий душу грохот горских труб.
Карл разговаривал с врачами, когда в его палатку ворвались Фьора и Панигарола.
— Скорее! Где мое оружие? — крикнул герцог.
Пока конюх седлал его лошадь, посол и Маттео Клеричи надели на него доспехи. Затем все вместе вышли из палатки, вскочили в седла и помчались прямо на противника, следом за герцогским штандартом, который сжимал в руке Жак ван дер Масс. Битва уже была в полном разгаре, укрепления были снесены, а защитные линии бургундцев прорваны. И сразу же перепуганная Фьора оказалась в самом центре беспощадной схватки и увидела, как падает знамя Бургундии вместе с тем, кто его держал. Она осадила свою лошадь, чтобы не оказаться в самой гуще, и даже не вспомнила об оружии.
Перепуганное животное бросилось к озеру, куда толпами устремлялись ломбардцы. Наемники понимали, что сражение проиграно, и теперь спасали свои жизни. Золотого орла герцога тоже нигде не было видно, а Панигаролу, по всей видимости, унесло течением реки…
В лошадь Фьоры попала стрела из арбалета, и она пала. Фьора как раз пыталась выбраться из-под нее, как увидела огромного роста швейцарца, который направлял на нее тяжелую пику. Смерть была совсем рядом, и Фьору охватил ужас. Она зажмурилась, но неожиданно почувствовала сильный толчок и оказалась распростертой на земле. Сверху на нее упало чье-то тело, и она с дрожью отталкивала его, крича от страха. Фьора успела увидеть, что швейцарец выбрал себе другую жертву и бросился к ней, потрясая своей окровавленной пикой, и узнала того, кто умрет вместо нее.
— Кристоф! Боже мой, Кристоф!
Грудь молодого человека была в крови, а изо рта тоже стекала тонкая струйка крови, но все же он открыл глаза и слабо улыбнулся:
— Вы теперь сами видите, что… надо было не препятствовать мне, — с трудом произнес он. — Спасайтесь, Фьора! Армия бежит, но палатка герцога совсем рядом. Спрячьтесь в ней, а если вас найдут, не скрывайте, что вы — женщина… Вам надо выиграть время…