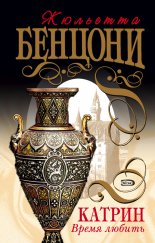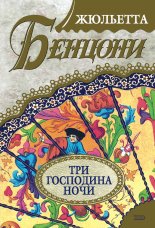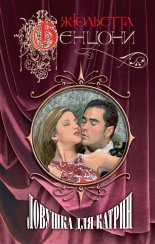Сделка с дьяволом Бенцони Жюльетта
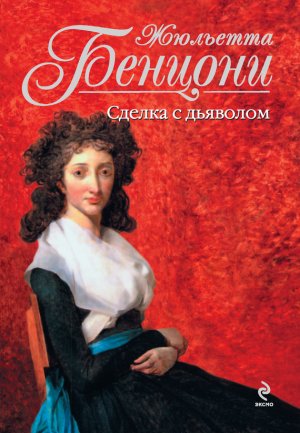
– Будьте готовы отвезти меня в Шод-Эг, Франсуа. Я уезжаю в Париж. Моя самая близкая подруга в опасности. Я должна ей помочь. Скажите Жану, когда увидите его. Он должен будет понять это.
– Он поймет лучше, если вы черкнете ему записочку. Мне кажется, вы на него сердитесь, и, если честно, думаю, вы не правы.
– Не права, что хочу прожить жизнь рядом с ним? Если бы он любил меня так же, как я его, этой проблемы вообще бы не возникло.
– Скорее, если бы он любил недостаточно. Жан знает, что в этом мире каждому уготовано свое место, которое он должен занять, чего бы ему это ни стоило. – Затем, понизив голос, он добавил: – Вы думаете, я не любил ту, что впоследствии стала вашей матушкой? Я любил ее больше всего на свете и никогда не переставал любить. Однако я ничего не сделал, чтобы помешать ей уехать. Вы отправляетесь туда, куда вас зовет долг. Он поступил так же. Только не уезжайте, не оставив ему хотя бы несколько строчек…
Спустя час багаж был собран, письмо написано. Гортензия отправлялась в Шод-Эг, где собиралась переночевать в доме своих друзей Бремонов.
Доктор и все его семейство очень ее любили и помогали ей, когда она, скрываясь от ярости маркиза, бежала из Лозарга. Они бы ни за что не простили ей, остановись она не у них, а на постоялом дворе. Молодая женщина провела, таким образом, приятный вечер, сидя у камина в окружении мадам Бремон и ее дочерей, пока сам доктор ходил по городу, навещая больных. Этот вечер был для нее кратким отдыхом, почти совсем таким же, как когда-то, год назад, передышкой в битве, давшей ей возможность немного отдохнуть и перевести дыхание. И когда наутро Гортензия уже катила в почтовой карете по трудным каменистым дорогам горной Оверни, ей показалось, что время повернуло вспять и все начиналось сызнова.
Это впечатление не оставляло ее и четыре дня спустя, когда тяжелая карета под звуки рожков форейторов въезжала во двор почтово-пассажирской конторы на улице Платриер. Все было, как в прошлый ее приезд, за двумя исключениями: в дороге ее не сопровождал полковник, предложивший свои услуги путешественнице, да и погода была отвратительная. В Париже моросил ледяной мелкий дождь, что, впрочем, никоим образом не отражалось на предрождественской суете, царившей в городе. Вокруг колыхалось море зонтов, ставших недавно королевской эмблемой.[2] Люди, согнувшись в попытке укрыть от дождя свертки с подарками, торопились по домам.
Гортензия с трудом отыскала экипаж, кучер которого согласился отвезти ее в Сен-Манде. Путь предстоял длинный, к тому же начинало темнеть. Из-за дождя экипажи были нарасхват. Но ей в конце концов улыбнулась удача в лице старого кучера кабриолета.
– Я собираюсь в Пикпюс, пора ставить упряжку в сарай, милая дамочка. А ваш Сен-Манде – это совсем в другую сторону, но если вы прибавите чуток на обратный путь… Экипаж-то у меня новехонький, только о лошадке этого уже не скажешь. Мне-то дождь нипочем, а вот ее надо пожалеть…
В итоге через три четверти часа кабриолет доставил путешественницу к калитке сада мадам Моризе; сквозь голые ветки деревьев светились окна первого этажа. Гортензия улыбнулась при виде этой картины. Маленький домик в Сен-Манде когда-то послужил для нее и маленького Этьена самым приветливым убежищем, и она искренне была рада вновь оказаться здесь.
На надтреснутый звук колокольчика на крыльце возникла служанка Онорина:
– Кто там?
– Мадам де Лозарг, моя добрая Онорина. Доложите, пожалуйста, вашей хозяйке, не…
Она не успела договорить, как на крыльцо выбежала маленькая кругленькая дама в черном шелковом платье и чепце из белых кружев.
– Ну я же говорила, что это она! – вскричала мадам Моризе, сунув Онорине огромный, размером с палатку, зонтик. – Я видела ее во сне…
Мгновение спустя путешественница очутилась в объятиях милой старой дамы, которая, отдавая Онорине массу самых противоречивых приказаний, помогла ей освободиться от манто, снять шляпу. Укутав Гортензию кашемировой шалью, хозяйка повела ее в свою крошечную гостиную, где усадила в удобное кресло поближе к огню, пылавшему в камине. Следом, как по мановению волшебной палочки, появился поднос с чашкой свежезаваренного чая и горкой тартинок с медом и вареньем.
Гортензия с удовольствием отдалась после трудностей и неудобств долгого пути ласковым материнским заботам своей старшей подруги. Да и вся обстановка этого дома, казалось, была создана для того, чтобы принимать и отогревать несчастные сердца. Она отдыхала. Ноги, онемевшие после бесконечных часов, проведенных в холоде и неуюте дорожной кареты, понемногу согревались, боль отступала. Рассказывая приятельнице об Этьене, к которому та была очень привязана, она как бы возвращалась в те весенние дни прошлого года, когда мадам Моризе впервые вошла в ее жизнь и жизнь сына на счастье обоим.
– Как я рада вновь увидеться с вами, – произнесла она наконец, когда поток слов мадам Моризе иссяк. – Я так часто вспоминала вас.
– А я? С тех пор как господин Видок зашел спросить ваш адрес, ваша комната ждет вас. Я была уверена, что вы приедете.
– Господин Видок рассказывал вам, что случилось? Он мало о чем написал мне, я только знаю, что Фелисия в тюрьме…
– Я знаю не больше вашего. Но он непременно зайдет к нам сегодня вечером, поскольку он знает, что сегодня прибывает почтовая карета из Родеза. Он тоже был уверен, что вы приедете.
– Это доказывает, что вы оба хорошо меня знаете. Иначе и быть не могло, я так волновалась.
У входной двери звякнул колокольчик, прервав ее слова.
– Должно быть, это он, – сказала мадам Моризе, поднимаясь, чтобы встретить гостя. – Я никого не жду в это время.
Это действительно был Видок. Бывший каторжник, ставший главным полицейским Франции, пусть и превратившийся ныне в простого бумагозаводчика, подав в 1827 году в отставку, оставался по-прежнему самым информированным человеком в стране. Это удавалось ему благодаря многочисленным друзьям, почти сообщникам, как в самой полиции, так и в самых различных местах. До Гортензии донесся из прихожей его звучный голос:
– Она здесь? Это лучшая новость за сегодняшний день…
– Что до новостей, – крикнула она в ответ, – похоже, у вас они в основном не очень веселые, господин Видок! Ваше письмо меня просто испугало.
– Для того я его и написал, графиня. Я надеялся, что вы приедете, так как, кроме вас, некому вызволить вашу подругу из западни, в которую она угодила.
– Кроме меня? – удивленно переспросила Гортензия. – Я, конечно, сделаю все, что вы скажете, но я всего лишь сельская жительница, без связей. Боюсь, что мне не хватит влияния.
– У банка Гранье де Берни, наследником которого является ваш сын, этого влияния больше чем достаточно. Вместе с банком Лаффит они решительно поддержали новую монархию. Король Луи-Филипп вряд ли сможет вам отказать…
– Надеюсь, вы не ошибаетесь, но, прошу вас, расскажите, что произошло? Что за западня, в которую попала графиня Морозини? Главное, где она? Вам это известно?
– Конечно же, известно. Она в тюрьме Ля Форс.
– Ля Форс? Но ведь это не женская тюрьма!
– Политическая, и мадам Морозини содержится там вовсе не в качестве женщины. Она была арестована в мужском платье, в нем и пребывает. Я думаю, мои сведения достоверны: она сидит в одиночке, и ей грозит судьба ее брата. Она может быть заключена в один из страшных казематов замка Торо, откуда вам почти удалось его освободить в свое время.
Гортензия невольно вздрогнула при воспоминании об этой самой ужасной минуте, проведенной рядом с Фелисией. Берег Бретани незадолго до рассвета, лодка с четырьмя гребцами, которые только что предприняли попытку совершить невозможное: вырвать пленника из застенков замка Торо, старинной морской крепости, стоящей неподалеку от рейда Морле. Им бы удалось их безумное предприятие, если бы именно в это мгновение тот, ради кого все было задумано, Джанфранко Орсини, брат Фелисии, несколько месяцев тому назад арестованный как карбонарий, не умер у них на руках.
Перед мысленным взором Гортензии вновь предстал серый силуэт страшной тюрьмы, противостоящей ветрам и волнам. Мысль о том, что Фелисия, прекрасная и гордая Фелисия, обречена проводить там дни в бесконечной агонии отчаяния, была ей невыносима.
– Расскажите же мне, как все случилось, – попросила она, вздохнув, – и если это была ловушка, кто ее поставил?
– Клянусь честью, не знаю. Через несколько дней после вашего отъезда мадам Морозини вызвали, как обычно, на собрание в кафе Ламблен. Она, кажется, колебалась, идти ли ей туда, поскольку она собиралась направиться в Вену и…
– Я знаю. Иногда мне хотелось поехать к ней туда…
– К счастью, вы этого не сделали! Итак, она была готова к отъезду, но приглашение было составлено в очень настойчивых выражениях, и она, должно быть, подумала, что «братья» ей чем-нибудь помогут, может быть, дадут рекомендацию к тамошним карбонариям. И вот, как обычно, она отправилась туда, переодевшись юношей. Но, явившись, не застала там никого из завсегдатаев: ни Бюше, ни Руана-старшего, ни Флотара… ни вашего покорного слуги. Лишь какие-то третьестепенные фигуры, которые, видимо, должны были сыграть роль статистов. Так как вскоре была облава. Полиция охраняла все ходы и выходы. Как только появились полицейские, какой-то человек, стоявший рядом с мадам Морозини, сунул ей в руки сверток, крикнув, мол, пусть забирает его и куда-нибудь спрячет. Ну, конечно, полиция была тут как тут, сверток у нее изъяли, это оказалась…
– Что же?
– Бомба. Правда, без взрывателя, но все же… Вот почему несчастная оказалась в тюрьме Ля Форс по обвинению в террористическом заговоре против короля.
– Но это же нелепость! – возмутилась Гортензия. – Всем известно, что Фелисия ничего не имела против Луи-Филиппа. Да, она убежденная бонапартистка, но до меня дошли слухи, что король как раз и собирался привлечь бонапартистов на свою сторону. Говорят, что он призывает в армию отставных офицеров, возвращает им звания и должности!
– Может быть. Только это не относится к тем, кто добивается возвращения во Францию сына императора. А ваша подруга как раз в их числе.
– Представьте себе, я тоже.
– Меня бы удивило, не будь это так. Впрочем, я думаю, как вы. Однако ее арестовали не за бонапартистские симпатии. Вы, видимо, забыли про эту злосчастную бомбу. Она возымела самое неприятное воздействие, тем более что король с семейством по-прежнему живут в Пале-Рояле и, по всей видимости, не помышляют перебираться в Тюильри. Вот почему я написал вам, что подруга ваша в большой беде.
– Но кто же мог организовать эту западню? У Фелисии нет врагов… разве только австрийский император. Мне по крайней мере никто больше не приходит на ум.
– Надо полагать, что у нее все же есть как минимум еще один враг. И достаточно могущественный. Я знаю, что в тюрьме отказываются верить, что она женщина. Ее содержат просто под фамилией Орсини, без имени. Ей не удалось увидеться ни с судьей, ни с адвокатом. Повторяю, ее содержат в одиночной камере в ожидании бог знает чего. Может быть, перевода в какую-нибудь дыру, где о ней скоро позабудут. Но по сведениям, которые я имею, речь скорее всего идет о Бретани. Пусть, мол, займет место своего покойного брата.
– Но ведь весь этот спектакль в кафе Ламблен мог быть организован только с помощью карбонариев? А я-то полагала, что они не способны на подобную подлость, – с горечью молвила Гортензия.
– Да они тут ни при чем… Я, конечно, переговорил с Бюше и Руаном, они провели расследование. Выяснилось достоверно, что среди них есть предатель, но его пока не обнаружили. Поиски продолжаются. Предатель умрет. Бюше в этом вопросе непреклонен. Впрочем, таков закон «братьев». А пока…
– Пока нужно что-то предпринять, чтобы помочь Фелисии. Я не могу вообразить, чтобы король, взошедший на престол менее полугода тому назад, мог отдать подобный приказ: заманить женщину в западню, бросить в тюрьму, лишив ее имени и даже пола, да еще перевести в другую темницу, и все это без суда и следствия. Да такого даже при Карле X не могло случиться!
– Вполне возможно, что король ничего не знает, просто люди в министерстве внутренних дел и в полиции проявляют излишнее усердие. Но это лишь вероятность, отнюдь не уверенность.
– Что вы хотите сказать?
Видок на минуту задумался, посмотрел вокруг, как бы надеясь обнаружить шпиона за оконными шторами. Потом заговорил, немного понизив тон, отчего его собеседницам пришлось придвинуться к нему поближе, чтобы его расслышать.
– Не думаю, что ошибусь, говоря, что король старается предстать сейчас совсем в другом облике, скрыв свое настоящее лицо. Он хочет казаться оплотом либерализма и стремится завоевать симпатии буржуазии. Но на самом деле доставшаяся ему власть была предметом его мечтаний в течение пятнадцати лет. Он всегда думал, что имеет гораздо больше оснований стать королем, нежели толстяк Людовик Восемнадцатый или невзрачный Карл Десятый. Впрочем, может быть, он и прав. Но вы должны понять, что он занял трон не временно, он собирается на нем удержаться и не только обеспечить династическую преемственность своим потомкам, но привести доставшуюся ему конституционную монархию к абсолютизму. О таких вещах, естественно, громко не говорят, и боюсь, как бы это царствование не ознаменовалось всевозможными тайными происками, полицейскими расправами, скрытыми репрессиями…
– А вам не кажется, что вы несколько сгущаете краски? – спросила потрясенная мадам Моризе. – Думаю, что у вас просто богатое воображение, господин Видок.
– Не думаю. Хотите пример? Вы знаете, а может, и нет, что герцогиня де Берри отказалась доверить своего сына, маленького герцога Бордоского, который в конечном итоге и есть наш законный король, заботам его кузена Луи-Филиппа. Говорят, что она ему абсолютно не доверяет и боится за жизнь ребенка…
– О, не может быть! Король такой прекрасный отец семейства, он не сможет причинить зла невинному ребенку…
– Вы полагаете? И, однако, он пошел на это! Вот, взгляните.
Из одного из своих бездонных карманов бывший начальник полиции выудил небольшую книжечку и передал ее мадам Моризе. Старая дама, водрузив на нос очки, схватила брошюру и прочла громко и раздельно: «Герцог Бордоский – бастард!» – и тут же с отвращением отшвырнула книжицу.
– Фу, какая гадость! Но вы не станете утверждать, что это дело рук короля?
– С первой до последней строки. Там приводятся обстоятельства рождения юного принца и подчеркиваются детали, могущие бросить тень на его происхождение. Если бы вы дали себе труд прочитать этот опус, то увидели бы, что сын несчастного герцога де Берри объявлен там незаконным, причем приводится масса доказательств. Что безусловно придает характер некоей законности нашему милому Луи-Филиппу и его старшему сыну Фердинанду, которого он пока не осмеливается назвать дофином королевства.
– Неужели он до такой степени ненавидит герцогиню де Берри? Я сохранила о ней такие прелестные воспоминания в тяжелый день моего представления ко двору, – сказала Гортензия. – Она одна казалась там живой, веселой, приветливой. Единственное человеческое лицо среди толпы привидений. Она улыбнулась мне, хотела взять меня в свою свиту…
– Ну что же, мадам де Лозарг, маленькая «герцогиня-ртуть» вполне достойна такой памяти. Но именно эта жизнерадостность, эта живость и веселость ей вменяются в вину сегодня. Не забывайте, что наша теперешняя королева Мария-Амелия, впрочем, вполне благородная дама, была подругой суровой Мадам, герцогини Ангулемской, которая одной из первых громко разбранила поведение своей юной родственницы. Но оставим в покое герцогиню де Берри. Я рассказал вам все это с одной целью: показать, что, обвиненная в терроризме, подозреваемая – страшно подумать! – в покушении на жизнь короля, ваша подруга не может ждать снисхождения. Если только вы, да и мы тоже, не сумеем обезвредить эту адскую машину, жертвой которой она оказалась, или вы не добьетесь ее помилования.
– А что вы считаете более легкой задачей?
– Наверное, добиться помилования. Иначе я бы не просил вас приехать. Я уже говорил, что вся моя надежда только на вас.
– Ну вот, теперь по крайней мере мне все ясно, – вздохнула Гортензия, поднимаясь с кресла, чтобы немного размять ноги. – Я должна добиться аудиенции у короля… Скажите, как это делается?
– Вы должны ее испросить, но если у вас не будет рекомендаций, считайте, что это пустая затея. Не правда ли, странно со стороны короля, который совершенно демократично прогуливается каждое утро в парке Тюильри, в шляпе и с зонтиком под мышкой? Во дворце уже скопились горы таких просьб.
– Мне кажется, добыть рекомендации не составит труда. Достаточно будет обратиться в административный совет банка Гранье, раз вы говорите, что это мое главное оружие.
– Безусловно, вам надо их повидать, чтобы они оказали вам поддержку, в чем я ни минуты не сомневаюсь. Но, чтобы король спокойно выслушал вас в домашней обстановке, как это приличествует делам такого рода, надо, чтобы вас привел туда кто-то из его окружения.
– Считайте, что этот человек уже найден! – весело воскликнула Гортензия. – Завтра же я отправлюсь в особняк Талейрана и повидаюсь с мадам де Дино. Князь Талейран ведь один из столпов нового режима.
– По-видимому, да. Именно поэтому его и назначили послом. Он теперь в Лондоне, и прекрасная герцогиня де Дино отправилась украшать собой Ганновер-сквер, как во времена Венского конгресса она украшала дворец Кауница.
– Может быть, стоит повидать господина Лаффита, премьер-министра? – спросила мадам Моризе. – Ведь ваш отец знал его, дитя мое? К тому же он больше всего вложил средств для возведения короля на трон.
– Отец был действительно знаком с ним, но я не знаю, что это может нам дать.
– По-моему, совсем немного, – отвечал Видок. – Правда, король осыпает Лаффита милостями, откровенничает с ним, говорит на ушко… но я не уверен, что господин Лаффит долго останется на этом посту. Признательность – довольно тяжкий груз, король скоро утомится. Ваше преимущество в том, что вы еще ничего не просили взамен услуг, оказанных вашим банком.
– Так что же мне делать? К кому обратиться?
– Художник Эжен Делакруа, кажется, ваш друг?
– И очень близкий. Но…
– Его прекрасно принимают при дворе. Не забывайте, ведь он сын старого Талейрана. Мне известно, что король иногда по-соседски захаживает к нему в ателье посмотреть, как продвинулась работа над картиной, которую ваш друг готовит на выставку. Говорят, там изображена Свобода, ведущая народ на баррикады…
При этих словах Гортензия, прохаживавшаяся по гостиной, резко остановилась.
– Свобода! – воскликнула она. – Ну конечно же! Свобода с лицом Фелисии…
– Что вы говорите?
– Для этого полотна ему позировала графиня Морозини! Графиня, которая ныне томится в одиночной камере. Вы правы, господин Видок. Завтра же я иду к Делакруа…
– Но ведь завтра Сочельник, – робко напомнила мадам Моризе.
– Хорошо, что вы напомнили об этом, – ответила Гортензия. – Значит, я должна идти к нему сегодня. Мне просто непереносима мысль, что Фелисия проведет Рождество в тюремных стенах…
– Догадываюсь о ваших чувствах. Но, – добавил спокойно Видок, – должен вам сказать нечто, что вас немного успокоит. На Рождество арестантов никогда не переводят из тюрьмы в тюрьму.
Видок, собравшись уходить, взялся за шляпу. Гортензия подняла на него умоляющий взгляд:
– Ее правда невозможно увидеть?
– Говорю же вам, она в одиночке, свидания запрещены. Но, если желаете, можете черкнуть ей несколько слов, я попробую ей передать за небольшую мзду.
Гортензия подбежала к небольшому секретеру, взяла лист бумаги, протянутый ей мадам Моризе, и, набросав несколько ободряющих слов, вынула из кошелька золотой и отдала записку и деньги бывшему шефу полиции.
– Так она хоть будет знать, что я здесь и что мы позаботимся о ней. – Потом добавила со слезами на глазах: – Если вы найдете возможность передать какие-то необходимые вещи: одеяла, что-то съестное… прошу вас, скажите мне.
Видок подбросил в руке блестящую монету и улыбнулся.
– За эту цену, уверяю вас, она получит послание, и Рождество для нее будет согрето надеждой. Думаю, что это самый лучший для нее подарок от вас. Об остальном не беспокойтесь, с ней обращаются хорошо. Похоже, кто-то платит, чтобы у нее все было. Правда, это только добавляет туману, поскольку никому не известно, кто она такая.
– Интересно, что стало с ее слугами, где Тимур, Ливия, Гаэтано?
– Признаюсь, я ничего об этом не знаю. Поскольку ее арестовали под другим именем, думаю, они по-прежнему дома и очень о ней беспокоятся. Как же я об этом не подумал…
– Я позабочусь о них. Завтра пойду на улицу Бабилон.
Несмотря на усталость от долгой дороги, Гортензия плохо спала в эту ночь, она слышала каждый час бой часов на колокольне ближней церкви. Мысли ее были заняты подругой. С момента расставания она часто представляла себе, как скачет во весь опор в Вену, находит там полковника Дюшана и вместе они пускаются в рискованное предприятие, о котором она мечтала вот уже сколько лет: привезти во Францию сына Наполеона, чтобы он бы вновь поселился во дворце Тюильри, а в соборе Парижской Богоматери ему бы вернули корону отца. Как было бы чудесно стереть память о годах изгнания и видеть, как опять в небе Франции воссияет императорский орел… И вот эти героические и опасные мечтания уступили место кошмарной реальности: Фелисия, которую друзья часто называли Амазонкой, в тюрьме. Гортензия тщетно копалась в памяти, перебирая до самых мелочей все пережитые вместе события, все лица в окружении молодой женщины, пытаясь определить, кто был этот подлый доносчик. Кто сумел поставить такую коварную ловушку? Зачем? Чего добивался этот человек?
Уже рассвело, а Гортензия так и не сомкнула глаз, но зато успела составить план битвы. Сочельник или нет, она сейчас же отправится домой к Фелисии, оттуда на набережную Вольтера, где находилась мастерская ее друга, художника Делакруа. И никакие увещевания доброй мадам Моризе, обеспокоенной ее бледным видом и умолявшей ее остаться дома и отдохнуть, не поколебали ее в своем решении. В девять часов утра она послала Онорину за фиакром и уехала из Сен-Манде, пообещав вернуться засветло, чтобы не слишком волновать свою гостеприимную хозяйку.
Погода стояла холодная, но ясная. Париж, который несколько месяцев назад был весь охвачен восстанием, выглядел, как никогда, радостным и спокойным. Было видно, что все готовились к празднованию Рождества. Служанки и женщины из простонародья возвращались с рынка с полными корзинами или стояли в очереди в лавку. Предчувствие праздника витало в воздухе, как легкая мелодия, как искорки веселья, от которых становится тепло на сердце. Но Гортензия чувствовала себя чужой в этой радостной толпе. Она думала о Фелисии, но еще и о своем сынишке и о Жане. Не случись этого несчастья, она провела бы с ними чудесный праздник Рождества, сидя у камина в комнате, украшенной пучками остролиста. Ей вспомнились и ночная праздничная месса, и ломящийся от угощений стол, за которым собирались все обитатели Комбера… Увы, ничего этого она теперь не увидит. Однако для Фелисии все обстояло еще хуже.
Когда фиакр остановился у небольшого особняка на улице Бабилон, где Фелисия когда-то принимала ее с таким теплом и радушием, Гортензии показалось, будто она вернулась домой. Но этот почти родной дом теперь потерял свою душу. Это было видно по закрывавшим почти все окна ставням, по плотно затворенной калитке, да и вся атмосфера вокруг дома была какой-то неуловимо чужой, что свойственно покинутым жилищам.
Однако в особняке все еще жили люди, в чем молодая женщина убедилась, когда перед ней распахнулись ворота, после того как она назвала свое имя. Раздался радостный крик, заскрипели засовы, и громкий голос Тимура позвал:
– Ливия, Гаэтано! Сюда! Скорее! Это ля контесса Гортензия!
Как только дверь растворилась, Гортензия оказалась в объятиях Ливии, которая, забыв о том, что она горничная, расцеловала ее в обе щеки с чисто итальянской пылкостью. Кучер Гаэтано ограничился низким до земли поклоном, зато Тимур, гигант турок, верный телохранитель Фелисии, подхватил ее и приподнял, как бы убеждаясь, что это действительно «ля контесса». Затем, громогласно рассмеявшись, поставил ее наземь и самым почтительным образом поклонился.
– Добро пожаловать, госпожа графиня. Сам аллах послал тебя. Я собирался тебе писать…
– Как, и вы тоже, Тимур? Дело в том, что я уже получила одно письмо…
– От кого?
– От друга, господина Видока, бывшего полицейского…
– Ему известно, где она?
– Да… но не могли бы мы поговорить где-нибудь еще, а не посреди двора?
– Конечно! – спохватилась Ливия. – Входите, госпожа графиня. Я принесу вам чего-нибудь горяченького. Сегодня утром очень холодно.
Пока Гаэтано, оглядевшись вокруг, тщательно запирал ворота, Тимур и Ливия провели Гортензию в гостиную.
Молодая женщина с удивлением отметила, что в комнате с запертыми ставнями все оставалось по-прежнему. Дом жил обычной жизнью. Все вокруг было тщательно убрано, букеты из желто-багряных листьев, нескольких веточек остролиста и цветов стояли в вазах, в камине горел огонь.
– Мы все надеемся, что она вот-вот вернется, – вздохнула Ливия, и на глазах ее блеснули слезы. – Дом всегда готов к ее приходу. Оказалось, что не зря: вот ее лучшая подруга пожаловала.
– Спасибо, Ливия, но я не могу остаться. По крайней мере не сегодня. Я остановилась в Сен-Манде у мадам Моризе и обещала ей, что мы проведем Рождество вместе. Но чашечку кофе я с удовольствием выпью.
Ливия ушла на кухню. Гаэтано тоже скромно удалился, и Гортензия осталась наедине с Тимуром.
– А теперь расскажите, о чем вы собирались мне писать, – попросила она.
– Это из-за того человека, что приходил позавчера… Ну, этот… Человек из Морле, рыжий…
– Из… Морле? Рыжий? Неужели… Патрик Батлер?
– Да, именно он. Он пришел и сказал, что, если я хочу вновь увидеть графиню, я должен вызвать сюда тебя.
Гортензии показалось, что в гостиной со стенами, расписанными буколическими сценами, где нимфы и сатиры гонялись друг за другом по усыпанным цветами лесным полянам, грянул гром. У нее перехватило дыхание, ноги подкосились, и она упала в изящное кресло, которое жалобно скрипнуло, протестуя против такого грубого обращения. Ее глаза с испугом были устремлены на невозмутимое лицо турка, которому длинные тонкие усы придавали сходство с монголом. Гортензия была так бледна, что Тимуру пришлось принять самые решительные меры: он подошел к буфету, налил полную рюмку коньяка и протянул Гортензии. Та залпом проглотила обжигающую жидкость, будто всю жизнь только этим и занималась… Жаркая волна прилила к щекам молодой женщины. Чувствуя, что вот-вот задохнется, она рывком ослабила узел, которым были завязаны ленты ее бархатной шляпы.
– Патрик Батлер! – повторила она, как будто проверяя на слух, правильно ли она поняла Тимура. – Так это был он?.. Невероятно! Как же он сумел нас разыскать? Он знал меня под именем ирландки миссис Кеннеди, а Фелисия представилась ему моей испанской компаньонкой, сеньоритой Ромеро!
– Не знаю как, но разыскал. И госпожа пропала по его вине. Он этого и не скрывал…
– И вы не придушили его? – вскричала Гортензия в порыве гнева.
– Если только ему известно, где она, это бы ничего не дало. Я хотел выследить его, но он приехал верхом, а пока седлали коня… Гаэтано побежал следом, но потерял его…
– Я знаю, где графиня, – сказала Гортензия. И она кратко рассказала Тимуру и Ливии, вернувшейся с чашкой кофе, о своей беседе с Видоком.
– В тюрьме? – вскричала камеристка. – Да еще за бомбу?! Да этот человек и вправду дьявол!
– Я всегда это знала и опасалась его. Он человек жестокий и беспощадный. Но я одного не могу понять: почему он отомстил вашей хозяйке? Ведь у него больше причин ненавидеть меня. Я оскорбила его гордость, посмеялась над ним, – добавила она упавшим голосом…
В голове Гортензии возникла череда воспоминаний. Это было прошлым летом. Они покидали Париж с Фелисией. «Братья», карбонарии Бюше и Руан-старший, раздобыли им фальшивые паспорта. С помощью полковника Дюшана, ярого бонапартиста, они собирались освободить из замка Торо брата Фелисии, князя Джанфранко Орсини, арестованного по обвинению в заговоре против власти. Человека, который должен был им помогать в этом более чем рискованном предприятии, звали Патрик Батлер. Это был богатый судовладелец из Морле. Карбонарии рассчитывали, что он поможет им найти корабль, на котором можно будет переправить бежавшего узника в Англию. Гортензия должна была представиться ему под именем ирландской леди и попытаться соблазнить его. Молодая женщина без отвращения не могла и думать о той двусмысленной роли, которую ей предстояло сыграть, но ей пришлось согласиться, чтобы помочь Фелисии спасти своего юного брата.
Роль удалась ей без особого труда. Батлер был поначалу сдержан, что насторожило заговорщиков, но затем начал настойчиво ухаживать за Гортензией, становясь все более страстным и нетерпеливым, так что у нее не оставалось другого выхода, как бежать. Батлер отправился в Брест, чтобы там дождаться приезда молодой женщины, а та тем временем предприняла со своими товарищами попытку выкрасть Джанфранко Орсини из тюрьмы. Но все их усилия оказались напрасными: молодой человек был при смерти, когда они добрались до него. Час спустя Фелисия и Гортензия, позабыв о Батлере и его страсти, уже пустились в обратный путь в Париж, который был охвачен восстанием. Оттуда Гортензия уехала в Овернь, даже и не вспомнив о том, что где-то существует некий Патрик Батлер. И вот теперь он так жестоко напомнил о себе…
– Но почему же он так поступил с графиней?
– Потому что он не знал ни твоего настоящего имени, ни адреса. Он, конечно, выпытывал у меня, но я ничего не сказал. А с госпожой все было легко. Она среди карбонариев человек известный, и кто-то из них проговорился, не устояв перед золотом. А если рыжему стало известно, что князь Джанфранко умер, то все остальное он вычислил сам…
Наверное, Тимур был прав. Гортензии показалось, что она вновь слышит насмешливый голос судовладельца: «Ни за что не поверю, что ваша мадемуазель Ромеро простая компаньонка. У нее манеры знатной испанской дамы… или даже какой-нибудь римской императрицы». У нее в ушах опять прозвучало его наглое утверждение: «Когда хочешь женщину, по-настоящему хочешь, она обязательно будет твоей. Нужно лишь время, терпение, иногда деньги, больше ничего…»
В этих словах звучала скрытая угроза, а она не поняла. Как не поняла, что, ранив гордость этого богатого и, безусловно, могущественного человека, она нажила себе опасного врага. Тем не менее ей казалось невероятным, чтобы при всем его могуществе он сумел организовать эту адскую западню, в которую угодила Фелисия. Гортензия добавила к своему списку визитов встречу с Руаном-старшим, жившим в скромном домике на улице Кристин.
– Этот Батлер оставил вам какой-нибудь адрес, где его искать? – спросила она.
– Говорю тебе, госпожа графиня, я хотел его выследить, – с упреком отвечал турок. – Он сказал, что зайдет еще…
– Когда?
– Не знаю. Не раньше, чем через несколько дней. Ведь надо время, чтобы письмо дошло, и время, чтобы добраться до Парижа…
– Верно. Если он вернется, Тимур, никто из вас меня не видел. Я попытаюсь освободить вашу хозяйку как можно быстрее, и если получится, до его возвращения. Если на то будет воля божья, – добавила она, перекрестившись. Ливия последовала ее примеру.
– Я пойду с тобой, – заявил Тимур. – Тебе нужен телохранитель, раз этот мерзкий гяур бродит по Парижу…
– Я предпочитаю, чтобы вы остались здесь, на тот случай, если он вернется. Но вы знаете, где меня искать, и так или иначе я позову вас, если мне понадобится помощь. Вы все еще позируете Делакруа, Тимур?
– Нет, сейчас нет.
– Может быть, вы еще туда вернетесь. Это хорошее место для встреч. Впрочем, я сейчас туда и отправляюсь…
У Дома Инвалидов Гортензия села в фиакр, который доставил ее на набережную Вольтера, где находилась мастерская художника. И здесь тоже воспоминания… После представления ко двору и последовавшей за ней попытки освободить Джанфранко Гортензия нашла здесь временный, но не менее гостеприимный кров. Здесь, к ее изумлению и восторгу, ее нашел Жан, и они провели несколько самых незабываемых часов. Погруженная в эти мысли, она постучала в зеленую дверь мастерской.
– Войдите! – рявкнул знакомый голос. – Но кто бы вы ни были, не мешайте мне!
Гортензия осторожно открыла дверь и вошла. Художник действительно с головой ушел в работу. Облаченный в свою любимую просторную блузу из красной фланели, Эжен Делакруа, со всклоченными волосами, лицом, перепачканным краской, лихорадочно трудился над огромным полотном, взглянув на которое Гортензия покачнулась, как от удара…
Смело взбираясь на покрытую убитыми баррикаду, увлекая за собой народ, возникшая из дыма пушечных залпов Свобода, размахивая трехцветным флагом, рвалась вперед, как будто стремясь вырваться из рамок картины. Ошибиться было невозможно, это был бой за Ратушу, свидетельницей которого была Гортензия. Бежевые и серые фасады домов, очертания собора Парижской Богоматери и почти полностью скрытое клубами дыма июльское небо… Это было эпическое повествование о тех событиях, и оно никого не могло оставить равнодушным. Что же до самой Свободы с обнаженной грудью, к которой было обращено разгоревшееся лицо человека с ружьем, которому художник придал свои черты, у нее был прекрасный профиль Фелисии, с ее чистым высоким лбом. Это была несомненно она, пусть даже художник и придал ей больше физической силы и мощи, чем это было у оригинала. Высокая и тонкая фигура графини Морозини не могла служить моделью для оживления рубенсовских форм, символизировавших силу. Но лицо!
Погрузившись в созерцание, Гортензия и не заметила, что Делакруа перестал писать и стоял теперь с ней рядом, вооруженный, как копьем, длинной кистью, которой он прорисовывал небо.
– Если не ошибаюсь, картина вам нравится? – произнес Делакруа таким обыденным тоном, будто они расстались только вчера.
Она перевела на него взгляд, в котором читалось восхищение с грустью пополам.
– Она понравилась бы мне еще больше, если бы Свобода сама была на воле.
Художник положил мольберт и кисть, вытер о тряпку руки и со всем изяществом светского человека поцеловал кончики пальцев посетительнице. Его черные глаза искрились неподдельной радостью.
– Сегодня на меня поистине снизошло благословение господне, ибо на Рождество мне послан ангел, – весело сказал он. – Я бесконечно счастлив вновь увидеть вас, мадам. Однако что вы только что сказали о моей Свободе? Она арестована? Это что, дело рук австрийцев?
– Она даже не успела добраться до Австрии. Ее арестовали в Париже через несколько дней после того, как мы расстались. Она сейчас в тюрьме Ля Форс, и я пришла просить вашей помощи.
Ей в очередной раз пришлось рассказать о своем отъезде, о встрече с Видоком, добавив то, что она узнала от Тимура. Делакруа слушал эту исповедь, все более и более мрачнея.
– Мне необходимо повидаться с королем, – закончила свой рассказ Гортензия. – Я рассчитывала на мадам де Дино и князя, но они сейчас в Англии. Такое невезение…
– А нужны ли они вам? Вы дочь человека, бывшего достаточно могущественным. Банк Гранье существует по-прежнему, и режим ему кое-чем обязан. Именно поэтому Видок и вызвал вас. Какая еще помощь вам нужна?
– Мне надо поговорить с королем с глазу на глаз. Уж очень тонкое у меня к нему дело… Такое не обсудишь на совете министров.
– Да уж, здесь вы совершенно правы. Шутка сказать: – бомба! Бедная графиня!
– Кроме того, похоже, просьб об аудиенции слишком много. Моя может не дождаться своей очереди. А время торопит. Потому-то я и обратилась к вам.
– Ко мне? Кто же мог внушить вам, что я обладаю хоть малейшей властью?
– Король вас ценит, как мне сказали. Он сюда захаживает запросто, по-соседски…
– Все это Видок вам рассказал, не так ли?
– Да, он. Великие художники всегда пользуются своим влиянием на королей, которые их ценят. Не могли бы вы воспользоваться этой привилегией ради меня? Когда король будет у вас?
– Откуда же мне знать, бедное мое дитя? Если он и приходит, то всегда неожиданно. Признаю, что он очень интересуется этой работой, в которой видит отображение своего триумфа… Но этого недостаточно, даже чтобы заплатить мне сумму, необходимую для завершения картины! Я даже вынужден был обратиться к цивильному листу,[3] куда включены назначенные к уплате долги двора Карла Десятого, чтобы мне заплатили гонорар за «Битву при Пуатье», заказанную мне герцогиней де Берри…
– Если вам нужны деньги, я могу добиться для вас ссуды… а хотите, сама дам вам необходимую сумму.
Улыбка, скорее похожая на гримасу, мелькнула на его смуглом, красивом лице, которое могло бы принадлежать какому-нибудь восточному принцу.
– Нет, спасибо, дорогая моя. Только не вы! Я хочу получить то, что мне причитается, ни больше, ни меньше. Что же касается короля, может быть, есть способ представить вас ему, не дожидаясь, пока он явится сюда. Это может затянуться. А вы говорите, время не терпит?
– Для нее, а не для меня! – ответила Гортензия, кивком указав на незаконченное полотно. – Но вы о чем-то подумали?
– О прогулке, обычной прогулке, которую мы могли бы совершить с вами. Например, что вы скажете о следующем вторнике?
– Вторник? Но ведь сегодня только пятница…
– А завтра Рождество, а потом воскресенье. Король и его семейство скорее всего проведут эти дни в своем имении в Нейи. То, что я вам предлагаю, возможно не раньше вторника. Не желаете ли вы разделить со мной завтрак? Могу предложить вам кролика и яблочный пирог. Это пробудит массу воспоминаний, – добавил он с ослепительной улыбкой.
Но поскольку Гортензия в ответ только слабо улыбнулась, Делакруа нахмурил брови.
– А-а… – протянул он, потом, помолчав, добавил с необычной для него мягкостью: – А ваши любовные дела? Там тоже не все гладко?
Чтобы скрыть волнение, Гортензия прошлась по мастерской, потрогала занавески, скрывающие диван с подушками, где они с Жаном тогда весь день напролет предавались любви, ширму с умывальником, погладила литографский камень, восхищенным взором обвела загромождавшие стол рисунки и наконец остановилась у большой железной печи, протянув к ней озябшие руки. Только потом, почувствовав себя немного увереннее, повернулась к художнику.
– Не могу сказать, чтобы они были плохи, – со вздохом отвечала она. – Просто жизнь – сложная вещь, я имею в виду совместную жизнь. Мы такие разные с ним…
– Но прекрасно дополняете друг друга, что гораздо лучше.
– Наверное. И мы могли бы быть так счастливы, если бы не было никого вокруг.
– Никого?
– Ну, всех тех людей, что живут вокруг нас. Вы представить себе не можете, что такое провинция, друг мой. Жан незаконнорожденный, у него даже имени нормального нет, а у меня сын, ради которого я должна сохранить свою репутацию. По крайней мере так внушают мне все.
– А вам эта репутация глубоко безразлична?
– Думаю, да. Только счастье имеет значение. А с течением времени оно кажется мне таким хрупким. Жан решил поселиться в полутора лье от меня, в развалинах замка Лозаргов, чье имя он никогда не будет носить. А я с этим не могу смириться.
– И все же вы должны. Я мало виделся с вашим другом, Гортензия, но, думаю, он из тех, кто не признает оков, пусть это даже кольцо любимых рук. Так что не старайтесь. Оставьте ему свободу. Он всегда будет возвращаться к вам.
– Может быть, вы и правы. Но это так трудно, особенно если любить так, как люблю я.
– А он хочет, чтобы вы любили его иначе, не так ли?
– Возможно. Но я мешаю вам работать. Прошу вас, возьмите свои кисти…
– При одном условии, что вы побудете здесь еще немного. Я так рад увидеть вас снова. Вы расскажете мне о вашей Оверни, о вашей жизни. Мне кажется, что я никогда не узнаю вас до конца…
Гортензия осталась у него еще на час, наблюдая, как Делакруа выписывает летнее небо, заволакиваемое пушечным дымом, слушая его рассказы о парижских событиях, которые произошли за те несколько месяцев, что она провела в Оверни (ей показалось, что это было на другой планете). Он рассказал о том, что было известно об английской ссылке короля Карла X, о громком процессе над его министрами. Народ жаждал крови, требуя выдачи тех, кто в июле отдал приказ стрелять по восставшим. В октябре чуть не вспыхнул мятеж, когда под окнами Пале-Рояля собралась толпа, скандировавшая: «Смерть министрам… или голову короля Луи-Филиппа!»
– Трудно управлять страной в таких условиях, – говорил Делакруа. – К чести короля, он не уступил давлению. Полиньяк был приговорен… к гражданской казни, что для него страшнее плахи. Других приговорили к различным наказаниям. Нет, Луи-Филиппу досталась не такая уж завидная доля, как может показаться. Против него ополчились и те, кто стоял за республику, и бонапартисты; даже те, кого он вернул в армию, не колеблясь будут приветствовать Орленка,[4] если он появится здесь. Потому он и хочет создать некую третью силу, привлекая на свою сторону буржуазию. Все его министры – выходцы из этой среды, да и новый церемониал, когда при дворе собирается больше бакалейщиц, чем герцогинь, преследует эту цель… Все это создает довольно странную атмосферу, которая сбивает с толку французов и вводит их в заблуждение. Они думают, что Луи-Филипп – слабый человек, этакий добряк, из-за чего пресса (с которой, впрочем, приходится считаться все больше) часто избирает его своей мишенью. Он либо не реагирует вовсе, либо реагирует очень вяло, по крайней мере внешне; боюсь, однако, как бы это царствование не ознаменовалось целой вереницей тщетных предосторожностей, странных дел, таких, как прелюбопытное «самоубийство» старого принца Конде, повесившегося на оконном шпингалете в замке Сен-Ле, предварительно завещав свое огромное состояние молодому герцогу д'Омаль, четвертому сыну короля.
– Почему вы сказали «прелюбопытное самоубийство»? – невольно заинтересовалась Гортензия, несмотря на одолевавшие ее заботы.
– Потому что есть большая вероятность, что эту грязную работу взяла на себя любовница принца, английская проститутка, которой тот пожаловал титул баронессы де Фешер. Ее никто так и не потревожил, и она преспокойно живет себе в замке, который он ей оставил.
– Надеюсь, вы не считаете, что король был ее сообщником?
– Ну, это слишком грубое слово. Скажем, эта история его вполне устраивает, и он закрыл на все глаза. Когда заходит речь о власти и о деньгах, даже души, слывшие самыми возвышенными, могут избрать довольно странные пути. В бытность свою графом Прованским, «добрый король Людовик Восемнадцатый» повел себя низко по отношению к родному брату Людовику Шестнадцатому и своей невестке Марии-Антуанетте… Не говоря уже о племяннике, несчастном Людовике Семнадцатом. Внешне Луи-Филипп спокойный, надежный, крепкий человек. Но поди узнай, что у него на уме. Он напоминает сфинкса, портрет которого я не взялся бы писать.
– Отчего же?
– Боюсь оказаться правдивым. Мне не хотелось бы поменять это ателье на какую-нибудь тюрьму, подобную той, где томится наша подруга Фелисия…
– При том, что ее имя означает «блаженство»!
– Да, и это имя меня преследует. Мою любимую тетку зовут так же: Фелисите Ризнер. Прямая и смелая женщина. Я готов признать, что есть сходство между людьми, носящими одно и то же имя. Ну, довольно философии! Я было отвлек вас от грустных мыслей и сам опять их вам навеваю…
Он вдруг швырнул на стол палитру, поставил кисти в большой кувшин и схватил Гортензию за руки.
– Давайте верить! – воскликнул он с жаром, который иногда прорывался сквозь его маску скептика и светского льва. – Будем верить, что нам удастся вызволить ее из беды! Я изо всех сил буду помогать вам. Но только, ради всего святого, будьте осторожны! Человек, который вас ищет и который для этого не остановился перед таким злодеянием, способен на все.
– Пока он не знает, что я в Париже, мне нечего бояться. Надо, чтобы мы с Фелисией успели убраться отсюда, пока он меня не нашел. Овернь далеко, это огромный край, который надежно укроет нас обеих.
– Просто чудо, что он еще не узнал вашего имени. Вы думаете, ему это никогда не удастся? Что вы будете делать, если однажды он заявится к вам?