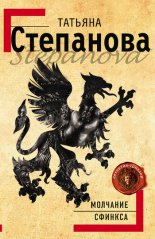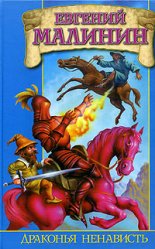Последний герой Кабаков Александр

— Успокойся, — повторил я и убрал руку. — Лучше о себе расскажи. Чего ты так разжалобилась? Да так, как я живу, другие только мечтают. Нашла, кого жалеть… У тебя-то как? Муж… как его… Игорь? А мальчик как? Ему… девять, наверное?
Она уже встала, вышла в прихожую, что-то быстро делала с лицом, стоя перед зеркалом.
— Двенадцать. Двенадцать мальчику. Зовут его Слава. А мужа, кстати, не Игорь, а Олег. И у меня все в полном порядке. Свое ателье. Все отлично. Только что из Китая приехала. Все хорошо…
Она оторвалась от зеркала, повернулась ко мне, заново накрашенные ее глаза опять влажно заблестели, но на этот раз слезы уже не пролились. Она сделала шаг вперед, обняла меня за шею, приподнявшись на цыпочки, и поцеловала.
— Не болей. Не расстраивайся. Не ешь себя.
Я открыл перед нею дверь, успев подхватить на руки попытавшуюся просочиться на лестницу кошку.
— Как ее зовут? — спросила Галя.
— Нана.
Она усмехнулась.
— В честь группы?
— Какой группы? — не понял я. — Это Золя…
— А-а, — она почему-то вздохнула, погладив кошку. И, уже закрывая за нею дверь, я услышал:
— Держись, слышишь? Не позволяй себя губить.
За дверью грохнул и пошел лифт. Я вернулся в комнату, снял и бросил на диван пиджак, снова сел в кресло, вылил себе в стакан остатки виски. В конце концов, дело у меня более или менее обязательное только вечером…
На полу, возле того кресла, в котором сидела Галя, я увидел сложенный листок бумаги. Выпал из сумки.
Я поставил уже пустой стакан, дотянулся, поднял — это был обычный белый лист формата «под машинку», сложенный вчетверо. Я развернул его, кошка на коленях заворочалась, протянула лапу, норовя отобрать бумажку. Я тихонько спихнул ее, продолжая читать короткую записку. Дочитал. Посмотрел на пустую темную квадратную бутылку с пестрой вертикальной наклейкой. Вылил в свой стакан всю оставшуюся водку. Выпил, съел две оливки, потом еще одну — вкус водки после виски был отвратителен. Закурил.
И стал перечитывать короткий текст.
«Мишенька! Вчера на улице ко мне подошел мужчина. В белом костюме, итальянском, высокий, пожилой. Назвал меня по имени, сказал, что твой старый друг, знает тебя очень давно. Сказал пойти к тебе и предупредить, чтобы ты был осторожнее. Он говорит, что это лето для тебя очень тяжелое, и чтобы ты не знакомился ни с кем близко, а он тебя предупредить не может, потому что в Москве только один день. Мишенька, я боюсь, что это мафия или кавказ. Он с усами, лицо темное. Я так и знала, что побоюсь тебе сказать такую глупость, ты будешь смеяться, поэтому написала письмо и оставлю его. Пожалуйста, Мишенька, дорогой мой мальчик, будь осторожней! Я за тебя боюсь. Я тебя не разлюбила и не разлюблю, зря ты меня тогда бросил. Целую тебя, будь осторожней, не знаю, что он имел в виду, целую, твоя Гала».
Я открыл коньяк. Такой гадости я не пил давно.
В моей жизни бывали странности и прежде, но никогда до этой записки не долетал ко мне такой внятный голос оттуда, из зимнего Сретенска, такой разборчивый привет опекуна. Летом он носит белое, но почтальоншу все же надоумил в черном явиться… Какая, с другой стороны, дешевка, если задуматься, попса, как теперь говорят… Но что же, однако, он имеет в виду, что страшного сулят мне близкие знакомства в это лето?
Вероятно, что-нибудь с женщиной. Хотя каких уж только бед и хлопот не пережил я из-за горестной своей слабости, склонности, бессмысленной и непрерывной тяги, и чем особенным можно меня еще потрясти… Я был трижды женат с участием государства, фиксировавшего в паспорте не только где, но и с кем должен жить человек. Фактически же я был женат никак не менее восьми раз, браки эти длились по году, а то и больше, налезая друг на друга, однажды я расходился с двумя женами одновременно, уже сойдясь с третьей, причем, повторю, я не безумный бабник, а вполне средний в отношениях с женщинами экземпляр, и было их у меня если и больше, чем у какого-нибудь идеального отца семейства, то ненамного. Да и, согласитесь, профессия такая, что без хотя бы некоторого чувственного излишества не обходится. Просто отличаюсь я тем, что чаще, чем нормальный мужчина, ощущаю себя женатым. «Ты через пять минут уже женат», — сказала мне однажды какая-то из жен, подразумевая, что любая моя измена более опасна для существования нашей семьи, чем обычные приключения не так устроенных мужчин. Она оказалась права впоследствии. Я не умел и не научился радоваться просто близости, просто наслаждаться, хотя к собственно наслаждению очень даже склонен, чтобы не сказать — к сладострастию. Но это не мешает мне — стоит лишь пробыть с женщиной хоть сколько-нибудь достаточное для минимального сверх физиологического сближения время, а это может быть и неделя, и одна ночь — начать думать о будущем больше, чем о настоящем, строить планы устройства общей жизни, решать общие проблемы и чувствовать себя по уши в обязательствах…
Однажды я ужасно тяжело переживал разрыв, состоявшийся по моей инициативе. Мне было безумно жалко ее, я представлял, как, разбитая и несчастная, она забросила все свои дела, отказывается от ролей, — была она вполне заметной в своем актерском цехе, — ревет ночами, портя лицо и тем еще больше вредя своим делам… Я даже вполне серьезно опасался сердечных приступов и суицидных припадков. Но через две недели мой приятель рассказал, что на капустнике в их театре (кажется, юбилей режиссера) она была, как всегда, прелестна, оживлена, пела, пила и уехала — приятель глянул мне в глаза и улыбнулся — с молодым парнем, красавцем и быстро взошедшей звездой, гордостью их труппы. «Я выходил, они как раз отъехали к нему», — сказал добрый друг и еще раз мне улыбнулся. Я жестоко разочаровал его своей искренней радостью и необъяснимым жаром, с которым я его вдруг поблагодарил, неизвестно за что, и даже обнял. Тогда я понял, что большая часть моих терзаний объясняется явным завышением ценности собственной персоны для женщин. Я вдруг задал себе вопрос: ну, хорошо, допустим, Лена (я тогда был влюблен как раз в некую Лену, из-за чего и порвал с быстро утешившейся любительницей капустников), Лена меня бросит — что со мною-то будет? Вот придет, как я пришел к ее предшественнице, и так же скажет: «Извини. Мне было с тобой очень хорошо. Но теперь я не могу… Я не хочу объяснять, почему, но не могу. Давай разойдемся по-человечески». Ну, и еще какие-нибудь пошлости, обозначающие тот простой факт, что увлечение прошло, или, скорей всего, вытеснено новым. Что же я сделаю? Покончу с собой, запью больше обычного, опущусь, перестану бриться и принимать душ, брошу съемки? Да ничего подобного! — ответил я себе честно. Я буду жить, как жил, и даже необходимость терпеть в связи с новым разрывом довольно существенные практические неудобства, поскольку мы с Леной уже съехались, устроили квартиру, из которой мне пришлось бы уйти, не привели бы меня в смертельное отчаяние, как-нибудь устроился бы, потерпел бы… Главное — продолжал бы жить, и смеялся бы, и с какого-нибудь спектакля, а то и капустника, через пару недель, уехал бы с кем-нибудь. Тогда же, если не ошибаюсь, я впервые и представил себе ту цепь связей, любовей, длительных или мгновенных сцеплений между мужчинами и женщинами, цепь, опутавшую весь мир, которая, в конце концов, и должна объединить мир и мiръ, world and peace, и когда-нибудь будет написана, наконец, не «Война и мир», а «Мир и мiръ», и это и будет конец света, а отнюдь не какой-то идиотский гриб. Затрубят трубы, и поднимутся мертвые, чтобы занять свои места в цепи, и мы все двинемся держать ответ за любовь.
Сумерки мало меняют мою квартиру, потому что я почти никогда полностью не отодвигаю темные и плотные шторы. В сумерках я допил коньяк, умылся, крепко вытер лицо свежим, жестким после прачечной полотенцем, снова старательно оделся, взял с вешалки твидовую панаму — в последнее время даже редкие узнавания на улице стали почему-то раздражать, а любая шапка сильно меняет внешность — и отправился по намеченным вечерним делам. Какой-то прием, названный, естественно, презентацией… Одни и те же, большей частью знакомые люди, выпивка, закуска стоя, разговоры об абсолютно неинтересном… Но жить без этого было уже нельзя, потому что и роли, и прочие все необходимые для жизни вещи можно было получить только в таких местах. Тусовка, только тусовка, ничего, кроме тусовки.
К тому же я не выношу вечернего одиночества дома.
Я пошел пешком, цель была недалека, в пределах получасовой прогулки, да и садиться за руль после выпивки я все-таки избегаю. И поэтому все чаще простаивает моя бедная «шестерочка», догнивает под едкими московскими дождями… Я шел дворами и переулками, механически отмечая про себя их новые старые названия, косясь на вездесущие «мерседесы», взъехавшие тяжелыми своими задами на тротуары, на бесчисленные вывески меняльных контор, обходя приткнувшиеся друг к другу стеклянные коробочки ларьков, набитые большими пластиковыми бутылками с жидкостями химических цветов — когда-то в витринах аптек стояли стеклянные шары с таким ярким содержимым, которое изображало, вероятно, яды… Я шел, поглядывая на всю эту новую жизнь, которая для меня и тех, кто постарше, так навсегда и останется новой, а для тех, кто моложе — просто жизнь, я шел от Пресни в сторону Смоленской и вдруг ясно понял, что предупреждение мне сделано, и предупреждение серьезное, а теперь уж все зависит от меня, и, если не остерегусь… Пошел дождь, я развернул зонт, захваченный и из предусмотрительности, и для завершения английского стиля. За последние два дня сильно похолодало, будто не разгар лета, а середина осени. После чудовищно липкой жары порадоваться бы, но унылый рассеянный свет сразу заставил забыть потные муки и одновременно испортил настроение, и никакой радости от прохлады не было, вместо нее пришла обычная осенняя тоска, предчувствие ноябрьского отчаяния, хотя до ноября еще было чуть ли не полгода…
— Скажите, а вы аид или нет? — услышал я и, конечно, вздрогнул, как вздрогнул бы, неожиданно услышав такое в пустом переулке, любой из вас.
Непонятно откуда взявшийся, передо мною стоял человек. Весь в белом.
5
Собственно путь мой на дно в то страшное лето и начался с появления этого человека. Потому что записка, брошенная Галей на ковер у кресла, была, если говорить всерьез, скорее попыткой остановить меня в самом начале этого пути, не дать даже тронуться в опасном направлении. Человек же, возникший передо мной в Девятинском переулке, стал как бы привратником, или, точнее, указчиком ложной дороги, ведущей в ад, в Ад. В Ад.
Как я уже сказал, он был весь в белом, а именно: в белых парусиновых ботинках с квадратными носами, на красноватой резиновой подошве; в белых (или, скорее, светло-серых) брюках (пожалуй, штанах) из сурового полотна, что шло на дачные шторы и мебельные чехлы, с застегивающимися на белые пуговицы хлястиками-стяжками по бокам; в слегка кремового оттенка пиджаке из настоящей китайской чесучи (или чесунчи?) с большими накладными карманами и опущенными, как бы немного оплывшими (как раз свечного, воскового цвета) лацканами; а под пиджаком синевато-белая, после стирки с синькой, поплиновая рубашка (точнее, наверное, сорочка) с узкими, длинными углами воротничка, наглухо застегнутая, так что воротник завернулся углами вперед; без галстука. Все грязное, с черными полосками по воротникам и манжетам, а штаны еще и в недвусмысленных рыжих пятнах.
Это был очень старый — весь в пигментационных пятнах по лысому черепу и тыльным сторонам кистей, с густыми седыми волосами, лезущими из носа, ушей и застежки расходящейся на груди описанной рубашки, косолапый, из-за чего были сбиты, смяты задники упомянутых туфель, с пропотевшими подмышками и лопатками — еврей. С приплюснутым, немного звериным носом и широким, лягушачьим ртом, коротконогий, с непропорционально маленькими ступнями и ладонями.
Откуда он здесь взялся, эта мерзкая антисемитская карикатура на моего инфернального хранителя, под вечер в Девятинском переулке? И почему я его раньше не заметил? И что он от меня хочет?
— Так вы аид или нет, я вас спрашиваю? — раздражено повторил он, и только со второго раза я понял вполне, в общем, простой вопрос. Ответил же слишком серьезно и точно:
— Ну, допустим… Что из этого следует?
— Так вы ж должны помочь аиду! — вскричал безумный старик. — А вы в бизнесе или что? Я сам с Украины, вы ж знаете, какой там антисемитизм, так я уехал в Германию как обязанный ими чтобы принять еврей, ну, даже подженился там, она, знаете, с Австрии, но очень хорошая женщина и совершенно молодая, у ней свой бизнес, стайлинг и вообще, по-нашему, портниха дамская, так бабки у нас есть, но я хочу же делать деньги, как положено еврею, и хочу вас спросить, как интеллигентного человека, а можно, допустим, если еврей с Украины или с Германии, все равно, открыть в вашей Москве, например взять, кафе или просто кнайпу, потому что ж мне положена льгота, как участнику вова, но вашей москальской прописки, конечно, нет, так я хочу написать вашему Ельцин, или пусть Лушкин, бургомайстер, чтобы как ветерану помогли, и скажите мне, я же вижу, что вы интеллигентный человек, знаете все, у вас наверняка есть бизнес, они допоможуть еврею, мне шестьдесят восемь лет, жена молодая еще, так не думайте, ей сорок шесть лет, а я с ней имею каждую ночь, и пусть будет свой бизнес, а?
Все время, пока он нес эту околесицу, я стоял молча, разглядывая его последовательно сверху вниз и как бы кивая, как бы без слов одобряя все, что он бормотал, как бы обещая ему, что аид аиду поможет. Почему у меня возникла эта ужасная привычка поддакивать, соглашаться, уступать? Причем это же совсем не значит, что я действительно соглашусь или уступлю — ничего подобного, стоит напиравшему на меня отвернуться, пропасть из поля зрения, выйти из контакта, как я тут же обзову его хорошо если идиотом, никаких уступок и не подумаю делать и вообще укреплюсь в своем мнении, но уже останется нечто — ведь своим согласием я как бы пообещал…
Я отвлекся этой, увы, привычной мыслью, и не заметил, как старик вдруг перешел к совершенно новой теме, причем излагать ее начал столь же новым языком и даже интонации южно-еврейские утратил.
— Видите ли, вам кажется, что жизнь ваша устоялась, — он вздохнул, но и вздох был не местечковый «э-хе-хе-хе-хе, вейз мир, почему несчастье всегда найдет голову еврея, и этот еврей как раз таки я», нет, вздох был сдержанный, едва слышный, и он продолжал свою новую речь, — вам кажется, что уже ничего существенно нового с вами не произойдет, что так и доживете, в большем или меньшем комфорте, приличном достатке, в не влияющих на судьбу связях, фактически, без близких отношений с кем бы то ни было, поскольку можно не считать близкими отношения, не меняющие жизнь…
Потрясенный совпадением того, что говорил этот странный, явно безумный, как бы из двух персон состоящий старик, с тем, о чем я думал в последние дни неотступно, я перебил его:
— Да как раз теперь я уже так не думаю, наоборот, вы знаете, у меня возникло чувство, что я вот-вот вступлю в полосу таких перемен, о которых уж с молодости забыл и думать, и что Бог снова обратил на меня взгляд и начинает посылать мне то, что наполняет дни жизнью… Но, простите, как вы угадали, что именно мысли об этом мучают меня последнее время? Вы так странно говорите…
— Ему странно!.. — раздраженно пожал плечами еврей. — Вы, случайно, не юрист будете? Мне нужен юрист, я сам сейчас с Германии, а вообще с Украины, так я хотел узнать у юриста по льготам для ветеранов, или их нет? Я так, скажу вам, как аиду, у вас умное лицо, так вам я скажу, как в Германии даже такой пожилой, как я, может поджениться, и у бабы есть гельд…
Он продолжал еще что-то нести про бизнес и бабки, но оцепенение уже сошло с меня, я обогнул его, успевшего в последний момент сунуть мне какую-то мятую бумажку, и быстро пошел к перекрестку, вон из переулка.
На ходу я взглянул на бумажку. Это была рекламная листовка какой-то из новых этих бесчисленных контор, торгующих жильем. Текст начинался так: «Ваша недвижимость ждет вас…» Апокалиптический оттенок этого сообщения окончательно расстроил меня, и весь остаток пути до веселого ужина я прошел уже не просто огорченный, а убитый, и чувствовал, что лицо у меня искажено неприятной гримасой, как от физической боли, и встречные поглядывают, но поделать ничего не мог. В словах старого сумасшедшего прозвучало то, что я не только сам чувствовал, но и говорил себе вполне внятно, однако, произнесенное вслух, это стало совсем невыносимым.
Я понял именно тогда, выходя из Девятинского к Смоленке, что поделать ничего нельзя, и в это лето мне предстоит пропасть. Можно было произнести то же самое и с другим ударением — пропасть, и об этом я думал тоже вполне всерьез.
В конце концов, не слова этого мыслителя, так удачно женившегося, а просто его появление, безумие, сам вид безусловно свидетельствовали: нечто началось, первый указатель пройден.
Большой, полуосвещенный зал. На стенах плохая живопись, расставлена дешевая, «под роскошь» мебель, несколько длинных столов, накрытых для фуршета — оливки, рыба, ветчина, виски, джин, водка, апельсиновый сок в кувшинах и все, что бывает на такого рода фуршетах. Публика частью выстроилась в очереди у столов, за которыми молодые люди, не глядя ни на кого, раздают еду, частью уже с тарелками и бокалами сбилась в небольшие беседующие группы.
Входит поэт в летнем костюме и с женой. Быстро наполнив тарелки, они присоединяются к той группе, где стою и я, Михаил Шорников.
Поэт (выпив и закусывая): — Здрасьте, здрасьте… А кто, господа, сегодня «Беспредельную» читал?
Политик, певец, еще один политик, политикесса-актриса, просто актриса, писатель, другой писатель (эмигрант) и М.Шорников: — Я, читал, читала! А как же! «Беспредел» обязательно! Надо их читать… Противно, а надо, ничего не поделаешь. Только их теперь и читаем, да, пожалуй, «Надысь», хоть и негодяи, конечно, а надо читать…
Еще один политик (выпив и закусывая): — А я бы тем, кто «Надысь» читает, руки бы не подавал. Вы их своими деньгами поддерживаете, а они вас потом и повесят!
Политик (благодушно выпивая): — Авось не повесят… Никто никого не повесит… Я вот, например, с удовольствием «Жлоба» читаю. Название остроумное…
Писатель (раздраженно выпивая): — Это не остроумие, это стеб! (Политикесса-актриса заметно вздрагивает и как бы краснеет.)
Политик (благодушно выпивая): — Очень остроумное название, и бумага, и полиграфия… Просто эстетическое удовольствие получаю…
Политикесса-актриса (горько, перестав закусывать): — Вот мы здесь выпиваем, закусываем, светские разговоры ведем, а в Сретенске театр закрылся, денег нет… Я запрос внесла, а вы (показывает в еще одного политика вилкой с куском осетрины холодного копчения) этот запрос похоронили! Я теперь как представлю себе Сретенск без театра, спать не могу…
Просто актриса (с удовольствием закусывая): — Кстати, у тебя вид усталый. Хочешь, позвоню одной даме, она тебе биоэнергетику наладит? И похудеешь заодно… (Политикесса-актриса с ненавистью в лице отходит к другой группе.)
Другой писатель (эмигрант) (без тарелки, курит): — Я помню, два года назад заехали ко мне ребята в Эл-Эй… Ну, Коля Пяткин, Зураб, Валечка Прихожая, Витька Полоумов… В общем, вся наша компания пицундская… Пошли в ресторанчик малайский, посидели… А сегодня я иду по Тверской, смотрю — представительство открылось малайской авиакомпании… Вот такое совпадение, господа, вот так…
Писатель (лицо искривлено раздражением, закусывает): — Какое тут, к черту, совпадение! Ты, Володя, просто жизни нашей теперешней не понимаешь, извини… А Витька Полоумов просто сволочь и в «Надысь» печатается! А-а, не знал? Вот так. В малайском-то ресторане… (роняет вилку, наклоняется, роняет бокал и тарелку.)
М.Шорников (допив): — А пойдемте-ка, ребята, к столу, да нальем себе выпить, пока есть чего…
Поэт (идя рядом с Шорниковым): — Миш, а ты не знаешь, случайно, по какому поводу сама тусовка?.. И чего-то народ вяло подтягивается, ждут, что ли, кого-то попозже?..
М.Шорников (наливая себе): — А черт его знает… Тебе виски?
Поэт (наливая себе): — Нет, джину.
Сидя ночью на кухне, наливая и наливая купленной в ларьке по дороге с тусовки какой-то фальсифицированной дряни, я плакал о своей жизни. Принято считать, что брошенные женщины плачут в одиночестве, и бедная девичья подушка намокает горькими слезами, а утром опухшие веки, и проявившиеся морщины, а надо жить, прилично выглядеть, ловить новую возможность, которая всегда может быть — все это так, но, увы, не только, не только дамы, поверьте мне! По-другому плачут мужчины, но плачут, и еще как… Вот, например, сидя на кухне с бутылкой, добивая многотерпеливую печень, не брошенные, а бросившие, да в том ли дело, кто кого бросил? Не в самолюбии дело, ей-Богу.
Как и положено пьющему в одиночестве мужчине, я думал о собственной жизни, о жизни вообще, о женщинах брошенных и еще нет, о профессии и своем в ней месте, о безусловно скорой смерти, о пьянстве, о поражении как итоге всего и о прочей ремарковско-хемингуэевско-аксеновской чепухе, давно вышедшей из моды вместе с пьянством, женолюбием и прочей романтикой.
Когда все они начинали, думал я, у них была большая фора. Папа писатель, академик, посол, зэк, дворянский осколок, сталинский сатрап, гэбэшный генерал, газетная номенклатура… Квартира на Восстания, на Кутузовском, в левом крыле «Украины», на Горького, в Лаврушинском… Дача в Серебряном Бору, в Архангельском, на Пахре, в Переделкине, в Краскове… Машина от рождения. Знакомые. Университет. Знакомые. ВГИК. Знакомые. МИМО… Коктебель, Дубулты, Пярну, Гагры…
У меня тоже все было.
Деревенская школа.
Дядя Юра, дядя Сережа, дядя Гена и дядя Яша.
Случайное поступление.
Случайный успех.
До сих пор не могу понять, как все это удалось — цепь случаев, удач, везений, прорывов, до сих пор не верю, что это я был в Париже, и там обо мне писали, и я стоял рано утром на Одеон, только что отпустив такси после круглосуточного празднования с нудными и подобострастными рецензентами сенсации по имени Михаил Шорников, в новеньком, но хорошо сидящем вечернем костюме, вы совсем не похожи на русского, месье Шорникофф, я стоял на Одеон, на островке у входа в метро, напротив кинотеатр и маленькая пиццерия, на углу банк, и я никак не мог найти улочку, где жил в небольшой, но вполне стильной гостинице, и спросил на тогда еще никуда негодном английском дорогу у мужичка в газетном киоске, и он стал объяснять руками и по-французски, но вдруг запнулся, полез в журнальные кипы, вытащил свежий «Экспресс» и, тыкая в обложку, с которой смотрел я, и даже в том же галстуке, стал восторженно объяснять уже подходившим покупателям, что вот же, вот этот знаменитый русский, вот он стоит, он только что спрашивал у меня, как пройти в гостиницу «Аббатство», вот он! Я же улыбался вполне безразличным утренним французам и слегка плыл от чудовищной ночной, в поддержание патриотической репутации, выпивки и, главное, от того, что я стою на Одеон, знаменитый среди парижан.
И портрет, огромное, в человеческий рост, мое лицо в Эдинбурге.
И полный, битком, с сидящими на ступеньках в проходе, зал в Сиднее.
Преувеличенно радостные знакомства — а, ну, наконец-то! звезда нового времени! — в Берлине.
Полный зал, камеры, свет, робкие учительницы в очереди за автографами и снисходительные признания правительственных поклонников в еще не сгоревшем ВТО.
Контрастно бурные после других участников аплодисменты на благотворительных концертах.
Разговоры «на ты» со знаменитыми, вошедшими в знаменитость, когда я был на первом курсе. Ваш поклонник, Миша… Спасибо, Леонид Степаныч… Да какой там Степаныч, Леня… Ленечка, привет, целую… Миша, привет, зашел бы в мастерскую…
Надо было получить все это вовремя. В тридцать или даже до, когда все они — Коляша, Витька, Ленечка уже получили, уже пили в ВТО, ЦДЛ, ЦДРИ, ДЖ, обнимались, целовались, сходились и расходились со своими женщинами, сдержанно воевали с властями, уезжали, внедрялись в ту жизнь, давали пресс-конференции… Был бы нормален, не чувствовал бы так явственно мистики и незаслуженности в любом успехе, не ждал бы конца еще до начала, не предвидел бы последствий раньше причин, был бы счастлив в день счастья.
В старости нельзя пережить молодость, и никакое здоровье, никакие силы не помогут — старость есть знание последствий, и уж если ты их знаешь, от них не отвернешься, не сделаешь вид, что невинен, решителен и глуп, а даже если и притворишься, и бросишься как бы очертя голову в как бы авантюру, то обязательно попробуешь подстелить соломки, и тем все испортишь: разбиться-то все равно разобьешься, а в полете свободы не будет.
Я налил еще, глянул на бутылку сбоку, вылил остатки и, перед тем, как выпить и, проверив старательно, все ли выключил, поползти к постели, с удовольствием принял обязательную перед сном мысль: а все же я их всех достал, и встал рядом, и постоял там, на обдуваемой этим сладким ветром тесной площадочке, на которой совсем немного места, и куда многие либо сверху спустились, спланировали, либо сбоку десантировались, либо встали еще до тектонического сдвига, вынесшего площадку в высоты, а я вскарабкался, влез, и даже почти не сорвался, и утвердился, а что теперь до площадочки этой никому дела нет, и другие вершины озарены новым светом — что ж, не я первый и не один оказался в тени. Выпьем, Миша, сказал я себе, черт с нею, с печенью, выпьем — мы побывали, где хотели, стоит отметить успех экспедиции, мы дошли до полюса, капитан Гаттерас, и лучше спиться на обратном пути, в низких широтах, чем сбрендить по пути к цели. За обратный путь, Миша, пусть он будет короток — укоротим же его, чем сможем, хотя бы и этой гадостью, если на скотч денег нету. Выпьем, дружок, за то, чтобы в нижних широтах приветливые аборигены и их женщины оказывали гостеприимство усталому путешественнику, и чтобы одна из них, ясноглазая и солнцеволосая…
Тут-то и зазвонил телефон в первый раз.
Зная, что я в этот вечер один, проверяла мое одиночество Таня, бесконечно длинного романа героиня, наваждение проклятой моей натуры, телесный мой тиран. Проверяла молча.
— Говорите! — зарычал я в трубку, с сожалением, но и с удовольствием — последний же — отставив стакан. — Говорите же!
— Это я, — детским, лживым голосом пропел телефон. — Ты один?
— Да, милая, я один, — еще более лживо проворковал я. — А ты?
— Я тоже. Я люблю тебя…
— Я тоже тебя люблю…
Так мы поговорили несколько минут. Боже, как можно так лгать?! Ведь я — не знаю, как она, но, думаю, что и она тоже, хотели только одного: быстро, по-деловому, договориться, кто к кому приедет, скорее всего, все же я к ней, во-первых, я в практических вещах джентльмен, во-вторых, у нее район страшноватый и безнадежный в смысле ловли машины; быстро съехаться, выпить, для порядка, по рюмке (хотя мне уже и так много, есть вероятность неудачи из-за алкоголя); лечь в постель и сосредоточенно, с опытом, приобретенным в совместных многолетних трудах, заняться сначала ею, общими стараниями, положи руки сюда, ну, ты же знаешь, а я… вот… вот… остановись… вот, а потом и мною, положи руки сюда, ну, ты же знаешь, а я… вот… вот… остановись… вот; и сразу заснуть, повторить на рассвете, и разъехаться, и больше ничего до следующего вечера, а там желания могут и разойтись, потому что ее опять потянуло бы на полный повтор, у меня же могли возникнуть обстоятельства — но ни о чем таком мы говорить не стали. Мы говорили о любви, а раздражение от невысказанного нарастало, и в конце концов мы поссорились.
Я положил трубку. Тут же раздался междугородний.
Это звонила Женя, с которой я прожил даже не годы, а десятилетия, да как бы и сейчас жил, хотя уже давно она работала в Питере, где, как оказалось, ее жаждала концертная общественность, а я оставался в Москве. Ситуация стала удобней, но оставалась такой же фальшивой.
— У тебя было занято, — сказала она, и я сразу расстроился от этих простых и выразительных интонаций, от того, что с такими возможностями она не смогла по-настоящему выбиться, все ее чертовы безразличие и высокомерие. — Я тебе звоню с того времени, как кончился концерт, а у тебя все занято…
— С Колькой трепались, — сказал я. — Ну как ты там? Здорова?
— Ты опять пьешь, — вздохнула она. — Я всегда слышу, когда ты выпил…
— Ну, немного совсем, на презентации, — я врал без энтузиазма, да и почти не врал. — Так что насчет здоровья? Ты не простудилась?
И опять было минут десять лжи. Между тем, честный разговор мог состояться, но мы были неспособны решиться на него, да и не знаю, кто был бы способен. Сказать же следовало мне: да, я говорил с одной женщиной, но не в ней дело, а в нас, я очень рад, что ты сейчас в Питере, и было б неплохо что-нибудь сделать, чтобы так все и оставалось, например, мою квартиру можно поменять на роскошную, хоть на Невском, для тебя, а я тут устроюсь, не волнуйся, и в любом случае это будет лучше для меня, чем снова каждый вечер чувствовать, что жизнь кончается… И сказать следовало ей: да, я давно поняла, что ты только и счастлив, когда я в отъезде, что давно уже хочешь ты оторвать свою жизнь от моей, но у меня нет моей жизни, и даже здесь я остаюсь твоей, и все это знают, и если этого не будет, мне не нужна квартира ни на Невском, ни на Тверской, я смогу жить и в деревне, и никто не вспомнит об этом, и потому я не отпущу тебя, пусть кончится твоя жизнь, но продлится наша…
— Ну, целую, — сказала она.
— Целую, — ответил я, повесил трубку, и телефон немедленно зазвонил снова.
— Слушай, я жутко соскучилась, — сказала Валя, с которой я расстался вчера утром. — Приезжай, а? А хочешь, я приеду…
Это были первые честные слова, которые я услышал за весь вечер, включая светские беседы, хотя и тут была не вся правда — Валюша опустила продолжение: «А там, может, останешься, или я останусь, и будем жить вместе, и вместе появляться на людях, и зарегистрируемся в интересах экономии на гостиницах, и тогда я буду стареть без страха, и не стану бояться ночей без мужика…» Но, все же, хотя бы сказанное было искренне и просто.
Поэтому я сказал: «Подожди минуту, моя хорошая, ладно?», допил стакан, договорился с Валей, что приеду к ней утром и побуду часок, перезвонил Тане и сказал, что сейчас выезжаю и буду, если не возражает, до утра, а потом набрал восьмерку… гудок… восемьсот двенадцать… номер в гостинице.
— Женечка? Это я. Да нет, я совершенно трезвый. Просто пожелать спокойной ночи и попросить, чтобы ты не расстраивалась…
— Ты разбудил меня, — сказала она, и я понял, что даже в самых запущенных случаях человек иногда бывает искренен — только в ответ на искреннее чувство.
— Не сердись, — сказал я смиренно, положил трубку, оставил кошке еды на сутки и вышел в ночной подъезд, заселенный бродягами.
Машину я поймал сразу же.
Это был очень фасонистый белый «жигуль — восьмерка», за рулем которого сидел человек в черном плаще и черных автомобильных перчатках — без пальцев и с дырками. Он повернул ко мне лицо, и я увидел, что его левый глаз вертикально растянут, а через лоб тянется глубокий шрам-вмятина. Такой след мог бы остаться от удара саблей по лицу слева.
6
С детства, будучи полным и типичным маминым сынком (да еще и бабушкиным предметом круглосуточного попечения), впечатлительным читателем и рано созревшим чувственником (соски на груди набухли, ни черта не могу понять, прижимаю их с естествоиспытательскими целями, замирая, жду, смотрю вниз, а, вот, вот, на черном сатине уже проступает… и, высыхая, превращается в проклятое, белое) — с детства я не переносил вида разрушенной или разрушаемой плоти. Шрам на животе отца, обезглавливаемая на чурке курица, продырявленная оставшимся в доске гвоздем ладонь друга, кровь, текущая по лицу пьяного, вызывали одинаковое содрогание, быструю тошноту. Впрочем, тошнило от многого: от угольного смрада паровозов, от качки в «Ли-2» между Сталинградом и Адлером, от пыли, влетавшей под брезентовый полог «виллиса», от комков в каше, от запаха, свойственного Генке Качаеву — но сильнее всего и почти сразу до рвоты от вида живого тела, цельность которого была нарушена.
Бог миловал меня самого от травм, хотя, конечно, Всевышнему в четыре руки помогали и две женщины. В городке, где преступности не было как таковой — если не считать повторявшегося ежегодно сюжета: солдат бежит из части с оружием, комендантская рота его ловит в степи, соседка говорит матери «изнасиловал», мать замечает меня и уводит соседку в прихожую, плотно прикрыв дверь, занимайся, занимайся, арпеджио, потом Гедике — в нашем тишайшем городке мать провожала меня и в школу, и в музыкальную лет до одиннадцати, гулять позволялось до восьми, в лагерь не отправляли ни разу, что будет, если раскроется тайный поход в степь (а уж тем более на реку) я даже старался не думать. Драки в классе и на школьном дворе всего раз или два кончались кровью, но из носа, то есть, как бы не совсем кровью, без видимых разрывов, разломов, без открывания внутренностей! Вот чего я боялся — внутренностей, вторжения в тайное, скрытое, в жизнь под кожей, под покровом. А потом я очень быстро вырос, перерос весь класс, и длинными руками не то что бы повергал противников, а просто удерживал их на расстоянии, чаще всего схватив за запястья. И с велосипеда почти не падал, а если падал, то не обдирался так, как другие — чуть не до кости свозя локти и колени. Первую ерундовую операцию сделали мне уже семнадцатилетнему, нарыв подмышкой, известный в народе под названием «сучье вымя», результат первой студенческой поездки в колхоз, спанья не раздеваясь, холодной грязи вокруг. Я хорохорился под местной анестезией, шутил с врачишкой, потом скосил глаза, увидел входящий в меня синеватый скальпель, услышал хруст — и потерял сознание. Тогда еще говорили «отключился», а не «вырубился»…
Все прошло. Уже не тошнит меня ни от чего, и рвало в последний раз лет двадцать пять назад, не знаю уж, сколько мне теперь надо для этого выпить, во всяком случае, засыпаю раньше. И когда слегка поддатый в тяжелую праздничную ночь доктор в 20-й, специализированной по «скорой» больнице вытаскивал упершийся в мою грудинную кость и отломившийся конец старенького, сильно сточенного ножа, вполне спокойно наблюдал я его работу, надрезы, стягиванье, шитье, только шипел тихим матом, потому что все дело шло без всякой заморозки — был я куда пьянее хирурга моего, и он совершенно резонно решил добро на меня не переводить… И лежавший у автобусной остановки на въезде в тот город почти пополам перерезанный очередью армянин… И живая корова с аккуратно отрубленными ногами… И двадцатилетняя снайперша с выколотыми глазами… И вдавленная в распаханный гусеницами асфальт голова, и туловище, от которого она была оторвана — в метре, совершенно не поврежденное… Сгоревшие, скрюченные, сломанные, порванные. Все. Не тошнит.
Ночью, наливаясь на кухне, не вспоминаю. И не снятся уже. Плачу не о них — о себе плачу, о мелких своих бедах, о будущих горестях, о пьянстве своем кухонном, о невыносимости любви, о горьких обидах. А о растерзанной плоти человеческой уже не плачу.
Но с тех пор, как стала она переносимой, все чаще вспоминаю то, что и помнить-то не должен.
Мне было три года. Мы жили в бараке, в одной комнате — мать, отец и я. Я сидел за столом, на обычном стуле, как бы венском, но с сиденьем, забитым крашеной фанерой. Я повернулся лицом к гнутой спинке, вцепился в нее руками и начал рулить, рычать, как мотор «доджа 3/4», на котором мы недавно ездили в город. Мать тоже сидела за столом, на который перед тем поставила ручную машинку «зингер» и быстро-быстро крутила ручку, и сшиваемая ею в простыню портяночная, желтоватая, в узелках бязь ползла на стол. Было скучно, может, поэтому я умудрился сквозь свое рычанье и стук машинки услышать шаги отца по длинному коридору. Спрыгнув со стула, я побежал на еще кривых ногах к двери, распахнул ее изо всех сил — она открывалась наружу — и шагнул через порог.
Двое солдатиков, которых утром привел с гауптвахты конвойный для рытья общего погреба в офицерском бараке, за день работу почти закончили, а именно: они вскрыли пол в коридоре, выпилив в нем квадратную дыру и под этой дырой вырыли яму метра в полтора или чуть больше глубиной. Им еще предстояло яму эту углубить, подровнять ее стены и укрепить их брусками, сколотить из разного подручного материала (включая и выпиленные куски половых досок) крышку, выстрогать и прибить к этой крышке деревянную же ручку в виде низкой буквы "П" — и уж тогда сдать работу жене старшины, который с огромным своим семейством тоже жил в офицерском бараке и чьими стараниями погреб, собственно, и возникал. Но завершить дело губари — производное от губа, гауптвахта, слово, употребляемое в гарнизоне всеми, в том числе и образованными женами офицеров — не успели, поскольку конвойный их увел на прием горячей пищи, которая, как известно, положена им раз в день.
А яма в темном коридоре осталась. И осталась на дне ямы воткнутая «гребнем» в землю и торчащая «штыком» вверх кирка. И я полетел в эту яму.
Когда отец спрыгнул за мной, я сидел на дне, а кирка торчала прямо у меня за спиной и ее штыковидный конец возвышался над моей головою. Отец попытался меня поднять, но что-то ему мешало, он потянул, раздался треск, и моя бязевая рубашка — сшитая матерью, естественно, из того же портяночного полотна, думаю, приворовываемого старшиной и продаваемого его женою офицершам — разодралась на спине полностью, обнаружив, что кирка прошила ее сзади насквозь. На спине у меня были две небольшие царапины, никакого другого увечья не обнаружилось. Когда мать заглянула, посветив фонариком, в яму, у нее началась истерика…
Что же касается меня, то я почти не плакал, не стал заикаться, чего очень боялась мать, но непрерывно и очень оживленно рассказывал всем желающим — соседкам, в основном — о случившемся. Я говорил нечто о яме, о папе, о лопате (так я называл кирку), о рубашке, и женщины слушали, пугались, хвалили маме мою речь (ну, прямо, как взрослый, такой он у тебя, Инночка, развитый, да ты ж и сама начитанная) и снова пугались (ведь проткнула бы, насквозь проткнула бы, один миллиметр всего). Но я продолжал рассказ, и дамы начинали удивляться.
Там был дядя, черный, говорил я, он стоял в яме, он меня поймал, потом толкнул и улетел вверх, как аэростат, черный дядя, настаивал я, весь черный, он меня поймал, прицепил к лопате и улетел, это дядя меня прицепил к лопате, я упал прямо попой на лопату, а дядя поймал, прицепил за рубашку и улетел. Испугался он у тебя, Инна, говорили женщины, придумывает чего-то, испугался сильно. Какой дядя, маленький? Мишенька, где дядя-то был? В погребе? Чего он черный, Мишенька? Не в погребе, злился я, не в погребе! Черный дядя там стоял, он меня поймал и прицепил к лопате (это он кирку лопатой называет, да, Инночка?), он меня взял, когда я упал.
Все думали, что я просто очень испугался. И только мать мне поверила. Он был весь черный, спросила она — весь, весь, мамочка, мамулечка, быстро-быстро заговорил я, на нем была черная шинель — или пальто, спросила мама — пальто, спешил я, и черная шапка, черные волосы и здесь, вот здесь — усы, сказала мама, это был большой дядя, спросила она — большой, как ты, бормотал я, засыпая, большой дядя, черный…
Отец уже спал, и я засыпал, а мать сидела рядом со мной, рядом с моей кроватью, детской настоящей кроватью, привезенной среди трофеев в эшелоне из Кенигсберга. Боже, чужая детская кровать, я засыпал и бормотал о черном дяде, который спас мне жизнь.
Сидя же на кухне, и наливаясь водкой, или коньяком, или виски, я теперь не плачу об убитых и растерзанных — я поминаю их по-другому: я укоряю черного дядю за то, что он свел ночью сорок третьего мужа с женою, за то, что поймал мальчишку в сорок шестом, летевшего задницей на кирку. Я думаю, что если я не плачу сейчас о всех убитых, то, может быть, лучше было бы не быть мне рожденным, или быть растерзанным тогда, в три года, прошедшим насквозь металлом… Боже, ну почему же не плачу я по ним?
Бормочет, как во сне, приемник. В Нью-Йорке тридцать шесть, в Лондоне двадцать один, в Париже тридцать, в Риме… в Дели… в Буэнос-Айресе… Ночной прогноз мировой погоды. О чем же я плачу, если не о растерзанной плоти?
Но звонит телефон, и одна только жизнь остается во мне, мучительная жизнь, пересиливающая муку смерти. Быстро, быстро, мой маленький дружок, нас ждут, душ быстренько, рубашечку, носочки, плавочки итальянские, туалетную воду «One man show», переводимую на русский веселыми продавщицами как «Один мужик показал», сейчас начнется этот не кончающийся, в общем-то, театр одного актера, быстро, ботинки протереть и бегом, бегом, зубную щетку в один карман, верный «браун» в другой, смешной одеколон в третий, сигареты, зажигалка, ножичек красный со швейцарским крестом и, наконец, сзади, за пояс, как Ив Монтан, Царствие ему Небесное, стволом на копчик… И — вперед!
Изуродованный шофер в черном был страшен не только шрамом. Весь его вид, и вид его машины изнутри, и манеры его были не то чтобы странны, но просто необъяснимы, безумны.
Повертевшись в тесном и засыпанном, как у нас водится, всякой дрянью нутре этой маленькой машинки, я с удивлением понял, что это даже не «восьмерка», как показалось мне в темноте снаружи, а «таврия», примодненный «запорожец». Удивление было вызвано тем, что люди, как этот водитель, на «запорожцах» не ездят, и не возят на приборной доске «запорожца» небрежно брошенный радиотелефон, cellular phone Motorola, и не носят на правом запястье несколько уже не актуальный, но аутентичный американский солдатский браслет с группой крови, а на мизинце Йельский университетский перстень, а на другом запястье тяжеленные часы «seico» типа «подшипник», фетиш семидесятых, и чикагского стиля черный плащ не так запахнут, и черная рубашка под ним с черным же похоронным галстуком не так распущена в вороте, и не так косится изуродованный левый глаз через приплюснутую и кривую переносицу на пассажира…
Но — главное! — не так едет нормальный «запорожец», да хоть бы и «таврия». Не несется по осевой даже ночью, не взлетает правыми колесами на тротуарные бордюры, не перепрыгивает открытые канализационные люки, не выскакивает на пустую иногда по ночному времени встречную полосу, не протирается у светофоров в первый ряд и даже перед ним, не зашкаливает стрелку какой бы то ни было «таврии» за стодвадцатикилометровым лимитом. И мотор, ох, не так мотор шумит…
— Гараж? — спросил в «селлулар фон» перерубленный водила, одной рукой прижимая к уху дьявольский аппарат (странно все-таки, согласитесь, из маленькой машинки на всем скаку по телефону звонить?), а другой, всем предплечьем, налегая на небольшую баранку и выворачивая ее на сотке так точно, что слегка подпрыгнув, машинка въезжает на трамвайную линию, идущую вдоль низкой чугунной ограды бульвара, мчится, дрожа, по рельсам, обгоняет подтягивающийся к перекрестку поток и успевает просквозить на зеленый. — Гараж? Привет, это седьмой говорит. Я задерживаюсь немного, тут нужно товарищу помочь. Через тридцать две минуты буду. Отбой.
— Интересная у вас машина, — робко сказал я, косясь на шофера, как бы приплывшего из молодости моей, из дивной и удивительно жизненной в деталях песни «Мы идем по Уругваю», из фильма «Плата за страх», из еще чего-то столь же ушедшего в прах времени. — Странная такая машина, и ведете вы…
— Веду, как положено, — сказал водила, закладываясь в левый поворот там, где и правого-то не могло быть, — спецправила по спецвождению для спецмашины, седьмая часть: «Калым, подкалымливание и другие нештатные использования спецавтотранспорта». А аппарат действительно, хорошо ребята подготовили: стойки укрепили, подвеску перебрали, двигатель Ванкеля, электрика вся с «мицубиши» взята, только кузов с «таврии», но наварной. Машина, действительно, что называется…
— А я тут спешил, — начал я, — поздно уже, народ ехать не хочет, как будто им деньги не нужны…
— А я вижу, что интеллигентный человек спешит, — шофер вытащил из бардачка не столь уж популярный сегодня «Kent», положительно он задержался в семидесятых, прикурил «Ronson'ом» реактивных форм. — Ну, вижу ведь, что интеллигентному человеку нужно…
С этими словами он въехал на тротуар, обгоняя троллейбус, и спрыгнул на мостовую точно в объятия пыльного (видно было даже в темноте) инспектора-капитана, в центре мегаполиса почему-то стоявшего в грязных сапогах.
Я сидел в машине, а он пошел объясняться.
— Может, вы дадите ему десять тысяч, — сказал он, вернувшись и роясь в сумке, вытащенной с заднего сиденья, — может, вы покажетесь ему вместе с документом, может, отпустит? Что же я, пистолет ему буду показывать, что ли…
Он, продолжая рыться в сумке, как бы что-то ища, как бы нечаянно, немного распахнул плащ и обнаружил слева подмышечную кобуру, светлой кожи итальянское изделие ширпотреба, в которое был не очень ловко упакован один из величайших пистолетов — довоенного выпуска с крупным рифлением на затворе «ТТ», калибра 7,62 (подходит и «маузер-7,63»).
— Может, стоило бы показать? — робко предположил я.
— Не рекомендуется, — твердо сообщил водитель. — Лучше я этому козлу две кассеты дам с Брюсом Ли, он согласен…
Я промолчал, поскольку на Брюса Ли возразить было нечего.
И мы поехали.
Мы поехали, черт бы нас побрал, въехать бы нам по дороге в ставший поперек асфальтовый укладчик, в его тяжкий крутой зад, в неподъемный его, памятникообразный задний каток, да расшибиться бы в кашу, в слизь, в уничтожение, да кончить бы все это дело. Мы поехали в самоубийство, сто тридцать в городе, поперек сплошных линий, прямо на ментов, через газоны и разделительные полосы.
— Так я понимаю, вы спешите к даме, — сказал спецводитель, — все ясно, дело знакомое каждому. Единственно, что хотел бы посоветовать, если позволите: с дамою этой вы к концу свидания сегодня же и порвите. Сколько можно тянуть? Запутываетесь вы в отношениях все ужаснее, прежде, бывало, в именах лишь ошибались, а сейчас вам ваши блондинки уже все не только на одно лицо, но, пардон, и прочие детали организмов сливаются…
— Позвольте, — от неожиданности этой интонации и оттого, что кривой наглец был совершенно прав, я даже забыл про его аргумент подмышкой и перебил довольно резко, — а какое, собственно, ваше дело? Моя личная…
— Есть дело! — рявкнул дьявол. — Вы по званию кто?! Старший лейтенант запаса. А я Полковник! Специальных! Внутренних! Воздушно! Десантных! Войск! Особого! Назначения!
И замолчал. Провизжав по асфальту резиной, его взбесившаяся консервная банка стала задом точно к тому подъезду, где меня, вроде бы, должны были ждать.
— Счастливенько вам, — как ни в чем не бывало сказал шофер голосом обычного калымщика, принимая десятитысячную бумажку.
Был этот страннейший человек весь в черном и знал то, что никак случайно остановленный водитель знать про меня не может, будь он хоть маршалом спецназа всея НАТО, СЕАТО и остальных некогда агрессивных, а теперь глубоко дружественных блоков. Человек в черном, дающий мне совет, как облегчить, сделать выносимой мою жизнь. Конечно, если уж он ее спас, эту задницу, от кирки, то смотреть, как на нее ищут приключений, ему неприятно. Опекун. Его, что ли, почерком и записочка была накарябана? Интересно, Галка у них в штате, или разовое поручение?
— Здравствуй, — сказала Таня, открывая дверь, установленную в сотрудничестве с соседями на входе с лестничной площадки в отсек, общий тамбур для четырех квартир, — я видела, как ты подъехал на каком-то драндулете. Так спешил, что взял машину, а приехал только через два часа. Что-нибудь случилось?
Не помню уж, что я ответил, но нечто раздраженное. Боже мой, ну почему ей надо проникнуть в каждую секунду моей жизни?! Неужели это уже навсегда — ее расчеты моей средней скорости, расстояний и времени, сопоставление, анализ, вопросы?
В комнате уже была раздвинута во всю ширину, накрыта свежим бельем тахта, горела небольшая лампа в углу, маленький стол был подвинут к ложу и, в соответствии с классическими рекомендациями, стояла на нем большая тарелка с яблоками. Для завершения картины я достал из сумки бутылку шампанского.
И лишь следующие полчаса дали отдых от пошлости.
Потому что любить в постели она умела так, как никто до нее не мог и после не сможет. Во всяком случае, она сама была в этом уверена, а самоуверенность передается окружающим в виде почтения. И как только она ложилась — или вставала, или садилась, или выгибалась, или повисала, или взмывала, или падала — я проникался полнейшей серьезностью и в течение некоторого времени, от пятнадцати минут до часа, бывал старателен, упорен, сосредоточен и делал порученное мне дело достойно и честно.
Если же не ерничать, то с огромным наслаждением, которое не мог уменьшить даже ее характер — она была столь же невыносима в жизни, сколько неотразима в постели.
А через полчаса, уже одевшись, уже выпив нелюбимого шампанского, вдруг я открыл рот и сказал вот что:
— Ну, будем считать, что мы попрощались. Я не могу больше продолжать наши отношения. Извини…
Я произносил эту небольшую речь и удивлялся каждому слову все больше и больше. Я чувствовал, что открывается мой рот, но слышал его голос, ах, проклятый водила, да кто тебя уполномочил рвать за меня с моей многолетней любовью, лезть в мои действительно запутанные амуры — но в мои?! Впрочем, незаданный этот вопрос был чисто риторическим, потому что как раз полномочия-то у него были, не могли не быть.
Она плакала, слезы ползли по весьма уже глубоким, увы, носогубным складкам, рано отмечающим наших женщин. Закаленные столичные жительницы, выкуривающие по две пачки, перепивающие мужскую компанию, не спящие по три ночи подряд, не последние в выбранных профессиях, навсегда застрявшие между тридцатью пятью и сорока — они сохраняют в недоступности для времени и усталости все: небольшие скромные груди, вполне пригодные для самостоятельной жизни в достойных руках, а не в белье «Triumph»; тонкую и чистую кожу повсюду, не темную даже там, где у ровесников иного пола она уж давно стала сизо-коричневой, а лишь чуть розоватую; ясность глаз, создаваемую сочетанием хорошо проявленного (карандаш «Lancome») цвета радужки с голубизной, без единого кровоизлияньица, белка; свежесть всех слизистых и волосяных, тайных и явных… Но две… нет, три вещи подводят бедных наших прекрасных товарищей. Немного, чуть-чуть разносившиеся ступни: едва заметно изменившие заданному направлению — хотя ухоженные, ухоженные! — пальцы, и косточки, косточки, черт бы их взял! Взгляд, когда отвлекутся и сосредоточатся, твердый, даже суровый, мужской совсем, ох, мужской, а жизнь какая, девки, какая у нас жизнь? И, наконец, the third one: складки, соединяющие иногда (от слез, в основном) красноватые крылья носа, носика даже, с уголками рта (о, рот, особый разговор!), все глубже они с каждым прозрением, откровением, открыванием жизни, старая уж ты дура, что ж ты ждала, чего можно дождаться от этих истериков, алкоголиков, боящихся всего на свете — смерти, жены, безденежья, неудачи, жизни, бедная девочка, чего ж ты ждала, неужто счастья и верности? Все глубже складки на чистеньком, без морщинок лице. Все больше сходства придают они кокетливому личику первой красавицы сезона с твердым фэйсом землепроходца, авантюрного одиночки, тихо раскуривающего сигарету перед форсированием водопада…
— Ты все придумал, — сказала она, продолжая плакать, халат распахнулся, и я видел небольшие скромные груди, тонкую и чистую кожу, свежесть всех тайных и явных… Я видел также ступни, косточки, залитые слезами складки и все остальное — но все это меня почему-то уже совершенно не касалось, чертов спец, чтоб ему провалиться туда, откуда вышел! — Ты придумал себе какую-нибудь очередную любовь, как ты придумал в свое время любовь ко мне. Но у нас уже годы, все стало давним, я привыкла, понимаешь?! Ты понимаешь, сука ты бесстыжая, что я к тебе привыкла? Ну, пожалуйста, пожалуйста, милый мой, мальчик мой любимый, не бросай меня, и мы еще долго, долго, и все пройдет…
— Не кричи, — сказал мною Полковник. — И если ругаешь меня, то почему же в женском роде? Не кричи, пожалуйста, все равно ничего не сделаешь уже…
После чего я разделся, она кинула назад халатик, и мы проделали весь путь с самого начала. После чего я ушел, попытавшись ее поцеловать на прощанье, но она отвернулась.
«Таврия» стояла у подъезда, и как только я вышел, он включил зажигание.
— Теперь к которой? — спросил он, выезжая на шоссе, на тысячу раз езженное шоссе, все, прощай, шоссе, прощай! — На Дмитровку, на Шереметьевскую, или сразу домой?
— На Шереметьевскую, — ответил я, не то что не удивившись, но даже начиная задремывать, что нередко бывает со мною, стоит мне занять в машине пассажирское место, — на Шереметьевскую, шеф, по дороге на полчасика на Делегатскую, ну, шеф, сам понимаешь, Пролетарку надо проехать, ну, там буквально пятнадцать минут, а уж оттуда на Дмитровку, конечно, командир, на Дмитровку обязательно, ну, и домой, куда ж еще, время позднее, домой пора, в гавань, в крепость…
Когда, открывая в четверть восьмого утра свою дверь, я обнаружил, что изнутри накинута цепочка, я даже не удивился. Как еще могли закончиться поездки на «таврии», вслед которой я посмотрел минуту назад?
Она была вполне одета, в прихожей стоял чемодан, с которым она уезжала.
— Ты вернулась? — задал я единственно возможный вопрос. — Что там в Питере? Между спектаклями перерыв?
— Ты дурак, — и она нашла единственно возможный ответ. — Ты предатель. Я была тебе хорошей женой, я старалась…
— Женой… хорошей… — осторожно, но с двусмысленной интонацией перебил я.
— Ты просто тварь, — отреагировала она, и была больше права, чем ей казалось. — Я приведу себя в порядок, возьму, что необходимо, и вернусь в Питер сегодня же. Через месяц, когда гастроли кончатся, я буду решать…
— При чем здесь ты? — опять перебил я, уже злобно, откуда злоба-то взялась, где ж у меня совесть-то… — Ты здесь ни при чем, у тебя, как всегда, все в порядке… Я могу уйти хоть сегодня, а уж к твоему приезду, блуждающая звезда, примадонна, общенародная и всеми заслуженная…
Тут-то она и въехала мне по роже и ушла в ванную. Я подошел к зеркалу — оценить количество жертв и размеры разрушений.
За правым плечом и за левым плечом стояли они, в черном и белом, меняясь местами, доброжелательно подмигивая и строго кривя губы. Взяли они меня в наблюдение и разработку.
Вы чего, ребята? За мною, что ли? Пора, что ли? Срок?
Не болтай чепухи, старый. Просто присматриваем, а то ты не знал, присматриваем просто, чтобы совсем уж в разнос не пошел, девушек твоих, старый ты козел, регулируем и утешаем, присматриваем, понял?
А чего за мною присматривать, мужики? Ну, бабник умеренный, ну, сильный до умеренного, ну, пишу свои картины, снимаюсь в своем кино, песенки свои пою, стишки свои сочиняю, статеечки свои публикую. Чего присматривать-то? я бы и сам от тех ушел, я бы и сам эту достал бы до края, я бы и сам…
То-то и оно, что сам. Думаешь, не слышали, как ты с другом беседовал? Мол, лучший способ — к каждой щиколотке по кирпичику тяжелому проволокой примотать, да на перила старого метромоста, да в височек из пистолетика, в срок приобретенного — чтобы без хлопот для оставшихся… А говоришь, присматривать не надо.
Вздор это все, ребята. Какой пистолет, какая проволока? Мечты детские… Дайте вы мне жить, как получается, а? Оставьте вы меня.
Сегодня до вечера свободен, у нас собрание. Но не вздумай чудить, понял? Все равно найдем, ты ж нас знаешь…
Знаю, знаю…
Я лег на диван и уснул. Засыпая, я слушал, как в ванной моется женщина, как гудит ближняя улица за окном, как звенит в ушах давление.
7
Москва, сентябрь, 19..
Г-ну Кабакову Александру Абрамовичу, автору
Милостивый государь!
Обратиться с этим письмом к Вам меня вынудили обстоятельства, известные Вам столь же, если не более, как мне. Речь идет, нетрудно понять, о сочиняемом Вами сейчас романе, с первыми главами которого я, увы, познакомился в течение нескольких недель минувшего лета самым непосредственным образом. Вполне отдавая себе отчет в двусмысленности и даже некоторой противоестественности моего поступка, решаюсь, тем не менее, беспокоить Вас нижеследующим исключительно по причине окончательной невозможности дальнейшего существования в предложенных Вами обстоятельствах. Более того, не только моя жизнь вследствие помянутого сочинения осложнилась до почти совершенной невыносимости, но и судьбы иных лиц, преимущественно дам, созданий слабых и уязвимых, оказались ущерблены. Вам, верно, они представляются лишь персонажами более или менее второстепенными, а мельком появившаяся главная — по Вашему разумению — героиня уж в любом случае не больше заслуживающей деликатного обращения, чем Ваш покорный слуга.
Позвольте же заметить, сударь, что отношение такое я считаю не христианским, не благородным и даже вовсе бессовестным, и за слова эти готов отвечать не только перед Вами, как порядочный человек, но и перед Господом.
Перейду, однако, к сути.
Что, собственно, есть предмет прожитых мною и моими близкими к сегодняшнему дню глав? Постоянно отвлекаясь пересказами историй из моего раннего (и даже неначавшегося) детства и из юности моей, как у многих, бессмысленно проведенной, Вы повествуете о нескольких летних днях и ночах, в продолжении которых я прощался со своей прежней жизнью, — по преимуществу, с близкими приятельницами, — намереваясь начать жизнь новую, не то в чистой и единственной любви, не то, напротив, окончательно гибельную, опустившись на дно общества. При этом Вы утверждаете, что некое предчувствие того и другого возникло в моей душе давно, будто бы я даже был уверен, что рано или поздно опущусь, погибну как приличный человек, «пропаду», как Вы изволили выражаться. Таков не то что бы сюжетец, сюжета здесь давно никакого нет, но словно мотив Ваш.
Что ж, скажу я, и это может быть предметом литературы. Вот хотя бы «Живой труп» гр.Толстого, или некогда виденный мною французский кинофильм «Столь долгое отсутствие» с Бурвилем, ежели не ошибаюсь, в главной роли, или роман некоего Стоуна (не Ирвинга, а другого, имя изгладилось из памяти) «В зеркалах», лет двадцать назад читанный мною в журнале «Иностранная литература»… Словом, Вы могли бы, как это Вам, уж простите, вообще свойственно, пойти по давно и успешно пройденному другими пути и написать доброкачественную психологическую вещь. Дескать, жил себе человек, вел принятый в его кругу умеренно светский образ жизни, трудился по мере сил и Божьего дара на избранном поприще (a propos: о профессии моей позже специально скажу), имел романтические приключения, но устал от всего этого, смысла стал искать, оправдания — да в висок себе и пальни. Или, можно предположить, начал пить, с непотребными людьми проводить ночи и докатился до золотой роты. Или сначала второе, а после первое. Одним словом — грустный роман, русский, да хоть бы и не только русский, в чем-то и поучительный. И, смею Вас уверить, ровно никаких претензий у меня бы не появилось, и уж конечно, письма бы герой автору не стал бы писать. Оно в таком-то романе и невозможно.
Но Вы, почтенный Александр Абрамович, избрали иное.
Прежде всего, выше всякой меры увлеклись мистикою, сверхъестественным в немецком духе, всяческим суеверием, годным разве что для детских сказок и интересным лишь навечно оставшимся в недорослях читателям довольно известного романа драматурга Булгакова. Да коли бы получилось хотя как у него! А то ведь просто смех читать — какие-то мужчины в черном и в белом, спасители, хранители, искусители, за правым плечом, за левым, говорят, как филеры, а по сути-то ангелы якобы… Полноте, господин автор, ведь просто чепуха вышла! И любой, хотя бы критик той же «Беспредельной газеты», вам скажет, что вся эта чертовщина — от бессилия, оттого, что сюжеты иссякли, что эпигонство в крови, что сели писать роман, а романа-то нету-с.
Однако пойдем далее, благо не одними ангелами населили Вы сочинение Ваше.
Вот герой, Михаил Ионыч Шорников, я, то есть. Первое: чего это Вам в голову вошло, что у меня отчество Янович, от переделанного по-домашнему батюшкиного имени? Никогда такого не бывало, и в бумагах я записан Ионычем, и зовусь так, а ежели Вас, сударь, смутило совпадение с известным персонажем, то, смею уверить, мне это в самой высокой степени безразлично. Мы, должен признаться, персонажи, то есть, вообще к литературе интереса не питаем. А уж коли Вам Ионыч не нравится, чего ж об этом загодя не подумали? Или подумали, но ради какого-нибудь мерзкого, простите, фокуса Вашего, сочинительского, оставили как есть.
Но это относительно отчества — мелочь, к слову пришлось. Есть у меня к Вам, господин хороший, счетец и покрупнее. Скажите, как на духу, для какой цели понадобилось Вам меня на части делить? Для чего у Вас один Шорников как бы живописец, другой — не то поэт-импровизатор, не то певец романсов, третий актер (и в какой-то даже дурацкой фильме должен участвовать, конкистадора изображать, плывущего по Волге!), четвертый якобы Ваш брат-беллетрист… У одного кошка живет, у других ее в помине нет… Зачем? Не потому ли, что одну, да положительную какую-нибудь профессию герою дать в руки — это ж вещь серьезная, тут дело знать надо, а щелкопера-то, фигляра, или модного маляра изобразить Вы из себя можете. Занимались когда-то ведь по технической части, могли бы хотя эту область деятельности знать, да позабыли все в пустой жизни, к тому ж неинтересны Вам кажутся инженеры, жены их, мирное филистерство. Как же, Вы романтик-с, Вас от простого человека, ходящего в службу, любящего жену и детей, за всю жизнь свою ни в какой авантюре не побывавшего — воротит, простите за грубость.
Впрочем, воля Ваша, но и все эти резоны для такого расщепления человеческой личности (между прочим, мыслящей личности и вовсе этой вивисекции не заслужившей!) мне кажутся второстепенными. А главное все то же эпигонство Ваше, и уж тут-то оно проявилось вполне в обычном для Вас направлении. Роман «Ожог», небось, читали, сударь? Писателя такого Аксенова знаете? Вот то-то и оно. Все оттуда! И герой в разных профессиях один и тот же мечется, и дамские приключения бесконечные — все позаимствовали. Стыдно-с. Реалистам-то подражать не можете, так нашли достойный образец, ничего не скажешь.
А чего стоят Ваши описания туалетов, конфекции мужской, перечни имен портняжных и торговых, заграничной галантереи! Это уж, батенька, вовсе того… попахивает.
Теперь перейду к тому, что Вы без зазрения совести называете «любовью». Сколько смог я понять, Вы утверждаете, что некая смуглокожая и темноволосая девица, явившись в моей молодости в образе фельдшерицы, навсегда очаровала душу мою, впоследствии же была вытеснена многими (кстати, откуда многих-то взяли? нескромно, милостивый государь, сплетни собирать), ну, пускай многими светловолосыми моими любовницами, женами и случайных встреч соучастницами, но под старость первая любовь вернулась ко мне в том же, смуглом южном виде, вновь возжгла в усталом моем сердце огонь и, словно мстя за предательство своей масти, спалила сердце дотла…
Верно ли такое изложение Вашего повествования? Думаю, что верно. И, заметьте, насколько оно короче и, притом, выразительнее оригинала.
Тем не менее, и в таком пересказе очевидна глупость и пошлость самой идеи.
С уверенностью одержимого Вы выстраиваете все на совершеннейшем вздоре: якобы светлые и темные волосы составляют главный для мужчины любовный выбор. К тому добавляете изобретенную Вами же классификацию: будто бы существуют некоторые типы, меж которыми и мечется всякий сильного пола, и я в том числе. К примеру, плотного сложения блондинка, почему-то всегда необыкновенно страстная (чтобы не сказать распущенная), и изящной комплекции брюнетка, каким-то сверхъестественным образом обязательно оказывающаяся холодною. Ну, положительная же ведь чепуха! Мало того, что общераспространенному взгляду и опыту человеческому противоречит, так ведь и в существе такого разделения глупость и самоуверенность, больше ничего. Как это Вы по волоску целого человека определяете, хотя бы и даму? Тоже взялся Кювье, прости меня, Господи.
Между нами, уж ежели зашел разговор, я лично имел подтверждения противоположному взгляду. Была, допустим, одна чернявенькая, евреечка, a propos, так, я Вам, батенька, доложу, до истинных предсмертных судорог… Впрочем, умолчу по благородству. Или, предположим, напротив, светленькая некая, из синих чулков (!), и, хотя имела к недостойному большую склонность, нисколько, никак и никоим образом завершения не достигала, а единственно чем утешалась, так это чисто наружной процедурой, как бы орошением сада ее светлого… Простите, опять увлекся. Словом, нету в этом никаких законов и установлений, а если и есть, то не Вам, уж простите, сударь, их открывать либо устанавливать. Вон г-н Попов из Петербурга, из Ваших тоже, автор, тот и вовсе непотребное выдумал, вот, пожалуйста: «…Тот, кто занимался этим делом всерьез, а не теоретически, знает о неимоверной притягательности большого, белого, рыхлого, даже дряблого женского тела с синеватыми прожилками; особенно в сумерках тусклого петербургского пьяненького рассвета — никакого сравнения с загорелыми упругими, накачанными, якобы женскими, телами, что навязывают нам рекламы западных кремов и трусов». Вот, извольте видеть, тоже постулат. Хотя, если уж откровенно, я скорее с этим циническим, но, бесспорно, тонким наблюдением над жизнью соглашусь, чем с Вашими романтическими пошлостями.
И еще к слову: кто это вам, беллетристам, право дал по чужим постелям-то шастать и все интимности афишировать? Что за отвратительный реализм! Неужто если б Вы все Ваши описания да изображения заменили бы только одной фразою, положим: «И они предались страсти…», или: «Огонь желания охватил их, и они отдались чувству…» — неужто взрослый читатель всего последующего сам не домыслил бы? Смею Вас уверить, господин Кабаков, домыслил бы, и лучше Вашего бы домыслил. Но Ваш брат в чужие фантазии не верит, и вот-с, извольте, читаю у некоего г-на Юрьенена, Вашего, насколько знаю, друга, живущего, натурально за границею: «…он принялся вколачиваться изо всех спортивных сил, и она стала вскрикивать, одновременно пожимая его предплечье в знак того, что не от боли это, а наоборот. Чтобы не так пронзительно вскрикивать, она укусила подушку. Она очень чутко при этом следила за ним, так что когда он остановился и — на самом краю оргазма — попятился из нее…» Фу, не буду продолжать. И для чего это, позвольте Вас спросить? Не стану спорить, описано точно и выразительно, так и видишь (дело, замечу, идет о потере юношей невинности) всю картину, но зачем?! Какие цели преследуете, господа? Да вспомните вы хотя б великих наших, Пушкина: «…Я помню чудное мгновенье…» И, antre nous, мгновение-то, как выяснилось, действительно было чудное, другу сообщил, а читателю — умолчал. Не Вам чета.
Только расстроил совершенно нервы, цитируя Вас, так что и продолжать не могу. Скажу лишь в добавление, что помимо глупой таинственности и «любви» в той части романчика Вашего, которую я уже испытал, вовсе ничего нет. Будто живу я в пустыне, без друзей, без общественных веяний и сотрясений, без идей и вопросов. Единственное исключение: вписали водевильный пасквиль на современное культурное общество, «тусовку» (!) Ну-с, это-то Вам известно… А ведь прежде, уважаемый, Вы совсем иным путем шли, достойным, и снискали даже некоторое уважение в отечественном обществе именно что гражданским духом, вниманием и чуткостью к событиям времени, включая и грядущее. Для чего ж Вы оставили это — для скабрезности и суеверий. Хорош, нечего сказать, русского-то писателя выбор.