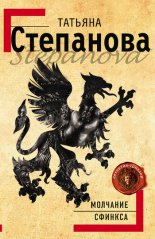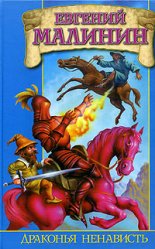Последний герой Кабаков Александр

Я молча, чуть приподнявшись, поклонился. Пришедший без приглашения закончил:
— …и кем я прихожусь нашим общим друзьям.
На этих его словах Гриша и Гарик встали и вытянулись, как положено офицерам без головных уборов в присутствии старшего. Пришелец раздавил папиросу в плоской вазе, служившей нам пепельницей, взял свой бокал с почти неотпитым и уже выдыхающимся брютом, глотнул… Мой приемник пел, естественно, мужественным саксофоном Маллигана, прыгал и метался газовый огонь за приоткрытой дверцей печки, и я вдруг, ни с того ни сего, пришел в чудесное состояние счастья, уверенности, что все будет хорошо, что жизнь продолжится радостью, успехом, что она будет любить меня, и я буду ее любить, и другие люди не станут мешать нам, примирятся с нашей удачей, в долгой дороге пустое шоссе будет бросаться под колеса, путь продлится, мы грустно обнимемся, и ощущение бесконечного начала обманет и утешит нас, опьянение не отпустит, синий газовый огонек бездумного наслаждения, сгорающая минута обнимут и понесут, мы соединимся, не погубив никого, и так завершим дорогу, и в конце концов все искупится прекрасным финалом. Долго и счастливо не бывает, но возможно — в один день.
— Итак, я пришел, чтобы еще раз объяснить вам, ради чего была вся затея, — сказал он. — Все минувшее лето я пытался предупредить вас, я хотел, чтобы грядущие хлопоты и страсти не оказались для вас неожиданными, чтобы вы отдавали себе отчет в том, на что идете. Вас, мой друг, предупреждали: будьте осторожны и сдержаны, не заводите новых знакомств, не рискуйте, потому что каждому назначен час, и ваш наступил. Знаете ли, так бывает несколько раз в жизни, в раннем отрочестве, на исходе молодости, в вершине зрелых лет, на пороге старости… Более или менее безболезненно вы миновали почти все. Даже, сказал бы я, удачно: за каждым перевалом дорога становилась все шире, все больше приобретений ожидало от поворота к повороту, да и потери становились приобретениями, благо так уж вы устроены. Но последний срок всегда самый опасный, потому я и приложил столько усилий, чтобы остеречь вас. Я посылал вам письма и передавал через знакомых нам обоим дам на словах, я просил моих друзей и помощников — он развел руки, указывая на Гришу и Гарика — сделать, что возможно. Увы… Ведь и сами же знали последствия, справедливо однажды заметив, что знание последствий и есть старость, не придали, тем не менее, значения тому, что знали — и вот, будьте любезны, результат. Женщина, которую любите, как ни одну прежде — куда ж вы ее влечете, в какие беды, что ее ждет? Бедность, ваши болезни, бессилие и безнадежность, а ведь она не сможет бросить вас, не такова… Миссия, которая вам не по силам, которую вы, скорее всего, не исполните, но намучаетесь сами, измучаете друзей и любимую, смутите ложными надеждами многие человеческие души. Ну, надо ли вам было все ломать тогда, в июле, бросаться в новые связи и отношения, собирать всех любящих вас женщин, испытывать терпение ваших хранителей, да и мое, заставлять нас тяжко трудиться, находя вам спасение в таких историях, в которых вам и оказываться-то никак не следовало. Что, мало вам было родиться, на кирку не сесть, от спирта не задохнуться? Мало, что ли, вы уж извините, возился я с вами, и для чего? Единственно для того, чтобы не прежде времени, а именно в назначенную минуту явиться за вами, призвать, как у нас говорится, трубным гласом и, так сказать, огненным мечом указывая путь… Ну-с, и так далее. Что же вы-то себе позволяете? Пьете до полусмерти, в любую дамскую историю бросаетесь, голову очертя, ни себя не бережете, ни других не щадите. Итог: женщину прелестную тянете в авантюру, у самого печень в клочья и сердечная одышка, ангелы мои с пистолетами забегались, как какие-нибудь придурки-полицейские из плохого боевика, да и я сам оперетту тут с вами разыгрываю, того гляди за такие штучки не то что очередного звания не присвоят, а и вообще чина архангельского лишат…
В полном противоречии с вполне культурной своей речью, лишь к концу сбившейся на старшинское рявканье, он плюнул на пол и растер подошвой лакированной бальной туфли.
Все тяжело молчали. Конечно, была в его словах и немалая правда, и потому мне стало действительно стыдно и перед ним, и перед смущенными — вероятно, оттого, что весь разговор происходил в их присутствии, что со стороны шефа было по отношению к хранителям бестактно — моими ребятами, и перед нею, уже, как обычно, начавшей было дремать в тепле, но к середине гневной речи гостя проснувшейся… Она-то неожиданно и ответила обличителю, с этого ответа и начался конец всего плохого.
— Каждый сам выбирает свою жизнь, — сказала она и, сделав большую паузу, прикрыла глаза, опустила веки, придав лицу скорбное, безнадежное выражение, как всегда, когда съезжала на свою болезненно-любимую тему, о фатальности наказания. — Сам выбирает и расплачивается… Но с тем, что вы говорите, я не согласна, никак не согласна. Вы предупреждали его, он и сам, вы правы, знал о последствиях, но зачем же вы в таком случае — ведь вы же? или есть кто-то старше вас? не думаю — зачем вы все это затеяли? Зачем вывели его из дома, дали чужое имя, чужой паспорт, привели ко мне, зачем создан он таким, какой есть? Вы испытываете его, я понимаю… Но, извините, мне кажется, что это совсем бесчеловечно, жестоко и — она положила руку на мою ладонь, слегка поцарапала ее ноготками, болезненно и грустно улыбнулась мне — и даже неблагородно. Извините, пожалуйста… Вы же знаете его, знали, что он обязательно ввяжется в эту историю. Время от времени я задумываюсь об этом — и не могу, никак не могу понять, почему именно с ним и со мною случилось такое. Почему мы любим, полюбили друг друга так сразу, почему нам так необходимо спасти этот вполне счастливый мир от счастливого идиотизма, ведь люди, которые здесь живут, совсем не нуждаются в том, чтобы им открывали глаза… Все могло бы быть по-другому, идти, как шло. Я бы оставалась тихой домашней хозяйкой, он продолжал бы свою беспутную, но, в общем, безопасную, обычную жизнь стареющего бабника, вы трое, или сколько вас, я не знаю, присматривали бы за ним, раз уж вам положено о нем заботиться. Но ведь сами же подтолкнули на риск, свели с любовью, а теперь отчитываете. Не могу понять вашей логики, чем больше думаю, тем хуже, просто крыша едет, извините… И вот только сейчас начинаю, кажется, что-то понимать. Вы говорите о какой-то сдержанности, последовательности, а поступаете так же, как и мы — сплошные противоречия, так же мучаетесь, ищите выход, загоняете сами себя в угол. Вам так же невыносима жизнь без событий, как и нам, в вас слишком много, мне кажется, человеческого, и поэтому вы спускаетесь в наш мир, вы ругаете его, воюете, страдаете… Потому же и мы хотим изменить здешних людей, разучившихся страдать. Я поняла: мы делаем одно и то же, и все это — наше общее испытание, и, мне, кажется, я догадалась, зачем вы его отчитывали. Чтобы проверить, не откажется ли он от миссии, от жизни? Поверьте мне, за эти пять дней я узнала его лучше, чем, может, вы за всю жизнь, потому что было еще… были еще пять ночей… Он не откажется, как бы ему ни было тяжело, страшно, противно, что угодно. Он всегда хочет красиво выглядеть, и потому не предаст, не бросит меня, вас, их. Он, быть может, слабый, трусливый, несчастный — но живой. Иначе вы не были бы с ним, правда?
Она замолчала, и, нашарив и надев туфли, обошла мой стул, встала сзади, положив руки мне на плечи, и я потерся отросшей к вечеру щетиной о тыльную сторону ее правой ладони.
И все молчали. Каждый занялся каким-нибудь как бы необходимым делом. Гриша, например, вытаскивал из-под своего кресла и ставил на стол одну за другой бутылки — французское шампанское, греческий коньяк, шведскую водку, скотч, бурбон, настойку «Стрелецкая» воронежского разлива и «Портвейн розовый» Нижнетагильского ордена Ленина химкомбината. Гарик вытащил из подмышечной кобуры любимый «ТТ», выдернул из нагрудного кармана шелковый платок, разложил на коленях и в одну минуту произвел неполную разборку, чистку и смазку оружия в полном соответствии с пособием «Уход за личным оружием в условиях вечеринок, дружеских бесед, выяснений смысла жизни и других». Гость же, и без того в своем фраке, усах, бакенбардах и кудрях похожий на фокусника, взял свою трость и начал ее задумчиво крутить — но так ловко, что черная с серебряным резным набалдашником трость вращалась, как пропеллер, образуя в воздухе прозрачный круг.
Тут же пришли и звери. Спрыгнула со шкафа на стол, со стола на мои колени, свернулась и немедленно заснула кошка, и ее шерсть всех трех цветов, конечно же, сразу облепила мой черный наряд. Явилась и собака, и легла посередине комнаты на бок, вытянув в сторону лапы так, чтобы ее было невозможно обойти, и тоже сделала вид, что заснула, и даже вздохнула во сне.
— М-да… Умная девочка… — наконец проговорил негромко ночной визитер. — Умная и хорошая девочка, да еще и красавица. Вам повезло. Всегда вам везет, за это иногда и расплачиваетесь. Впрочем, что мне в вас нравится — вы не отказываетесь платить… Однако я отвлекся, вычитывая вам нотации, на что мне справедливо и указала милая дама, а цель-то моего посещения я назвал в самом начале: напомнить вам о сути, смысле всей экспедиции. Собственно, это уже сделано, и сделала это, опять же, наша очаровательная подруга. Вы должны научить живущих здесь и сейчас страдать, показать им ужас и муки, окружающие их, которых они и сами не хотят видеть, да от них и скрывают. План остается прежним — вы вторгаетесь в компьютер ЦУОМ…
— Простите, — перебил я его, — есть несколько вопросов, и мне бы хотелось, чтобы вы ответили именно на них. План в целом ясен. Но я не понимаю, для чего в деле должна участвовать она? Слабая женщина, к тому же постоянно мучающаяся сомнениями, по любому поводу обвиняющая себя во всех грехах, неуверенная… Она тоскует по семье, я же вижу это, она мучается раздвоенностью, любит и меня, и своих близких… Зачем она появилась здесь?
— Вы не умеете слушать, — господин во фраке недовольно поморщился, — ну, да что поделаешь… Отвечу коротко: без нее вы не сможете ничего сделать, понимаете, ничего вообще. Вы, надеюсь, исполняете приказ о воздержании?
— Ну… в большей или меньшей степени… — ответил я, чувствуя, как дрогнула и вцепилась в мое плечо ее рука.
— Это необходимо соблюдать неукоснительно, — сказал господин строго, — и на конечном этапе вы, — он обратился к Грише, — должны будете объяснить, почему, и дать последние указания…
— Или, — ответил Гриша не по уставу, и через секунду гость наверняка пожалел, что включил старика в беседу. — Или! Можно подумать, что Гриша не помнит своих забот, чтоб вы так помнили об Грише, как он помнит! И я вам скажу как пожилой человек, эти мальчик и девочка так влюблены друг в дружку, что их ничему не надо будет учить, я вам уверяю. Мне даже неудобно вам учить, вы же умный человек, но я вам скажу, что вы говорите глупости. Когда уже дойдет до дела, так эти двое справятся без нас с вами, и тот сраный, извиняюсь у дамы, компьютер будет как миленький делать наше с вами дело. И об Грише не беспокойтесь, я еще никого не подвел, и вас не подведу, и присмотрю за молодыми, если не забуду, конечно, потому что в жизни все бывает… и я вам должен предупредить, что здесь таки стреляют, и кто будет отвечать, если, не дай Бог, что-нибудь? Один пожилой аид и один армянчик — это, по-вашему, дивизия? Гриша стреляй, Гриша не стреляй, Гриша иди туда-сюда, а у мне только две руки, между протчим!
— Не паясничайте, рабби, — сказал гость хмуро, — лучше налейте-ка…
Гриша немедленно открыл бутылку поддельного польского «наполеона» и, по своему обыкновению, налил полную чайную чашку, которую гость, все так же хмурясь, выпил одним глотком. Между тем, Гарик откашлялся, сунул подмышку собранный пистолет и заговорил в свою очередь.
— Фары побиты, зажигание надо делать, — сказал он, — как ездить, а? У меня все категории, я с шестнадцати лет за рулем, а у них здесь только девяносто шестым заправляют, так, а «паккард» серьезная машина, ему на девяносто шестом ездить, как нам ситро пить, да? И фары побиты. «Устав автомобильной, тракторной, бульдозерно-велосипедной и иной службы» что говорит? Он говорит так ездить?
— Надоело, — рявкнул тут фрачный господин, — я, что ли, жестянку вашу ремонтировать буду! Фары заменить, зажигание отрегулировать, а бензин надо было свой брать, в канистрах… Как дети.
Гриша и Гарик смотрели в стол. Господин же мило улыбнулся ей, подмигнул мне, будто и не он только что орал на подчиненных, и поднялся, взяв цилиндр и накидку.
— Что ж, пора, — произнес он и, широко распахнув дверь, ступил на крыльцо, остановился в проеме, оглянулся…
Солнце уже вставало, ночью, возможно, были первые заморозки, поэтому воздух стал прозрачен, и яркий свет восхода пронизывал его, и фигура уходящего была окружена этим светом.
— Мой вам совет, — он посмотрел на нее, перевел взгляд на меня, — не думайте о логике, о причинах и целях, о следствиях и путях. Вот мы просидели ночь, беседовали, пили, несколько красивых живых существ, в тепле и уюте… Зачем же искать объяснения этой прелестной картине, для чего нагружать ее смыслом и значением? Да, кстати: что это, господа, вы все в черном, нам так не подобает…
С этими словами он вывернул свою пелерину белой подкладкой наружу, укрылся ею весь и шагнул с крыльца в солнечный свет, и лакированная трость в его руке под этим светом засверкала, вспыхнула оранжевым огнем.
9
Все затянулось до такой степени, что казалось — никакой другой жизни не было и не будет, так и останемся мы нашей странной компанией на этой призрачной даче, четверо костюмированных голливудских статистов из третьеразрядного боевика не то о «стреляющих двадцатых», не то о «свингующих сороковых». Вечно будет чистить свой музей оружия и нести чушь с комическим акцентом Гриша, вечно будет бесшумно бродить по комнатам или прогревать перед гаражом мотор очередного рыдвана сумрачный Гарик, каждую ночь будем мы с нею изводить друг друга неудовлетворимым желанием, а днем будем все колесить по веселому, богатому, чистому городу, дрожа от страха, проезжать мимо доброжелательно подмигивающих полицейских, бродить среди спокойных, приязненных людей, вовсе не жаждущих, чтобы мы их, наконец, спасли от неведения, совсем не мечтающих познать добро и зло — им вполне хватало добра…
С утра уборщики в желтых комбинезонах уносили в черных пластиковых мешках уже начавшие темнеть под ночными холодами и дождями разноцветные листья, с лужаек, газонов и широких светло-серых плиточных тротуаров. По аллеям Бережковской, Смоленской и Пресненской набережных, мимо бесконечных рядов припаркованных колесами на обочину машин с мокро блестящими крышами бежали джоггеры в высоких кроссовках на толстенных подошвах, в расписанных рекламами «Квас-колы» и «Мавзолей клуба» фуфайках, в городошных кепках, повернутых козырьками назад. На перекрестке уже обосновывались шестеро длинноволосых, в невероятном цветном тряпье, разворачивали плакаты «Секс вдвоем — это агрессия! Прекратите войны в постели сейчас!» и «Обладание другим человеком — отвратительное насилие! Онанисты, будьте гордыми!» Это начали очередную демонстрацию сторонники равных прав для моносексуалистов, борющиеся за выставление своего кандидата на очередных президентских выборах. Тут же на столике была разложена выходящая в излюбленном моносексуалистами Лубянском околотке радикально-левая и авангардно-культурная газетка «Дрочила ньюс». Редкие в этом районе даже днем, а утром тем более, прохожие, смотрели на протестантов без малейшего интереса, как на пустое место — всем было известно, что никакого секса это активное меньшинство давно уже не практикует, как и все остальные, собственно, а просто пытается привлечь внимание к своим произведением и идеям. Моносексуалисты были в основном художниками, музыкантами и поэтами социалистических взглядов.
На Арбате клубилась международная толпа, окружавшая то одного, то другого интернационального же артиста. Толстый до изумления африканец огромным, самостоятельно живущим брюхом рвал цепи и валил на землю желающих. Узкоглазый оркестр домбристов в войлочных островерхих шапках играл нечто народное, слегка ритмизированное, вокруг приплясывали под чрезвычайно модную в этом сезоне среднеазиатскую музыку молодые люди в коже, в металле, в джинсах, в широких и толстых клетчатых рубахах. На урне застыл, изображая манекен, японец, загримированный и одетый Лениным из популярной комедии «Маленький большой мужчина», только что прошедшей по всем экранам и сделавшей небывалую кассу.
Мы в который уже раз ехали к Страстной площади все с той же целью. Сегодня Гарик сидел за рулем бежевой «победы», чуть отросшие черные усики были тонко подбриты, черный набриолиненный кок отливал вороненой сталью. Гриша рядом с ним выглядел необыкновенно солидно в зеленой велюровой шляпе, в толстом, с сильно наваченными плечами пальто из коричневого ратина, с изжеванной и погасшей папиросой в углу рта. Она была в маленькой шляпке, полумесяцем охватывающей прическу из коротких кудряшек, чернобурка мягко и свободно лежала на плечах осеннего жакета колокольчиком из голубовато-серого бостона. Я надел, как всегда, любимый габардиновый макинтош, усы же подбрил и подстриг короткой щеточкой, по-английски. В результате вся компания выглядела возвращающейся с бегов или из кафе «Националь», тем более, что в довершение сильные запахи коньяка «КВВК», бутылку которого Гриша разлил всем перед выездом, и отличных, из того еще «Арагви», сациви, лобио и жареного сулугуни, которые он выставил для закуски, наполняли машину. Гарик включил приемник и голос Александровича прелестно смешался с ароматами кавказской трапезы и немного пыльных ковровых дорожек, которыми были прикрыты сиденья. Вернись в Сорренто, предлагал певец, и мне так захотелось вернуться в этот, гори он огнем, Сорренто, и остаться там с нею навсегда, как, собственно, и в любом месте с нею, пусть будет Сорренто, и забыть все, никогда не видеть, и не слышать никого, с кем прожил всю жизнь до встречи с нею, жить себе и жить в Сорренто, сколько там осталось, зарабатывая на кусок хлеба, предположим, пением этой самой песни, причем по-русски, для добрых туристов…
На Триумфальной площади, у памятника Маяковскому, тоже митинговали моносексуалисты — или «пацаны», как они сами себя называют. Но здесь же был и второй митинг, гей-националистической партии. Митинги страстно ссорились между собой, в открытые окна машины доносились вопли: «Педрилы вонючие! Не примазывайтесь к национальной идее! Русский человек должен сам себя любить!» «Онанисты! Дрочилы! Недоделки! Руки-то не устают?» При этом «голубые» поднимали огромное знамя соответствующего цвета, но с двуглавым орлом — правда, головы смотрели не в разные стороны, а друг на друга и с выражением нежности. Кроме знамени над небольшой их толпой возвышался также портрет необыкновенно красивого юноши с выпуклыми, как бы фарфоровыми глазами и со множеством сережек в ушах — одного из классиков движения, активно писавшего в конце минувшего тысячелетия скандального публициста. В свою очередь, сторонники полной самодостаточности и сексуального суверенитета личности поднимали над головами тоненькие, карманного формата книжечки — полное собрание сочинений автора, жившего примерно в одно время с фарфоровоглазым, но воспевшего одиночество в автобиографическом труде, рассказывавшем, как именно он любил сам себя.
Гарик тут был вынужден затормозить, пробираясь среди добродушных зевак, рассматривающих из-за желтых лент полицейской линии забавных чудаков. Я заметил, что чуть в стороне проходит еще одна демонстрация. Ее участником был единственный человек, средних лет мужчина в классическом костюме и безукоризненной белой рубашке со строгим галстуком. Он держал небольшой плакатик такого содержания: «Прекратить сегрегацию белых гетеросексуальных мужчин! Мы тоже человеческие существа!» Как раз когда наша машина проезжала мимо, к упрямому реакционеру подошел полицейский и начал строго проверять документы — видимо, разрешение на манифестацию. Тем временем два враждующих митинга начали переходить к рукопашному, правда, вялому выяснению отношений, но полицейский даже не обернулся…
Мы свернули на Тверскую. По тротуарам шла публика, которую всегда можно увидеть на этой самой шикарной улице мира. Здесь были прекрасные молодые семьи, с тремя-четырьмя детьми, с легкими колясками или рюкзачками для переноски младенцев, одетые просто, небрежно, но очень дорого — в джинсах «верея всадник», в красно-белых спортивных куртках и фуфайках «спартак чемпион», в прогулочных туфлях «скороход супер», стоящих, как приличное брильянтовое кольцо… Спешили на ранний коктейль пары средних лет — он в обязательном смокинге, она в норковой шубе со специально неокрашенными ромбиками на левом плече и правом рукаве, подтверждающими для «зеленых», что мех, упаси Боже, не натуральный… Высаживались из наемных шестидверных лимузинов «чайка де люкс» гуляки в блейзерах, с пестрыми фулярами под распахнутыми воротами рубашек, с ослепительными двухметровыми скандинавками, цветоподобными филиппинками и элегантными, как сам лимузин, нигерийками — всех их на выбор предлагала лучшая международная фирма эскорт-сервиса «Тургеневз герлс инк.»…На углу Благовещенского переулка играл прекрасный, высокопрофессиональный дуэт, высокий, тонкий, пританцовывающий темнокожий балалаечник и грузный, немолодой, с седой косицей, с простоватым лицом волжанина саксофонист. Они играли старинные песни и как раз перешли от «Русского поля» к «Yesterday». Монеты непрерывно падали в пластиковый стаканчик, стоявший перед музыкантами на асфальте… Из маленького, но знаменитого на весь мир бара за углом вышел популярнейший артист, только что сыгравший главную роль в фильме — сенсации года — «Любовник президента», огляделся по сторонам, как бы поправляя платочек в нагрудном кармане, но, не встретив ни одного узнающего взгляда, оскорблено прыгнул в открытую «оку спешиал спорт» и унесся в сторону Бронных…
Мы поровнялись со знаменитым магазином электроники «Поповъ», когда на мостовую ступил полицейский, поднял ладонью к нам руку в белой перчатке и улыбнулся — мол, извините, ребята, не моя воля, я бы вас пропустил, но… Гарик прижался к тротуару и выключил зажигание. Позади нас, сколько можно было видеть, до самой Александровской и дальше уже стояла бесконечная плотная лента машин, хлопали дверцы, люди выходили и, оживленно переговариваясь продолжали путь пешком.
— Делают, что хотят, — сказал Гриша. — Вот это мое аидыше счастье, если мне надо по делу, так у них народное гулянье…
Мы тоже вылезли из машины и двинулись к площади пешком.
— Офицер, что-нибудь случилось? — поинтересовался я, проходя мимо полицейского.
— Случилось, приятель, конечно, случилось, — радостно откликнулся двухметровый малый с детским лицом, поднося руку в белой перчатке к лакированному козырьку. — Случилась хорошая погода, а в хорошую погоду мы советуем людям пройтись… Хорошо смотритесь, ребята! Классный маскарад, и машина, и вообще… Прямо со съемок? Или будете что-нибудь показывать на площади?
— Будем показывать, — она улыбнулась так, что, сложившись пополам, чтобы лучше видеть ее сияющее лицо, полицейский даже чуть отшатнулся, как от вспышки. — Освободитесь, приходите посмотреть, хорошо? Я буду рада… — она сделала паузу, за которую сердце бедного парня успело подпрыгнуть и остановиться в его глазах, и закончила, -…и мои друзья тоже.
Интересно, подумал я, почему она так легко заговаривает с первым встречным, и так упорно молчит со мной, и просит меня не говорить, ей кажется, что я говорю слишком много, пытаюсь все поместить в слова, и потому все порчу, искажаю, она же молчит, закрывает глаза, только прижимается тесно… Может быть, она меня и не любит, подумал я, но, безусловно, относится по-другому, чем ко всем остальным, ко всему миру. Она кокетничает со всем миром, подумал я, что ж, вероятно, она достаточно болезненно пришла к этому способу выживания, единственно возможному для такого слабого по сравнению с миром существа. Жизнь, подумал я, научила ее ласково улыбаться, а не скалиться угрожающе, она побеждает, поддаваясь — и острая, горькая ревность на секунду заполнила меня всего, пока полицейский, согнувшись в три погибели, отдавал ей честь, заглядывал в глаза и бормотал, что после дежурства, конечно, сударыня, я найду вас, это не проблема для нас в полиции — найти кого-нибудь…
На Страстной народу было полно, но не тесно. Посередине площади маршировал, непрерывно перестраиваясь, духовой оркестр, впереди, танцуя, подбрасывая и ловя оперенные жезлы, шли девушки, тамбур-мажор взметал свой гигантский, тяжелый, в эмблемах и колокольчиках тамбур, тамбур повисал в воздухе, а фокусник ловил его, сделав пируэт. От центра на движущейся платформе приближалась группа, застывшая в живой картине: они изображали самый известный эпизод истории страны. Седой человек с грубым лицом сидел за большим письменным столом и, свесив голову, спал, а вокруг стола стояли трое, один из них что-то говорил в трубку стоявшего перед седым телефона, другой, склонившись, подписывал какой-то документ, третий, обернувшись к зрителям, просто стоял — выпятив грудь и скрестив на ней руки, высокомерно вскинув голову. Все знали, что изображают артисты, тем не менее, на откинутом борту платформы, выкрашенной в национальные цвета, была крупная надпись: «Отстранение от власти. По картине академика Плясунова». Толпа зааплодировала, группа медленно проплывала над нею.
— Атасно сделано, да? — парень обращался к нам, обнимая за плечи девушку, оба восхищенно смотрели на артистов. Притиснутые к нам толпой, они жаждали поделиться с ближайшими своим патриотическим чувством, своей любовью, молодостью, радостью от хорошей погоды… — А у вас тоже какой-нибудь прикол? Что будете показывать? Из «Банды Берии», я секу, нет?
Они все просто помешались на этом вполне посредственном триллере, на этом старом жаргоне, подумал я, и неопределенно, но, конечно, с улыбкой кивнул парню, отчего он уже окончательно расплылся, радостно и с восхищением замотал головой, взлетела его длинная косица и зазвенели две сережки в левом ухе. Девушка, чрезвычайно коротко стриженное и, видимо, бессловесное создание, прижалась к его плечу, пытаясь подняться на цыпочки и даже подпрыгнуть, чтобы лучше видеть удаляющуюся над толпой историческую картину.
…Они правили страной втроем меньше года, и сумели добиться того, что всегда и везде становилось началом процветания — они разрушили все до конца. Кошмар, творившийся даже в самые последние дни перед их приходом, когда седой человек уже не выходил из запоев больше, чем на неделю, когда стреляли по всей стране, начал исчезать хлеб, этот кошмар показался покоем и процветанием. На пустом месте, на руинах появились такие авантюристы, по сравнению с которыми сам дьявол был младенцем. И началась новая история, и через каких-то пятьдесят лет установились мир, богатство, порядок, и уже казалось, что так было всегда. Осталась легенда о «Великом Отстранении от Власти», уверенность, что возможна только такая жизнь, в которой ничего не происходит, и что так живут все, кто хочет жить нормально, весь мир, а те, кто живет иначе, сами выбрали свою судьбу и, значит, им не нужны мир, еда и спокойствие. Впрочем, где живут такие люди, как они живут и что думают о Республике России, самой богатой стране мира, никто особенно не интересовался…
— А чего, брателла, пошли в «Быстрые пельмени»? — парень просто лопался от доброжелательности, от радости жить. — Я ставлю, серьезно! Пошли!..
Совершенно неожиданно инициативу решения взял Гарик.
— Спасибо, брат, за уважение, да? Только я ставлю. Слушай, я старше, значит, надо уважать… По инструкции «Случайные спецзнакомства…» — но тут Гришей был нанесен видимо достаточно ощутимый удар, потому что Гарик замолчал, изумлено воззрился на старика и, абсолютно не заботясь о связности, закончил -…посидим, поговорим, как люди, — и пошел впереди, легко раздвигая толпу, впрочем, охотно и старательно пропускавшую нас, улыбавшуюся, подмигивающую. Если люди пробираются в такой тесноте, значит, им нужно — в России уже давно извинялись перед толкнувшими и уступали дорогу спешащему.
Над восемьдесят четвертым этажом Центра Управления Общественным Мнением бежала горящая строка новостей. В Петербурге задержаны торговцы наркотиками, они ввезли в страну несколько килограммов почти чистого холестерина… Кинозвезда и сверх-модель бросила вызов обществу, заявив, что безопасный секс отвратителен. Однако она признала, что никогда не пробовала какого-нибудь другого… «Нижегородские тигры» разгромили «Смоленских чудовищ» и теперь возглавляют таблицу национальной лиги лапты… Концерт величайшей группы «Дети Контрацепции» в лучшем зале города «Чайковский»… Наводнение в Канаде, голод в Чехии…
Стеклянный колпак над памятником, похожий на прозрачный карандаш, уже был подсвечен, его грани сверкали, в них отражалась толпа, сам памятник был почти не виден. Справа возвышался темный, гранитный, с маленькими окнами, длинный шестиэтажный фасад основного конкурента ЦУОМа — либеральных, радикально-консервативных, авангардно-реакционных «Ведомостей», издающих десятки газет, бюллетеней и журналов, общий тираж которых не поднимался выше тысячи-полутора. Напротив «Ведомостей» стоял нетронутый очень старый дом, казавшийся крошечным среди небоскребов, окружающих площадь. Но скульптура, установленная на его крыше, отчасти уравновешивала картину. Это была каменная девушка, стоящая на ротонде — когда-то ее предшественницу сняли, но восстанавливая старину строители постарались, и новая девушка была впятеро больше старой.
А мы пробирались к четвертому углу площади, где горела, светилась изнутри прозрачная призма «Быстрых пельменей», над которой поднималось самое большое в городе конторское здание, получившее собственное имя в честь легендарного мэра: он разрешил строительство за самую большую из зафиксированных в истории взяток.
— Не знаю, не знаю, — сварливо бубнил Гриша за моей спиной, — если человеку не нравится хорошо жить, так пусть себе живет плохо… А если мне нравится, так оставьте пожилого человека у покое… Им надо знать правду, им надо? Так пусть знают, я не против, я все исделаю, как велели, они узнают эту паскудную правду. Но одно дело ее знать, а другое дело из-за нее здесь все погромить и головы друг другу пооткручивать… Что, я не прав, Миша?
— Вы правы, рэб Гриша, — сказал я, не оборачиваясь, — хотя я не все понял. Но головы откручивать не надо, это точно.
10
— Этого не может быть, — девочка отодвинула от себя пакет с фотографиями, поднесла к губам пластиковый стаканчик с «Квас-колой», но ее передернуло, и она поставила стаканчик на поднос. Гриша убрал фотографии в свой докторский баул. — Этого не может быть… У нас нет такой армии, мы ни с кем не воюем, пацифизм уже сто лет назад стал нашей официальной идеологией… Я учусь на историческом…
— Если идеология становится официальной, она становится ложью, — вздохнул Гарик и не сослался на инструкцию, не закончил фразу вопросом, будто и не он. Шрам на его лице побелел и выделялся сейчас особенно четко, глаз с оттянутым веком смотрел грустно. — Я много раз видел эти фотографии, но только сейчас понял, что они значат. «Этого не может быть», но это есть, и вы уже не можете жить, как раньше, не можете забыть то, что вы увидели, и жизнь идет под откос, не хочется танцевать на площади, не хочется любить…
— Генук, Гарик, — сказал Гриша, — генук. Уже хватит пугать молодых людей. Жизнь их еще напугает так, не дай Бог, что у них, извиняюсь, будут мокрые штаны, и им будет неудобно смотреть один на другого, извиняюсь. Чтоб они мне были так живы, разве это они исделали то, что на карточках? Так почему они должны переживать? То есть, конечно, пусть себе переживают, пусть страдают и огорчаются за людей, но почему, спрашивается, они должны иметь неудобство за себя? Что они исделали плохое за свою маленькую жизнь? Любили себе друг дружку, учились в своих институтах, танцевали, обжимались потихоньку, тряслись и стеснялись полюбиться как следовает… Так я вас спрашиваю, Гарик, в последний раз, зачем вы их учите быть виноватыми во всем этом говне, извиняюсь?
Девочка плакала, парень обнял ее за плечи и смотрел в сторону, повернувшись к нам прекрасным, молодым и твердым профилем, колечко в мочке его уха едва заметно дрожало, и едва заметно же ползала по лопаткам косица, и я понял, что он тоже плачет, только беззвучно и без слез.
Она заговорила тихо, замолчала, глянула на меня, я все понял, достал из заднего кармана фляжку из зеленого стекла, обтянутую толстой кожей, отвинтил серебряную крышку-стаканчик, налил, протянул ей… Глотнув, и сморщившись, и переведя дух, она продолжала.
— …Мы всегда спорим… всегда спорим с ним, — она положила руку на грудь мне, обычным своим нежным жестом, и сердце мое остановилось, сбилось, вернулось в ритм, сбилось снова, — спорим об этом… Виноваты мы или нет в несчастьях других людей? И почему мы мучаемся от этих несчастий? Плохо другим, а мучаемся мы… Разве мы святые или праведники? Почему невозможно быть счастливым, причиняя горе?.. Я думаю, что вы все согласитесь со мною: не от нас зависит чувствовать или не чувствовать свою вину. Нам посылается это чувство, и если нам плохо оттого, что плохо другим — значит, это нам наказание за нашу вину перед другими. Простите… Может, я не должна говорить о таких серьезных вещах так уверенно, но я чувствую, что это так и есть, и ничего не могу с собою сделать…
— Вероятно, вы правы, — Гриша снова стал говорить нормально и я вдруг понял, как надоели им двоим, ему и Гарику, идиотский маскарад и шутовская речь, весь выданный им в эту командировку камуфляж. — Скорее всего, вы правы, да и не мне сомневаться в вашей правоте, у всех нас здесь одно дело. Но позвольте мне, прилагая, естественно, все усилия, чтобы успешно завершить нашу миссию, все же сохранять свои рефлексии. Вы убедительны, вы логичны и, что самое главное, вы неотразимо совестливы в своем моральном обосновании нашей цели. Однако позвольте вам напомнить, милый вы человек, что давеча в нашей очередной ночной дискуссии вы говорили нечто совсем иное. Вы стояли за то, что следует любыми способами облегчать жизнь людей, их страдания, которых всегда предостаточно и без дополнительного, подробного знания о страданиях ближних, что ложь во спасение извинительна, что поведение, дающее счастье или хотя бы покой — благо. Вы, помнится, с поразившей меня откровенностью даже привели пример из собственной личной жизни, и я не мог с вами не согласиться: рассказать бесконечно любящему вас человеку об измене было бы жестоко и бесчеловечно, устоять же перед соблазном было невозможно, поскольку любовь и даже просто страсть сильнее земных существ… Я согласился — адюльтер ужасен, но адюльтер плюс признание убийственны вдвойне. Отчего же мы стремимся обрушить еще более страшную правду на головы всех живущих в этой стране мирных, скучных, но неплохих в сущности людей? Вот что меня мучает все эти дни и ночи, когда наш путь к близкой уже цели все прерывается и прерывается, мы как-то странно вязнем уже у самого финала. Может, с пугающей догадкой спрашиваю я себя, пославший нас и не хочет, чтобы мы открыли людям правду, может, все дело только в нас, точнее, в вас, поскольку мы с Гариком Мартиросовичем просто на службе — а вас испытывают? Вы мучаетесь, спорите о смысле и оправданности задания, но, тем не менее, преодолевая и терпя все, стремитесь его выполнить — и не можете. Возможно, в этом и заключен весь смысл? Увы, я не посвящен…
Когда он умолк, глаза всей компании были на мокром месте, женщины плакали откровенно, суровые мужчины старались не смотреть друг на друга. Может быть, причина была и в том, что к этому времени полулитровая моя фляжка, заправленная самым крепким из скотчей, пятидесятисемиградусным «Aberlour», дважды обошла круг и опустела. Впрочем, никто не обращал на нас внимания. В «Быстрых пельменях» народу было немного, толпа за стеклянными стенами тоже понемногу редела, в ней оставалось все больше молодежи, люди семейные возвращались по домам, чтобы успеть к вечерним ток-шоу, к очередным сериям бесконечной саги из жизни обитателей маленького, очень буржуазного городка где-то под Костромой, к концерту «Детей Контрацепции», который молодежь собиралась смотреть и слушать на площади — позади памятника уже готовили на помосте технику и мерцали по бокам сцены два огромных экрана, на которых лица музыкантов во время концерта можно будет увидеть крупно, рассмотреть заливающий их пот, а пока шла обычная телетрансляция…
— Вы должны все довести до конца. И доведете, — парень говорил тихо, голос его был голосом совершенно больного или очень старого человека, нельзя было представить, что час назад эти ребята были веселы и бездумны, были частью той толпы, что шумела, приплясывала, плескалась сейчас за стеклом, мы же были, словно уродливые, чуждые этой человеческой жизни какие-нибудь глубоководные рыбы в аквариуме. — Если бы тот, кто послал вас, я не могу назвать, но догадываюсь, кто именно, не рассчитывал, что вы исполните порученное, мы бы не встретились. Дело в том, что я работаю в ЦУОМе, ассистент программиста-инспектора главного компьютера, и я смогу вполне беспрепятственно, надеюсь, провести по крайней мере двоих из вас — он посмотрел на нее и меня — в здание.
Теперь мы сидели на бульваре. Толпа все не расходилась, хотя «Дети» уже давно отпели, откричали, отгремели и отпрыгали свое, и рабочие уже успели как-то незаметно убрать все электрические ящики со сцены, и даже саму сцену наполовину разобрать, она просто потихоньку исчезала, таяла в синем воздухе необыкновенно ясной для этого времени года и весьма прохладной ночи. Но молодежь все толкалась на площади в своих куртках, свитерах, рубахах поверх курток и свитеров, спортивных фуфайках, кепках для лапты и городков, шумела, время от времени из этого ровного, как гул моря, шума, вырывался возглас, крик — «П-цаны, канаем на Краску!… Ну, оттяг!.. Я тащусь от „Детей“! „Дети“ — кла-асс!..» «Краской», видимо, называли Красную площадь.
Отсюда, с бульвара, толпа виделась сплошной, темной, как бы кипящей, субстанцией. Они сразу разъединятся, подумал я, сразу станут отдельными людьми, вот что произойдет, это, собственно, и будет главный результат того, что нам предстоит сделать.
— …Не знаю, что скажет Гарик Мартиросович, — закончил свою довольно длинную речь Гриша, — но мне проблема представляется практически неразрешимой. Вы двое должны там быть по самому главному условию выполнения операции. Но молодой человек и берется провести только двоих — хотя, честно сказать, я так и не понял, на что он рассчитывает… Но, допустим, так все и будет. А как же мы? Я и Гарик не можем, не имеем права оставлять вас, тем более на главном, завершающем этапе. В обеспечении вашей безопасности, простите канцелярские обороты, и состоят наш единственный долг и единственный смысл нашего участия в экспедиции…
— Григорий Исаакович, — перебил я его, — простите, но, мне кажется, вы имели уже случаи убедиться, что я и сам могу справиться с кое-какими трудностями, сам могу позаботиться о ее и своей безопасности!
— А можете и не справиться… — задумчиво сказал Гарик. — И потом еще одна вещь: вы как же себе представляете наши и свои действия? Неужто всю эту бутафорию, весь этот реквизит вы принимаете всерьез? Вы что же, собираетесь здесь устроить драку, стрельбу, прорыв через охрану с оружием в руках? Или на вас такое впечатление произвели некоторые слабости и пристрастия Григория Исааковича и мои, некоторая склонность к простенькой драматургии и стилистике классического боевика, присущая тому, кто нас послал, его же любовь к пародии, которая заставляет Григория Исааковича говорить, как героя анекдотов, а меня — как героя других анекдотов или шпиона из комедии… Может, вы действительно думаете, что это барахло, — он ткнул себя в наваченную грудь стиляжного пиджака-букле, — имеет какое-либо значение, кроме попытки придать легкую театральность и занимательность совершенно серьезному, даже трагическому и безусловно сверхчеловеческому делу? Уверяю вас, что все, начиная от этих подростковых игрушек, — с этими словами он вынул из-за пазухи свой верный «ТТ» и спокойно, не глядя, опустил его в стоящую рядом со скамейкой урну, — включая этот грим, — он стащил парик с набриолиненным коком, отклеил усики, швырнул все туда же, одним движением стер с лица шрам, — и даже, уж простите, ваша, пусть истинная и необыкновенная, любовь, которую мы вполне уважаем, — легко, чуть в сторону, склонившись, он поцеловал ее руку, — абсолютно все это не представляет собою ровно никакой ценности. То, что должно быть совершено, будет совершено, поскольку оно уже совершено в наступающих временах, детали же и украшения останутся лишь прахом…
— Жаль, что вы не дали мне довести роль до конца, — сказал Гриша. — Впрочем, так тому и быть. Начинаем.
Мы встали.
Рыжие кудри плотной шапочкой, горбатый нос, яркие голубые глаза, белая накидка до земли — таким он стоял по правую руку от меня.
Черные длинные пряди по плечам, мягкое юношеское лицо, карие глаза с робким, неуверенным выражением, черное глухое трико — таким встал второй по левую руку.
Она встала передо мною, плотно прижавшись ко мне всею своей узкой спиной, затылком, всем своим детским и женским одновременно телом, и я положил ладони на ее отведенные назад плечи. Тонкое белое платье было на ней, но кажется, ей не было холодно, хотя я в своей невесть откуда взявшейся черной тройке дрожал.
Юноша и девушка стояли в нескольких шагах перед нами, в одинаковых одеждах, комбинезонах или спортивных костюмах — он, естественно, в голубом, она в розовом, они держались за руки и одновременно манили, звали нас за собой.
Все-таки маскарад продолжается, подумал я, только, кажется, вместо ретро-боевика мы разыгрываем не то оперу, не то мистическую драму.
Молодая пара пошла через площадь, вдруг совершенно опустевшую, и мы вдвоем пошли за ними — так же держась за руки. Мы шли за ними, бело-черное следом за розово-голубым в ночной синеве, а белый мой хранитель и черный мой хранитель остались позади и постепенно исчезли во тьме.
Охрана пропустила нас в башню, даже не взглянув на странных посетителей. Эти полицейские, впрочем, тоже выглядели странновато — в латах и шлемах с опущенными забралами вместо обычной формы, с короткими широкими мечами вместо дубинок.
Юноша открыл было рот, «это мои гости, мой пропуск дает право», но один из стражей перебил его, «нас предупредили, веди их», и указал мечом в сторону лифтов.
Я нажал кнопку, двери разошлись, но кабины за ними не оказалось, там была непроглядно черная пустота. «Входите», — сказал проводник, мы вошли, потеснились. «Вверх», — сказал он, двери закрылись, тьма, в которой мы повисли, рванулась вверх, я обнял любимую, и она привычно потерлась маленькой своей попой, и я немедленно, в ту же секунду, рванулся, подался к ней, и подумал, что та, другая пара, должно быть, делает и испытывает то же самое. А, может, и нет, подумал я, может, они совсем, совсем другие, и чувствуют другое, и не обнимаются сейчас в темноте, а так и стоят, держась за руки и глядя сквозь непроницаемую тьму друг на друга. Или наоборот, подумал я, они уже не ограничиваются объятиями, и предались сейчас беззвучной любви, кто их знает, молодых. «Приехали», — сказал Вергилий, двери раскрылись, мы вышли в коридор с серыми стальными стенами, освещенный отвратительными люминесцентными лампами в металлических сетках, и я увидел, что нас только трое. «Мы разлюбили друг друга, — сказал юноша, — она вернулась вниз». «Но этого не может быть, — заорал я, — так не бывает! Вы были так хороши вдвоем, так близки, так подходили друг другу, даже мы успели привыкнуть видеть вас вместе, а ваши друзья, что они скажут, ведь когда расстаешься, рушится жизнь, то, что было прожито вместе, не может, не должно исчезнуть, и поэтому-то расставание невозможно, немыслимо, что вы делаете?!» «Не выступай, папик, — сказал парень, — вроде сам ни от кого не уходил… Девка она нормальная, прикинута, в тусовке… Жить будет, не бери в голову, старый…»
Мы шли по стальному коридору, сворачивали, миновали один застекленный переход, висящий над пустынным, заставленным сломанными контейнерами и просто огромными дощатыми ящиками, двором, второй, снова попали в такой же стальной коридор, пересекли гигантский мраморный вестибюль с огромной, свисающей в лестничный пролет, люстрой…
«Пришли», — объявил молодой человек, останавливаясь возле стальной, почти неотличимой от стены двери. «Я никогда не был там, да и никто из нас не был, — сказал он, — потому что туда можете попасть только вы». Он взял ее левую руку, положил на дверь и прикрыл ее сверху моей ладонью. «Думайте друг о друге, — сказал он, — и о вашей любви. Я буду вас ждать здесь».
Он отошел к противоположной стене, прислонился к ней, прикрыл глаза — вид у него был невероятно усталый, лицо в дневном свете ламп побледнело, под глазами легли темные круги, он казался сейчас моим ровесником.
Я посмотрел на нее, она подняла глаза — знакомое мне, полупьяное, уплывающее выражение.
В ту же секунду в двери что-то громко щелкнуло, прозвенело, и она стала мягко и тяжело подаваться внутрь.
«Вы все знаете, а что не знаете, поймете», — сказал юноша. Я оглянулся — он стоял все так же, не открывая глаз, привалившись к стене.
Мы вошли.
Со всех стен смотрели на нас телевизионные экраны, десятки экранов, а посередине комнаты возвышалось устройство, с первого взгляда на которое мы все и поняли.
11
На моих часах было уже около трех, значит, прошло сорок минут, как мы закрыли за собой дверь…
— Я не могу, — шептала она, закидываясь и сползая в кресле, обнимая мои колени, прижимаясь щекой к животу, снова откидываясь с закрытыми глазами, улыбка и в то же время страдание были на ее лице, потом она опять прижималась ко мне, так что сверху были видны только густые, растрепанные темно-золотые пряди, и то шептала, то говорила почти в полный голос — я не могу здесь, не могу так, этот мальчик за дверью, охранники внизу, Гриша и Гарик, и та девочка, которая ушла, они все знают, что мы здесь делаем, и этот ужасный свет, Боже, если бы месяц назад мне сказали, что будет такое!.. Не могу, не могу…
Мы оба уже были полураздеты, грудь ее стала обжигающе горячей, соски под моими пальцами выпрямились и сделались как бы прозрачными, от них шло темно-коралловое свечение, полные плечи и предплечья покрылись мелкими каплями пота. Наклоняясь и целуя ее голову, я чувствовал уже ставший родным детский, кисловато-мыльный запах. Она гладила волосы на моей груди и руках, острые ногти царапали кожу, оставляя розовые тонкие линии.
Ее платье и маленький, смятый, словно мертвая черная бабочка, лифчик, были брошены на другое кресло, вместе с моими пиджаком, жилетом и рубашкой, черный галстук траурной лентой свисал к полу.
— Что же мы будем делать, — спросил я почти беззвучно, склонившись к самому ее уху, — я перегорю, и ничего не выйдет, ты же видишь, что со мною творится…
Она положила руку, прижала, погладила, как бы успокаивая, но, конечно же, под ее рукой еще сильнее напряглось, рванулось, растягивая, разрывая ткань, стремясь к ней, в нее, и она снова прижалась щекой, а я все бунтовал, все рвался на волю, и она подняла счастливое и горестное, улыбающееся отчаянно и почти удовлетворенно лицо и, глядя мне в глаза уплывающими, обморочными, янтарного цвета глазами, что-то сказала одними губами, голоса не было.
— Что, что ты говоришь, любимая, моя любимая?
— Давай… Давай же.
Это был самый обыкновенный казенный стол, только очень большой, на тяжелых тумбах. Столешница в двух местах, посередине длинных сторон, была немного поцарапана. Стол был пуст, лишь в центре стояло нечто вроде пепельницы или плоской вазы из какого-то черного материала, тяжелой пластмассы или камня, полированное и блестящее снаружи, с внутренней же вогнутой поверхностью пористой, в микроскопических, одно вплотную к другому, отверстиях. Я попытался приподнять этот предмет, но не смог оторвать его — то ли он был вделан в стол, то ли был так тяжел. С той стороны, которая была обращена к одному из узких краев стола, верхний срез вазы имел полукруглую, отполированную выемку, будто для гигантской сигары.
На полу у этого же края стола лежал небольшой квадратный коврик из грубой черной ткани, вроде войлока. По периметру коврик был обшит черной же лентой из блестящего шелка, и то ли поэтому, то ли потому, что в центре он был прикреплен к полу большим гвоздем или болтом, шляпка которого ярко блестела на черном, края коврика немного загнулись кверху, как у листа бумаги, свернутого в трубку, а потом разглаженного.
— И все-таки это странно, так странно… — мы стояли у стола, обнявшись, мне пришлось наклониться, она обнимала меня за шею, мы образовали как бы зеро, ноль, но, может, это была бесконечность. Она все повторяла, -…странно, так странно… Все серьезно, даже ужасно, и вдруг почему-то именно таким способом, именно мы должны решить судьбу целой страны… Это просто плохой фантастический роман, да еще с этой… с порнографией, да?.. Но почему именно мы? И какой в этом смысл? Странно…
— Знаешь, — я приподнял ее, как приподнимают детей, подмышки, и посадил на край стола, чтобы удобнее было разговаривать, — на самом деле во всем этом гораздо больше практических резонов, чем тебе кажется. Такой способ замыкания сети делает абсолютно бессмысленным, а потому и невозможным проникновение сюда здешних людей…
— Но почему же?! — тихо воскликнула она. — Разве здесь теперь никто не любит, никто не желает другого человека, разве среди здешних страстных любовников не может найтись пара, способная на это пойти ради того же самого — чтобы люди прозрели?
— Во-первых, страстных по-настоящему среди них действительно почти нет, но даже если бы они нашлись… — я взглянул ей в глаза, и вдруг понял, что она просто стесняется, что при всей своей чувственности и даже некотором опыте, она просто стеснительная девочка, совсем несведущая в том, куда может завести любовь, в какую даль и мрак, -…если бы нашлись, все равно, они все генетически, понимаешь, генетически неспособны ни к чему, кроме того, что многие из них уже ненавидят, проклинают, но не представляют другого — только безопасный секс. Они не способны к другому, они изолированы…
— Но ведь дети, у них полно детей! — она засмеялась, и глаза ее зажглись бешеным любопытством, как всегда, когда речь заходила о чем-нибудь, касающемся неведомого ей в любви. — Они же беременеют, я видела на улицах, их беременные мне так нравятся… Как и все…
— Господи, до чего же ты, все же, ребенок! Да это просто специальная медицинская служба, социальный сервис — ты идешь на прием, немного платишь, выбираешь пол, цвет волос, будущие склонности, аппарат включается на пять минут, и все, рожай, когда придет время! — Она смотрела на меня с ужасом, я обнял ее, прижал к груди голову, гладил… — И никому из них в голову не приходит связывать это с любовью, понимаешь?
— Но почему это?.. — она уже почти кричала, показывая на окружающие нас со всех сторон, мерцающие, светящиеся всеми красками экраны, на которых беззвучно танцевали, играли в лапту и городки, разгадывали викторины, открывали в пении рты, беседовали, смеялись добрые и веселые люди, разыгрывались исторические драмы времен Ивана Грозного и Сталина, Горбачева и Панаева, люди в диковинных костюмах нестрашно стреляли и легко умирали, красиво агонизируя, диктор читал новости, радостно улыбаясь, показывали сюжет о только что закончившемся концерте, и мы видели площадь и толпу, в которой были три часа назад… — Почему это зависит именно от любви?! Почему, зачем так придумано? И почему именно мы выбраны? Кто так решил? Ты знаешь? Ты должен знать…
— Я могу только догадываться… В любом, самом прочном, непоколебимом устройстве всегда есть слабое место. Почему его оставляют, даже как бы специально создают те, кто задумывает и строит что бы то ни было, от какой-нибудь машины до общественной системы? Ведь они-то заинтересованы в неразрушимости воздвигнутого… Бог знает. Понимаешь? Я сказал именно то, что сказал, буквально. Господь знает, почему и зачем он не дает ни единому человеческому замыслу осуществиться до конца, ни хорошему, ни, к счастью, дурному, почему все сделанное человеком рано или поздно рушится, идет прахом. Поэтому, наверное, в их жизни, где есть все, кроме настоящей страсти, кроме настоящей любви между настоящими мужчиной и женщиной, в этом их тоскливом Раю есть этот стол, это место для Ада любви, открывающего истинный Ад истинной жизни… А почему именно мы? Что ж сказать… Я надеюсь, что мы это заслужили. Я даже уверен в этом. Ведь выбрали нас.
— Давай… — сказала она. — Давай же.
Она села на самый край стола и, медленно, держась за меня легла на спину.
Ее голова попала точно в вазу, и тонкая шея немного выгнулась, уместившись в выемку блестящего черного края.
Волосы, прошептала она, и глаза ее стали совсем круглыми от страха, мои волосы тянет назад, я уже не смогу встать, волосы прилипли.
Кожа на ее лбу и висках натянулась, будто она сделала балетную прическу.
Я понял, для чего поры на внутренней поверхности вазы — теперь она была прикована к месту своими волосами, втянутыми какой-то силой в эти поры. Как Гулливер.
Не бойся, сказал я, тебя наверняка отпустят, когда все кончится.
Я встал на коврик перед нею, и коврик скрутился еще сильнее, обхватил мои щиколотки, сдвинуться с места было невозможно.
Теперь у нас нет выхода, сказал я, мы прикованы друг к другу.
Это ужасно — любить насильно, сказала она.
А разве мы вообще любим по своей воле, сказал я, разве любовь — это свобода, не делай вид, что ты меня свободно выбрала, нас что-то взяло и притянуло друг к другу, так же, как и сейчас.
Я люблю тебя, сказал я, проникая, вдвигаясь, вжимаясь и видя рядом со своим лицом ее маленькие ступни, люблю.
Она застонала от боли и резко повернула голову в сторону, и я понял, что черное изголовье дает ей ту свободу, которая необходима для любви.
Ее ноги тянулись вверх, как побеги любви, как ветви от ствола моего тела.
Коврик держал меня плотно, но мягко, не мешая двигаться, раскачиваться на одном месте взад и вперед, взад и вперед, взад и вперед.
Она стонала уже непрерывно, перекатывая голову в черном ложе из стороны в сторону, улыбка боли и счастья не сходила с ее лица, глаза смотрели на меня, будто не узнавая, совсем пьяные и прекрасные.
Мои пальцы были на ее сосках, и ее — на моих, пальцы двигались, обводя маленькие круги, и внутри этих кругов умещался весь мир — кроме того, который вместился в меня, и со мною вошел в нее, и сейчас пылал и тонул одновременно, заливаемый водами, из которых все вышло и в которых все кончится.
Я склонился к ней, поймал ее рот своим ртом, и еще один мир возник в этой общей влаге, двигались, сталкиваясь, языки, это была внятная нам речь, и она объясняла все.
Я выпрямился, откинулся, колени ее легли в мои ладони, я ощутил мельчайшие пупырышки кожи и волоски.
Впалый ее живот выгнулся кверху, она закричала.
Все кончалось, кончалось и никак не могло кончиться, длилось, длилось и никак уже не могло продлиться, и кончалось бесконечно долго, кончалось мгновенно, длилось вечно, кончаясь всегда.
Я понял смысл воздержания нашего во все дни и ночи прежде.
И все смыслы понял, и смысл всего, всю бессмысленность всего, что не любовь, и весь ее смысл — все понял, наконец.
Наконец я все понял.
Но тут же забыл понятое, потому что все кончилось окончательно, и начался конец.
Нужно было отделиться друг от друга, мы начали разделяться, оба стонали, и я заплакал.
Потом я подал ей руку, и она встала со стола, и черная ваза отпустила ее, и мой коврик мягко лежал под моими ногами.
Она вытерла мои слезы губами и языком, губами и языком вытер и я ее.
Одень меня, попросила она, мне становится холодно.
Я шагнул к креслу, на котором лежала наша смятая одежда…
Экраны мерцали, светились всеми красками. Где-то должен включаться звук, сказала она хрипло, и у нее тут же сел голос. Я не знаю, где, сказал я, да это неважно, все ясно и так. Она дрожала теперь и от холода, и от того, что шло к нам со всех экранов, но оторваться от этого и одеться у нас не было сил — голые, вцепившись друг в друга, мы медленно поворачивались от стены к стене. Вот мы и замкнули цепь, и теперь все страна уже минуту смотрит это, сказал я. Я боюсь, все же это кощунство, сказала она, то, что мы делали, и этот ужас, они несовместимы, и мы понесем наказание, мы будем наказаны, даже если мы действительно исполнили миссию, мы будем наказаны. Ты глупая, сказал я, никакое это не кощунство, это любовь, и недаром она рифмуется только с кровью, а наказание, ты права, наверное, последует, за любовью оно следует всегда…
Мы шептались почему-то, одни в пустой комнате, голые, любящие и несчастные человеческие существа, такие же, живые и страшащиеся смерти, как те, кто теперь мучился и мучил, умирал и убивал, исчезал и выживал на окружающих нас экранах, на окружающей нашу прозревшую страну земле…
— Пора, — сказал юноша, входя в оказавшуюся уже незапертой дверь, — вам пора и мне тоже.
Гриша и Гарик стояли позади него в коридоре.
— Тоже мне называется охрана, — Гриша презрительно сплюнул. — Лохи это, а не охрана, им стало интересно знать, что таки случилось, и они себе пошли смотреть телевизор, как последние поцы, и входи, кто хочешь, вы такое видели?
— Двенадцатый раздел части седьмой памятки «О спецнарушениях спецрежима на спецобъектах работниками охраны в связи с халатностью, пьянством и другими причинами», — уточнил Гарик и добавил, — тоже люди, нет?
Мы долго спускались по лестницам, все пятеро — лифты уже перестали ходить. Она шла за мною, в узких черных брюках, тонком свитерочке — почти незнакомая мне женщина. Я осторожно ступал стертыми и скользкими подошвами своих старых замшевых башмаков, в кармане вельветовых штанов я нащупал ключи и пытался сообразить, как эта связка там оказалась — ведь я вышел из дому, оставив их там и захлопнув дверь. Первым спускался местный юноша, за ним шел Гарик со своим вновь возникшим «ТТ» в вяло опущенной руке, последним, непрерывно что-то бормоча и, в то же время, рыская стволом «штайра» по сторонам, двигался Гриша. «Все же таки аид такого не сделал бы, — бубнил Гриша, — аид бы не бросил за просто так своя работа, если он работает по лифтам, чтобы люди так мучились на лестнице…» «Гриша, это шовинизм, — сказал Гарик. — Великодержавный, а?»
На площади снова была толпа, но уже совсем другая, чем накануне вечером. Я увидел эту толпу в сером свете раннего утра и испугался, и пожалел о свершившемся — как всегда мы жалеем.
12
Шли, шли, шли танки.
Боевые машины пехоты, бронетранспортеры, разведывательные машины десанта, миасские грузовики, симбирские джипы, штабные фургоны, передвижные центры связи, заправщики с соляркой и бензином, амфибии всех боевых назначений и понтоновозы, обычные «волги-супер», только с цветами флага и орлом на дверцах, с камуфляжно крашеными капотами, крышами и багажниками, установки «Мрак», качающиеся на платформах, установки «Мор», установки «Саранча-1», самоходная артиллерия и тягачи с орудиями, безоткатные пушки в открытых вездеходах.
Снова танки, танки, танки.
Горели, переворачивались, стояли, покосившись, без гусениц, обуглившиеся, свесив к земле ствол орудия. Отдельно лежали башни. Пылали дополнительные наружные баки, танк несся по пустому шоссе, но пламя не сбивалось. Взрыв.
Сталкивались, перегораживали дорогу, съезжали в канаву, взбивали гусеницами и колесами грязь, погружаясь в нее все глубже, уходили под проломившийся лед, рушились в воду вместе с обломками взлетевшего на воздух моста, сползали с разъехавшихся понтонов.
На полном ходу слепо утыкались в стены, застревали в лесных завалах, валились назад с крутых подъемов.
Шли, ехали, бежали, стояли солдаты. Сидели, лежали на земле, на полу в пустой комнате с выбитыми окнами, на асфальте за углом дома, на покатой крыше, на клумбе посреди городской площади, за пустым постаментом.
С автоматами, ручными пулеметами, гранатометами и огнеметами.
В касках, шлемах и уродливых зимних шапках.
В камуфляже, в обычном хаки и в черных комбинезонах.
В масках, в боевой раскраске и просто в потеках грязи на лицах.
Валялись трупы.
Сожженные до черноты, уменьшившиеся вдвое. С оторванными руками, ногами и головами, разодранные пополам. Босые, с голыми животами под задравшейся тельняшкой, с подвернутыми ногами. Укрытые куртками или брезентом, в пластиковых мешках. Голова, кисть, нога почти целиком, просто красное мясо.
Палкою, по-волчьи, опустив хвост трусила через площадь собака.
Горели дома, деревья на бульваре, бегущий человек в азиатском халате, плоский черный цилиндр нефтехранилища, трамвай на повороте, ларек на углу.
Четверо солдат вели мужчину в тряпье. Возраст его определить было невозможно, с разбитого лица слепо и косо смотрели очки. Двое солдат тащили его под руки, один чуть приотставал и, разбежавшись, в прыжке, бил каблуком человека в поясницу, человек прогибался и обвисал, четвертый солдат, шедший впереди, оборачивался и все четверо хохотали, даже останавливались ненадолго, чтобы отсмеяться.
Ноги женщины были связаны, веревка переброшена через ветку дерева. Двое потянули, женщина повисла, руки ее доставали, хватали землю, одежда съехала вниз, закрыв голову и обнажив нелепо белое тело. Двое, натягивая веревку, отступили в сторону, двое других подняли автоматы, стволы задергались, тело женщины раскачивалось.
Танк ездил взад и вперед, но рука все еще торчала из раскатанной грязи.
Парень в форме, с непокрытой светло-русой головой, с очень красивым, серьезным лицом стоял перед привязанным к уличному фонарному столбу стариком. Старик закрыл глаза, покачал головой, седая круглая бахрома бороды дергалась. Парень отступил на шаг, осторожно, как молодой отец, вынул из стоящей на тротуаре коляски аккуратно завернутого в одеяло младенца, взял его за ноги, размахнулся, как дубинкой, и головой ребенка ударил старика по лицу.
Где это, хрипела она, кто эти люди?
Симферополь, Йошкар-Ола, Уфа, отвечал я, Петрозаводск, Элиста, Брянск, Курск, Псков, Калуга, может быть, это и на Луне, отвечал я, и это граждане великой, богатой и мирной страны, это солдаты ее несуществующей армии, это отдельные эпизоды из жизни и смерти ее несуществующих врагов, отвечал я. Кажется, я ничего не отвечал, да и она ничего не спрашивала. Возможно, нас просто не было там, среди этих экранов.
Он встал перед нами на пустой, сверкающей под луною дороге — давний знакомец, и оба мои ангела, белый и черный, оставили меня и встали рядом с ним.
— Вот, собственно, и все, — сказал он, — вы сделали свое дело. Счастливые люди узнали правду и стали несчастными, как и подобает людям. Увы, они не ограничились знанием и не смирились с несчастьем, как и следовало ожидать от вашего рода…
— Что сейчас происходит в городе, — спросил я, — видимо, там…
— Да, вы правы, — перебил он, — там начались беспорядки, и весьма серьезные. Примерно через час после того, как на экранах всех их телевизоров появились картины настоящей жизни, они начали выходить на улицы. Кстати, меньше всего среди вышедших было тех, кто прежде ходил на демонстрации — вроде ваших знакомых, с которыми, помните, вы беседовали в старом бомбоубежище на Котельнической… Многие из этих вольнодумцев даже обратились к власти с просьбой прекратить уличные выступления силой. Между тем, в городе уже громят государственные учреждения, кое-где начались пожары, полиция и градоначальство пока бездействуют, но военная колонна, выведенная из боев в Заволжье, уже на подходе…
— Что ж, вы довольны, — я посмотрел ему в лицо, но не увидел глаз, — вы довольны, что грех неведения теперь уступит греху ненависти? Мы, она и я, выполнили то, что вы задумали, новая кровь, которая прольется теперь, ляжет на нас. Для чего это? Разве неизвестно вам или тому, кто и над вами, что борьба со злом есть зло? Это знают даже дети…
— А разве неизвестно вам, — ответил он с удивившим меня раздражением, — что и примирение со злом есть зло? Или дети, вроде вас, этого не знают? Дивизия, лившая кровь на Средней Волге, перестала убивать там и, возможно, начнет убивать в Москве. Войны по периметру прекратятся, но, возможно, начнется война внутри этой съеживающейся страны. Что лучше? Зло непобедимо, но я и они, — он положил руки на головы своих помощников, — посланы, чтобы с ним бороться. И благодарите, — он поднял свое темное, невидимое лицо к синему небу в частых остриях звезд, — что вы были хорошим орудием в этой борьбе.
— Давайте чужой паспорт и возвращайтесь, — сказал он.
Я протянул ему измятую книжечку, Гарик щелкнул зажигалкой, поднес огонь — и лохмотья бумажного пепла упали, смешались с прахом дороги.
Трое повернулись и пошли прочь. Никто из них не оглянулся, правда, Гриша, не оглядываясь, приподнял в прощании шляпу над головой, а Гарик помахал, тоже не оборачиваясь, рукой со сложенными в кольцо большим и указательным пальцами — О.К.
Они скрылись за поворотом дороги, за деревьями становящегося различимым к рассвету леса.
— Я возвращаюсь, — сказала она, — пора, все уже дома, а мне еще надо купить что-нибудь. Может, курицу… Хлеба… Пока. Я позвоню тебе.
— Я буду ждать, — сказал я, — позвони, если сможешь.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
ЛЮБИМЫЙ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
1
Але.
Это я.
Ты можешь сейчас говорить?
Почему же ты не позвонила?
Простите, я, видимо, ошибся.
Але…
Вас не слышно, перезвоните…
Вас не слышно, перезвоните…
Говорите… говорите же…
Але.
Это я.
Ну, наконец. Теперь ты можешь говорить? Ты одна? Слава Богу. Девочка. Я тебя люблю. Я соскучился ужасно. Все это время думал о тебе, о том, что с нами было.
Ты знаешь, чем больше времени проходит, тем ясней я понимаю: это наше безумное путешествие было придумано тем же самым идиотом, помнишь, я рассказывал тебе о нем, он считает себя моим автором, однажды он достал меня настолько, что я написал ему письмо, почему-то стилизованное, с архаическими оборотами, и, представляешь, он ответил, с такой хамской издевкой, мол, я тебя выдумал, что хочу, то и придумываю в твоей судьбе, он эгоцентрик и мегаломан, мы, видимо, ровесники и одного круга, поэтому он хорошо представляет себе мои вкусы, довольно точно описывает некоторые эпизоды биографии, но многое просто списывает с себя, например, он холодный бабник и пытается сделать меня таким же, только ничего у него из этого не выходит, я люблю тебя, на этом его фантазии кончаются.
А согласись, что-то есть в этой… его выдумке, правда?.. мне понравилось… страна такая… сытая, скучная… невозможно у нас, да?.. а он придумал… и еще способ… ну, этот… способ открыть им глаза… как мы замкнули цепь… мне понравилось…
Ты эксгибиционистка, это просто примитивная, убогая метафора, вот и все, а тебе, видимо, вообще нравятся такие мужчины, как он, вешающие на других свои комплексы, влезающие в чужую жизнь, использующие тебя просто как блядь, прости, я не хочу тебя обижать, но ты же знаешь, что я ревную тебя ко всем, тем более к нему, мне кажется, он трахнул нас обоих, помнишь «Кабаре», вот так же, и еще я бешусь, потому что во многом он прав, во многом он понял меня, и тебя тоже, он очень хорошо почувствовал, например, мою тягу на дно, страх и одновременно желание опуститься, пропасть, когда я прохожу мимо бомжей, которые спят у меня на лестнице, у метро, в переходах, я чувствую, что меня тянет к ним, я очень ясно представляю себя таким же, грязным, вонючим, сумасшедшим, в рваных тряпках, не трезвеющим никогда, в желтой луже, я вижу это, а он вокруг этого моего страха и предчувствия все и закрутил, тебе кажется это просто литературной игрой, а мне бывает жутко, потому что я знаю, что так и будет, он своего добьется.
Успокойся… успокойся, мой любимый… ну, что ты?.. просто ты совсем не спишь… и пьешь много… так нельзя… что-то надо делать с твоим сном… давай как-нибудь придумаем, встретимся, и ты поспишь, просто обнимемся, полежим рядом… как там, на даче, помнишь?.. так хорошо было… и не ревнуй к нему… пожалуйста… у тебя нет никаких оснований для ревности… ни к кому… все, что было раньше… как будто не было… я их не помню… никого… люблю тебя, скучаю… хочу лечь, вытянуться вдоль тебя… совсем родной… Ну, ладно, Танька, договорились, буду в твоем районе, забегу померять, потреплемся, ладно, пока.
Але… привет… ты понял?.. Он вернулся от метро, забыл что-то… и смотрел мне прямо в лицо, когда я называла тебя Танькой… это ужасно, это все… иногда мне становится так страшно… я думаю… разве нельзя любить двоих?.. ведь жизни две… мы же были с тобой во второй жизни… а получается, что нельзя… жизни две, а я-то одна… Я стараюсь не думать… и там в той жизни, старалась не думать… но ничего не выходит… помнишь, я говорила, что все беды, и мои, и твои, и всех, это мне наказание?.. я и сейчас так думаю…
Чепуха. Опять ты завела эту песню, я виновата, я виновата, это ерунда, из всех, кого я знаю, ты виновата меньше всех, не казни себя, я прошу, я знаю, что говорю, тебе не за что себя казнить, я же рассказывал тебе, ты довольно наслушалась обо всех моих женщинах, и я честно тебе говорю, ты самая лучшая, самая чистая, ни в какой я не в эйфории, неужели ты еще не поняла, что ни любовь, ни пьянство мое не лишают меня абсолютной трезвости, с которой я оцениваю и тебя, и себя, и вообще людей, любовь не мешает мне видеть все, как есть, я замечаю и дурное в тебе, как и в себе, но, уверяю тебя, этого дурного в тебе так мало, ты настолько лучше других людей, что постоянное твое самоистребление просто глупо, хотя я понимаю, конечно, что потому ты и мучаешь себя, что хорошая, что совесть есть, если б не терзалась, то я бы тебя и не любил, но все-таки, прошу тебя, не мучайся, успокойся, любимая моя, девочка, мое счастье.
Але… я люблю тебя…
Подожди. У нас не так много времени, он вернется, опять придется бросать трубку, лучше поговорим о важном, о том, что происходит на самом деле, а не в бедных наших душах, мы измучились жизнью врозь, от этого тяжелые разговоры, мысли о плохом, а все дело в том, что не спим рядом, не засыпаем, обнявшись, что не лежим spoon like, как ложки, тела скучают, а нам кажется, что дух томится, но, может быть, он и действительно томится оттого, что скучают тела, но, как бы то ни было, я хочу рассказать тебе о реальных вещах, которые происходят со мною после возвращения.