Жеводанский зверь Теплинская Радомира
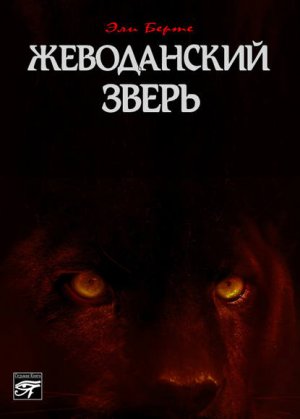
Глава первая
Лангонь, крошечный городишко в бывшем Жеводане, составляющем ныне границу департаментов Лозера и Ардеша, расположен среди возвышенных гор и лесов, которые делают доступ к нему очень трудным. Хотя этот городок был очень оспариваемым постом в ту эпоху, когда религиозные войны опустошали Севеннские горы, а особенно во время возмущения камизаров после отмены Нантского эдикта, его положение в стране, неплодородной, лишенной ресурсов и торговли, не допускало какое-нибудь развитие. Даже в наше время Лангонь показался бы жалким селением повсюду, кроме департамента, лишенного больших центров народонаселения и где главный город имеет менее важности, нежели некоторые деревни в окрестностях Парижа.
В один из дней начала осени 1764 года, небольшое число жителей, которых полевые работы оставили в Лангони, казались чрезвычайно взволнованными. Бальи, сопровождаемый барабанщиком, ходил по городу, зачитывая своим подданным прокламацию, возбуждавшую живой интерес. Закутанный в черный плащ, в огромном парике и четырехугольной шапке, он шел со всей возможной важностью со свернутой бумагой в руке. На каждой площади, на каждом перекрестке он останавливался, барабанщик начинал барабанить, потом бальи, развернув бумагу, посреди глубочайшего молчания читал гнусавым голосом официальный акт, который ему поручено было довести до сведения жителей. Чтение это происходило на двух языках: сначала по-французски, потом на местном наречии – предосторожность необходимая, потому что французский язык не был тогда очень распространен в этой провинции и бальи рисковал бы не быть понятым одним из ста своих слушателей.
В чем же состояла эта торжественная прокламация, которая взволновала жителей Лангони, как ранее уже взволновала все города и все деревни этой провинции?
Уже несколько месяцев край опустошало таинственное животное, которое население считало чудовищным волком и называло жеводанским зверем. Он пожрал уже очень много людей – мужчин, женщин и детей. Ежедневно приходило известие о новом несчастье; поселяне не смели выходить иначе как вооруженные и целой толпой, чтобы заниматься своими заботами, но, несмотря на предосторожности, несчастья непрерывно увеличивались. Приказано было устроить охоту, и все окрестные охотники соединились, чтобы захватить или убить этого таинственного зверя; лес, в котором он чаще всего рыскал, был тщательно осмотрен. Столько же хитрый, сколько и беспощадный, зверь сумел непонятым образом укрыться от облавы, а этим же вечером, ещё несколько молодых пастухов и одиноких странников были растерзаны в этом же лесу, только что оставленным охотниками.
Такое положение дела возбуждало всеобщие жалобы. Ужас, царствовавший в провинции, был так велик, что власти, наконец, серьезно взались за это. В прокламации, прочитанной бальи, назначалось две тысячи ливров премии от Лангедокских штатов тому, кто убьет жеводанского зверя. К этой сумме синдики Менда и Вивье прибавляли пятьсот ливров. Кроме того, он приглашал всех доброжелательных людей, вооруженных или нет, явиться на другой день в замок Меркоар, находившийся в нескольких лье от города, чтобы участвовать в новой охоте, которой будет распоряжаться Ларош-Буассо, начальник над волчьей ловлей и один из жеводанских баронов.
Бальи, обойдя, как мы сказали, площади и перекрестки Лангони, что продолжалось недолго, начал читать в последний раз свою прокламацию в конце главной улицы, перед гостиницей, где непременно должны были останавливаться путешественники, потому что другой здесь не было. Окончив свое дело, бальи отпустил барабанщика, потом, не желая отвечать на вопросы людей, собравшихся вокруг него, между которыми находились почетные жители, удалился домой величественными шагами.
Однако, его уход не заставил разойтись толпу, собравшуюся перед дверью гостиницы, где с жаром продолжали обсуждать событие этого дня.
– Две тысячи пятьсот ливров! – повторял худощавый маленький человечек, торговец швейными товарами. – Мендские и лангедонские синдики хорошо поступают, да еще уверяют, что король прибавит к этой сумме четыреста или пятьсот ливров из своей собственной шкатулки… Много нужно отмерить аршин холста и тесёмок, чтобы заработать столько денег!.. Если жена позволит, я сниму со стены старое ружье моего деда и пойду завтра вместе с другими в замок Меркоар попытать счастья.
– В таком случае зверю стоит только хорошо держаться, сосед Гильяр, – сказал с насмешкой поверенный в делах лангоньского аббатства, – я охотно побьюсь об заклад, что мадам Гильяр рискнет своим мужем, если вы расположены сами рискнуть собой… Если уж вы так храбры, почему бы вам не отправиться к барону Ларош-Буассо и просто просить у него поставить вас на какой-нибудь хороший пост, где вы могли бы заработать эти деньги?
Гильяр состроил такую жалобную рожу, что присутствующие громко расхохотались.
– Сказать по правде, господин поверенный, – с беспокойством отвечал Гильяр, – ружьё-то не совсем в порядке, и я сомневаюсь, успеют ли поправить его до завтра. Притом барон Ларош-Буассо не даст первого места таким ничтожным людишкам как мы; вот увидите, что барон даст огрести эти денежки кому-нибудь из наших богатых дворян.
– А почему ему самому не заработать этих денег? – возразил поверенный с насмешливой улыбкой. – Он самый искусный охотник, самый опытный стрелок во всей провинции; зачем ему уступать другим честь и прибыль этого дела? Несмотря на свою гордость, он не побрезгует двумя тысячами пятьюстами, ручаюсь вам… Сейчас всем известно, что его дела весьма запутанны…
Хорошенькая брюнетка лет тридцати шести, кокетливо одетая, с золотым крестом на шее и перстнями на каждом пальце, перебила поверенного:
– Фи! Фи! мосье Блиндэ, – сказала она скороговоркой, – можете ли вы говорить таким образом при мне о красивом и любезном дворянине, который всегда останавливается в моей гостинице, когда едет в Лангонь? Если барон Ларош-Буассо имеет долги, что же в том дурного? Такие знатные дворяне, как он, разве не принуждены иметь долги, чтобы поддерживать свое звание?.. Но, может быть, без труда можно отгадать причину этих злых толков. Несмотря на ваше желание, он не хотел взять вас в свои поверенные и вверил свои интересы старику Легри. С другой стороны, с тех пор как вы поверенный городского монастыря, вы считаете себя почти принадлежащим к католическому духовенству, а эти Ларош-Буассо слывут тайными протестантами… Я не знаю, правда ли это, но могу утверждать, что никогда барон не ел у меня скоромного в пятницу; он обыкновенно довольствуется для завтрака яичницей с форелью и бутылкой моего сенперейского вина. Это вельможа учтивый и веселого характера; у него всегда найдется для хозяйки любезное словечко…
– И который всегда готов заплатить за свой завтрак поцелуем; не правда ли, мадам Ришар? – окончил лукавый поверенный.
Хорошенькая трактирщица покраснела до ушей.
– Злой у вас язык, мосье Блиндэ, – возразила она со смущенной улыбкой, – но, ради бога, не говорите так громко, потому что неизвестно, кто может вас услыхать. Сказать по правде, барон Ларош-Буассо должен проехать сегодня через Лангонь по дороге в замок Меркоар и, наверно, остановится у меня закусить и дать отдохнуть лошадям… Ваши наговоры могут повредить ему. Вы знаете, – прибавила она, понизив голос, – что поговаривают об его женитьбе на мадмуазель де Баржак, богатой и прелестной владетельнице Меркоара.
– Поговаривают, но я этому не верю, напротив…
Тут собеседники заговорили так тихо, что их невозможно было расслушать, зато спор между другими в группе становился шумнее и оживленнее.
– Что же это, волк или нет? – спросил городской бочар с видом недоумения. – Ведь это должно быть правительству известно, а в прокламации об этом ничего не говорится. Там упоминается только о жеводанском звере… Черт побери! Это обозначение кажется мне не довольно ясно; зверей немало в здешней стороне!
– Замечание Гривэ не совсем лишено смысла, – сказал писарь сельского нотариуса, – по обычаям процедуры, правительству следовало бы яснее определить, какого рода это животное… А в этом-то и затруднение; я два раза был писарем в следствиях по этому делу, а и теперь еще буду в затруднении сказать, человек или зверь виновник этих ужасов.
– Как это? Объяснитесь, мосье Флоризель! – закричали со всех сторон.
Писарь, по-видимому, очень гордился произведенным им впечатлением и обвел своих слушателей самоуверенным взором.
– Послушайте, – продолжал он, – первый раз это случилось с Гильомом Патюро, сыном комбевилльского мызника. Гильом, которому было шестнадцать лет, возвращался один с мендской ярмарки с десятью экю в кармане, когда вечером, в десять часов, в то время как он проходил по Вилларескому лесу, на него напал какой-то зверь. На другое утро несчастного Гильома нашли на дне оврага полурастерзанным. Судья, распоряжавшийся следствием, показал, что на теле были следы когтей и зубов; но когти были дальше, а зубы, напротив, ближе, чем в каком бы то ни было животном наших лесов. Притом, хотя одежда мальчика была почти цела, деньги, бывшие при нем, пропали… а так как никакое лютое животное не может съесть монеты в три и шесть ливров, я говорю, что это довольно необыкновенное обстоятельство!
Все присутствующее были того же мнения, но Блиндэ, прервавший свой разговор с мадам Ришар, чтобы послушать рассказ писаря Флоризеля, презрительно покачал головой.
– Хорошо! Так вот как вы думаете, простодушный и легковерный молодой человек! – возразил он. – Когда будете поопытнее в судебных делах, вы узнаете, что проницательный судья должен отыскивать самые простые и естественные объяснения, потому что они всегда справедливы. Так и теперь, разве не может быть, что прохожий осмотрел карманы до вашего прихода? А я побьюсь об заклад, что тот, кто первый нашел тело и донес об этом, принял эту благоразумную предосторожность.
Этот урок, данный старым практиком в присутствии стольких почтенных особ, смутил Флоризеля, однако он продолжал с иронией:
– Вы человек искусный, мосье Блиндэ; жаль, что суд не часто прибегает к вашей опытности; никакой злодей на двух или четырех ногах не мог бы ускользнуть от вас. Но если вы так проницательны, объясните мне также происшествия, которые были предметом другого следствия, где я участвовал. На этот раз протокол поручено было составить матоневскому бальи; дело шло о четырехлетнем ребенке, мать которого, габриакская мызница, оставила его одного в колыбели, пока ходила в поле. Мыза эта стоит одиноко на рубеже леса; когда мать воротилась после отсутствия, продолжавшегося около часа, она нашла ребенка мертвым и растерзанным в нескольких шагах от колыбели. Но самое непонятное во всем этом то, что она поклялась нам, что, выходя, она заперла дверь дома защелкой и, когда она воротилась, дверь эта была заперта точно таким же образом. Бальи двадцать раз делал ей тот же вопрос и двадцать раз получал тот же ответ. Стало быть, если волк опустошает страну, то этот волк умеет отворять и запирать двери… Что вы скажете на это, господин Блиндэ?
Любопытство было возбуждено в самой крайней степени; слушатели обернулись к Блиндэ, чтобы услышать его мнение насчет этого затруднительного обстоятельства. Блиндэ почесал себе за ухом сверх своего огромного парика и сказал с важностью:
– Я не думаю, чтобы у волка достало инстинкта отворить дверь, запертую защелкой, хотя мы все видели, что собаки и кошки делали это. Стало быть, я не буду вам говорить, что хищный зверь, привлеченный криками ребенка, встал на дыбы и, прислонившись лапой к двери, нечаянно поднял защелку. Я думаю скорее, что мызница ошиблась, и для извинения этой неосмотрительности…
– Еще раз повторяю, она утверждала нам клятвенно, что не может упрекать себя ни в какой небрежности; но положим, что она оставила дверь отпертой, как же эта дверь очутилась запертой, когда она воротилась?
– Да достаточно было порыва ветра…
– Пусть рассудят эти господа и дамы, – сказал писарь, обращаясь к слушателям, которые действительно, казалось, не находили удовлетворительными объяснения Блиндэ, – я, несмотря на мое уважение к просвещению и опытности мосье Блиндэ, остаюсь при своем мнении, что жеводанский зверь совсем не то, что думают.
Это было сказано тоном оракула, который произвел большое впечатление на присутствующих. Наступило минутное молчание.
– По вашему мнению, что же это такое, мосье Флоризель? – спросила хорошенькая трактирщица. – Барон Ларош-Буассо уверяет, что это волк, а он, кажется, должен знать в этом толк.
– Я слышал, что это рысь… этот зверь видит через стены, – сказал бочар.
– А я думаю, что это лев, вырвавшийся из зверинца Монпелье, – прибавил торговец швейными товарами.
– А я полагаю скорее, – возразил Блиндэ с притворным хладнокровием, – что это слон. Слон, вы знаете, может делать своим хоботом разные штуки; таким образом, объясняется, что этот зверь мог отворить и затворить дверь, как уверяет мосье Флоризель.
Общий хохот принял эти слова. Только одна мадам Ришар приняла за серьезное эту шутку.
– А если бы и слон, – сказала она наивно, – барон Ларош-Буассо такой искусный охотник, он успеет с ним справиться, ручаюсь вам!
Между тем Флоризель обиделся сарказмом Блиндэ; он отвечал, закусив себе губы:
– Каждый вправе приписывать несчастья страны рыси, льву, даже слону, как предполагает мосье Блиндэ со своей обыкновенной тонкостью; но даже если бы мне пришлось одному иметь это мнение, я утверждаю, что мнимый жеводанский зверь…
– Это – волк! – сказал грубый голос из последних рядов группы. – Я это знаю, потому что видел его не позже как вчера вечером.
Новый собеседник, высокий и сильный крестьянин, пришел только в эту минуту из соседнего села. Он держал в одной руке свой кафтан и деревянные башмаки, а в другой длинную палку, к концу которой был прикреплен старый нож в виде грубого копья. За ним шла огромная собака с красным высунувшимся языком, с ошейником с острыми зубцами, которая была надежным спутником в дороге.
Флоризель, раздраженный, что его прервали в ту самую минуту, когда он собирался выразить свое личное мнение о биче, опустошавшем страну, спросил презрительным тоном, окидывая путешественника с ног до головы:
– Вы, видели жеводанского зверя? А кто вы такой, приятель, что вмешались в наш разговор так бесцеремонно?
– Я Жан Годар, – с уверенностью отвечал крестьянин, – пастух мадмуазель де Баржак. Меня послала моя госпожа к господину бальи просить добрых лангоньских жителей непременно явиться завтра на охоту, потому что надо спешить. Вчера на закате солнца зверь бросился на Жаннету, которая гнала индеек к ферме, и зверь уже кинулся на бедную девушку, когда я прибежал на ее крик. Вот эта моя собака бросилась на волка, что довольно странно, потому что все другие собаки разбегаются, увидев его, но мой зубастый Медор не оробел, и мы вдвоем освободили Жаннету. Она обезумела от страха, но отделалась только несколькими царапинами.
Такое точное свидетельство прекратило все предположения; писарь Флоризель сконфузился.
– А вы уверены, – спросил он, – что этот зверь был волк?
– Уверен ли! – отвечал Жан Годар, – я его видел, как вижу вас; я даже вырвал у него пригоршню шерсти, пока он боролся с моим храбрым Медором… Да, это волк, но такой огромный, как наш осленок. Цвета он серого, и я никак не мог проткнуть его ножом. Он тащил Жаннету, которая, однако, весьма здоровая девушка, как я тащил бы годовалого ребенка, а Медора отбросил ударом головы шагов за двадцать. Право, не знаю, как бы мы с ним справились, если бы работники с фермы не прибежали к нам на помощь, и это заставило волка удалиться в лес… Однако извините, честная компания, – продолжал крестьянин, – я должен исполнить поручение к господину бальи и спешу воротиться в замок; я так думаю, что сегодня вечером опасно будет в Меркоарском лесу, куда убежал волк!
Жан Годар засвистал своей собаке и ушел так поспешно, что не слышал посреди шума нового голоса, который говорил с испугом:
– Зверь в Меркоарском лесу! Да защитит нас Святая Дева! А ведь нам надо проезжать этот лес по дороге к мадмуазель де Баржак!
Предшествовавший разговор происходил на местном наречии, а это последнее замечание, напротив, было сказано по-французски. Удивленные этой странностью, разговаривавшие обернулись и приметили двух путешественников на лошаках, приблизившихся к группе, не будучи примеченными, и слышавших все, что было говорено.
Один из путешественников был бенедиктинец в белом и черном костюме своего ордена. Капюшон, откинутый назад, показывал волосы, обрезанные в виде венца, и умную голову, оживленную блестящими и кроткими глазами. Ему было не более сорока лет, но начало полноты, следствие сидячей жизни, а может быть, также наклонности хорошо поесть – грешок духовных лиц того времени – округлило его формы и вредило совершенной правильности его румяного лица. Его тонкая одежда и упряжь лошака показывали не простого монаха; и действительно, серебряный крест, висевший на его груди на широкой ленте, был знаком высокого духовного звания.
Товарищ его, молодой человек лет двадцати пяти, со строгостью, не лишенной изящества, имел длинные белокурые волосы без пудры и без завивки вопреки обычаям того времени. При нем не было шпаги; но шпага тогда не отличала уже достаточным образом дворян, потому что самые смиренные чиновники считали вправе завладевать этим знаком благородного звания. Черты его были прекрасны, выразительны, а во взгляде, когда он оживлялся, не было недостатка в смелости. Гибкий и хорошо сложенный, он должен был быть очень ловок во всех телесных упражнениях. Однако незнакомец, казалось, не сознавал этих внутренних достоинств. Деликатность его лица заставляла думать, что учение и размышление более занимали его свободное время, нежели игры и удовольствия, свойственные юности. Что-то скромное и сдержанное обнаруживало в нем юношу, еще недавно вырвавшегося от дисциплины сурового воспитания. Но можно было угадать в нем по некоторым резким и как бы невольным движениям, по нахмуриванию бровей, по интонациям голоса энергию и ум, которые не могут не обнаружиться при первом удобном случае.
Этот молодой всадник подражал с покорностью – происходившей, без сомнения, от продолжительной привычки – всем движениям монаха, которому он оказывал привязанность и уважение. Он остановился, когда остановился бенедиктинец, и слушал так же, как и он, жуткое известие, привезенное в Лангонь Жаном Годаром. Но он, казалось, нисколько не разделял испуга своего спутника, и ироническая улыбка, не будучи презрительной, играла на его губах, над которыми начинали пробиваться усы.
Как только добрые лангоньские граждане взглянули на путешественников, шляпы и шапки исчезли как бы по волшебству, почтительная тишина распространилась в толпе, только что шумной и оживленной.
Хорошенькая трактирщица мадам Ришар первая обрела присутствие духа.
– О! Отец Бонавантюр, настоятель Фронтенакского аббатства! – сказала она, сделав бенедиктинцу самый любезный поклон. – И мосье Леоне, племянник его преподобия…
Тут она сделала новый поклон молодому человеку, который отвечал ей тем же, покраснев.
– Добро пожаловать в наш город, почтенный отец, удостойте нас благословить.
– Благословляю и вас, дочь моя, и всех христиан, слышащих нас, – рассеянно отвечал бенедиктинец. – Но, боже мой! Мадам Ришар, я сейчас слышал, что это ужасное животное, жеводанский зверь…
– Уж наверно, – перебила трактирщица самым ласковым тоном, – вы не проедете Лангонь, не отдохнув у меня? Ваше присутствие принесет счастье моему бедному дому. Если, как я думаю, вы едете в Меркоар, вам непременно надо будет остановиться где-нибудь по дороге, и лучше уж здесь.
– Мне хотелось бы, дочь моя, – отвечал бенедиктинец, – но вы слышали, что нам нельзя запоздать, а единственная дорога в замок идет через лес.
– Вы непременно приедете в замок до ночи; согласитесь сойти с лошади, и я подам вам полдник, который вам понравится. Вы знаете, что я иногда умею угостить вас по вкусу.
Настоятель, по-видимому, почувствовал сильное искушение.
– Да, да, вы неподражаемы, признаюсь, в приготовлении голубей с шампиньонами и яичницы с форелью, моя милая мадам Ришар, но теперь нам не время предаваться чувственности, может быть, достойной порицания… Что вы скажете, Леоне? – обратился он к племяннику, – остановиться нам у мадам Ришар?
– Я в вашем распоряжении, дядюшка, – скромно отвечал Леоне, – вот уже шесть часов путешествуем мы по горам, а вы очень легко позавтракали в аббатстве; вам непременно нужны пища и отдых. С другой стороны, и лошакам нашим не худо бы отдохнуть.
– Хорошо, – сказал настоятель, аппетит которого боролся против страха, – мы здесь остановимся на минуту… Слышите, мадам Ришар, только на минуту; не заставляйте же нас ждать; нам достаточно малейшей безделицы, чтобы подкрепить наши истощенные силы. Какая жалость, дочь моя, что мы рабы нашего презренного тела!
Хорошенькая трактирщица бросила на присутствующих взгляд, исполненный гордости и радости.
– Положитесь на меня, преподобный отец! – вскричала она. – Какое счастье для моего дома!.. Пожалуйте, пожалуйте, все готово; слава богу, меня не застанут врасплох!
Она схватила за узду лошака, на котором сидел бенедиктинец, и торжественно повела его к гостинице, между тем как Леоне следовал за ними с равнодушными видом.
– Гм! – сказал Блиндэ с насмешкой. – Жалею я тех бедных путешественников, которым придется после этого остановиться у вдовы Ришар. Вместо обеда их будут потчевать рассказами о подвигах отца Бонавантюра.
Но никто не слышал этого замечания насмешника Блиндэ.
Как только любопытные увидели, что путешественники вошли в гостиницу, они разошлись разглашать повсюду, что настоятель Фронтенакского аббатства приехал в Лангонь, что он остановился со своим племянником у мадам Ришар, что они оба едут в замок Меркоар, и в городке пустились в разные предположения, от которых мы избавим слушателя.
Глава вторая
Чтобы понять сильное впечатление, произведенное в Лангони приездом отца Бонавантюра, необходимо знать, что Фронтенакское аббатство, к которому он принадлежал, было тогда самим обширным, самым богатым, самым могущественным духовным учреждением во всей провинции. Это аббатство, находившееся по соседству с Флораком, имело огромные владения, плодоносную, хорошо обрабатываемую почву, многочисленных и преданных крестьян. Кроме того, по милости многих благочестивых вкладов и временных завещаний, оно имело значительное влияние на разные чужие земли. Фронтенакская братия слыла очень ученой, а монастырь уже столько веков был рассадником теологов и ученых историков, из которых многие наделали шума в свете. Аббат их имел звание прелата; он прибавлял к своему имени титул дожа, он участвовал между семью представителями духовенства в Жеводанских штатах, собиравшихся каждый год в Мандэ или Марвежоле под председательством мандского епископа.
В это время фронтенакский аббат, по причине своих лет и своей дряхлости, был не способен сам управлять монастырем, и вся его власть перешла к приору аббатства. Отец Бонавантюр, пользуясь неограниченным доверием своего начальника и фронтенакского капитула, управлял всеми делами общины. Человек ученый, трудолюбивый и набожный, он был гордостью своего монастыря, прежде чем сделался его главой. К этим качествам, так сказать монашеским, приор Бонавантюр присоединил деловитость, понятливость в делах – словом, мирское благоразумие, необходимое в стране, где еще не совсем угасли религиозные распри, где протестантская оппозиция, хотя тайная и сдержанная, часто создавала препятствия католическому духовенству. Посредством благоразумия он успел восторжествовать над тайной ненавистью, завистью, враждой, возбуждаемыми благоденствием Фронтенакского монастыря, и можно сказать, что его искусное и вместе с тем примирительное управление еще увеличивало это благоденствие.
Пусть же судят о гордости и удовольствии мадам Ришар, когда она принимала в своей маленькой гостинице такую могущественную особу с молодым родственником, ум и образованность которого все хвалили наперебой.
Бедная женщина совсем потеряла голову. Проводя своих гостей в маленькую гостиную, смежную с кухней, она обрядилась в белый передник и бегала от очага к очагу, браня своих служанок. Впрочем, все было, как будто заранее приготовлено для приема знаменитых гостей. Маленькая гостиная отличалась изумительной опрятностью – качество редкое тогда в гостиницах южной Франции. Стол был уже накрыт скатертью, белой как снег, на которой стояли корзины с великолепными фруктами, кружки с аппетитными сливками, пирамида красной земляники, холодная дичь. Эта приятная картина могла бы, кажется, отвлечь приора от его беспокойства насчет жеводанского зверя, однако, бросив ласковый взгляд на стол, приор Бонавантюр сказал трактирщице тоном сожаления:
– Снимите эту дичь, дочь моя; хотя мы с Леоне могли бы сослаться на привилегию путешественников, но не забудем, что сегодня постный день. Мы удовольствуемся яичницей с форелью и фруктами, у которых весьма аппетитный вид.
Мадам Ришар повиновалась и отнесла осужденные кушанья. Верная обещаниям, она спешила приготовить завтрак, и через несколько минут знаменитая яичница явилась в гостиной на оловянном блюде, блиставшем как серебро. Приор, подвязав салфетку под подбородок, поспешил дать волю своему аппетиту, а Леоне, которому движение и резкий воздух гор освежили желудок, подражал ему. Несколько рюмок превосходного вина окончательно подкрепили душу и тело путешественников, так что дядя и племянник, в особенности же первый, совсем не торопились уже отъезжать.
Трактирщица беспрестанно суетилась около них; она сама прислуживала таким важным гостям и старалась между тем ловко выпытать от них о цели их пугешествия.
– Это чудо, истинное чудо, – говорила она, – видеть в Лангони приора Фронтенакского; но, без сомнения, отец Бонавантюр со своим племянником едут в Меркоар присутствовать на большой охоте, которая должна происходить завтра?
– Похож ли я на охотника? – спросил приор веселым тоном. – А Леоне, похож ли он на тех ветреников, которые скачут по двенадцати часов сряду по горам и лесам, чтобы видеть, как бедного зверя терзают собаки? На этот раз, без сомнения, охота будет иметь более благородную и более полезную цель, потому что дело идет о том, чтобы освободить страну от свирепого животного, опустошающего ее; но нам с Леоне вовсе некстати отличаться в подобном деле; племянник мой за всю жизнь свою не дотрагивался до оружия. А я… впрочем, дочь моя, это не секрет, я еду в Меркоар помогать мадмуазель де Баржак, питомице нашего монастыря, в хлопотах, которые наделает ей завтрашнее многочисленное собрание. В замок наедут охотники, из которых, может быть, некоторые будут слишком смелы в своих речах или непочтительны в своем обращении. Мое присутствие, конечно, будет останавливать этих шумных гостей, и для этого-то я предпринял это тягостное путешествие.
Может быть, у бенедиктинца били другие причины, кроме тех, какие он заблагорассудил объяснить, но он говорил с непринужденностью и естественностью, которые не оставляли никакого сомнения. Мадам Ришар лукаво улыбнулась.
– Если справедливо то, что рассказывают, преподобный отец, – отвечала она, – ваше дело будет не трудно, потому что мадмуазель де Баржак сама умеет заставить уважать себя. Я не намерена дурно говорить о благородной девице, находящейся под опекой Фронтенакского аббатства, но говорят, будто эта молодая девица характера довольно независимого и вовсе не имеет робости бедных женщин… Право, я не осмелюсь даже повторить при вас половину того, что говорят о ней.
Бенедиктинец перестал есть и холодно взглянул на трактирщицу.
– Объяснитесь, мадам Ришар, – сказал он повелительно, – я вам приказываю… я непременно хочу знать все, что говорят о мадмуазель де Баржак.
– Ах, боже мой! – отвечала трактирщица, оробев и наливая вина своим гостям. – Это, наверно, клеветы; люди так злы! Притом на честь и репутацию вашей питомицы не нападают; она девица гордая, всем это известно, влюбленным и ухаживающим за ней не очень удается… Но говорят о ее живом обращении, о ее резкости, о ее капризах, которые доходят иногда до сумасбродства; уверяют, будто она одевается в мужское платье и рыскает повсюду верхом, что у нее рука проворная для наказания тех, кто ее оскорбляет, и что даже в минуты нетерпения она просто ругается… да наш торговец сеном, который, сказать по правде, гугенот, уверяет, что слышал, как она ругалась.
Быстрая краска покрыла щеки Леоне.
– Добрая женщина, – сказал он со сдержанным гневом, – избавьте нас от этих недостойных клевет и умейте лучше уважать знатную девицу…
Он вдруг остановился, приметив, что дядя наблюдает за ним украдкой, и потупил глаза.
– Повторяю вам, – смиренно возразила мадам Ришар, – что я пересказываю толки, которые ходят по всей стране, а я совсем им не верю. Мадмуазель де Баржак, тем не менее, слывет добрейшей особой, щедрой, благотворительной к несчастным и делающей самое лучшее употребление из своего богатства. О ней рассказывают черты поистине превосходные; обвиняют только ее характер, странный и запальчивый.
Приор не показал ни удивления, ни гнева, узнав не совсем благоприятное мнение публики о богатой девушке, находившейся под опекой аббатства. Спокойно опорожнив свой стакан, он сказал:
– Довольно, дочь моя; остерегайтесь повторять эти нелепые толки, потому что это значило бы грешить против христианской любви и справедливости. Всем известно, что мадмуазель де Баржак была ужасно пренебрегаема в своем детстве. Воспитанная отцом, безрассудным охотником, видевшая только мужчин в старом замке, затерянном среди гор и лесов, она выросла так, что никто не заботился образовать ее сердце и ум, никто не подумал даже внушить ей самые простые понятия об обязанностях ее пола. Только в час смерти отец ее раскаялся в том полном небрежении, в каком оставлял ее, и поручил нам надзирать за этой бедной девушкой, направить ее на путь света и на путь небесный. Эта обязанность была не легкая. Кристина де Баржак, несмотря на ее превосходное сердце, привыкла к непослушанию, что много доставляет нам хлопот. Однако, благодаря настойчивости наших усилий, благодаря преданности благочестивых и умных особ, которыми ее окружили, мы, наконец, восторжествуем над ее непокорным характером, над ее нетерпением, не подчиняющимся никаким правилам и никакому обузданию… Вот почему, дочь моя, надо быть снисходительным к ней; скоро, без сомнения, она сделается кроткой и скромной женщиной, какие встречаются на свете, и было бы несправедливо обвинять ее в проступке ее родителей.
Мадам Ришар обещала сообразоваться с этими наставлениями. Пока она старалась извиняться в излишней смелости своих слов, несколько путешественников верхом остановились перед воротами гостиницы. В туже минуту прибежала запыхавшаяся служанка и шепнула несколько слов хозяйке, которая побледнела.
– Святая Дева! – с испугом прошептала хорошенькая трактирщица, – что он скажет? А я и забыла о нем!
Она тотчас вышла со служанкой, без сомнения, принять новых посетителей.
Скоро звук шпор раздался в первой комнате, потом послышался звучный поцелуй и мужской голос, говоривший по-французски:
– Да, это я, моя красоточка… Черт побери! Мои слуги, проехавшие здесь сегодня утром, верно, уведомили вас о моем приезде. Все ли у вас готово?
– Извините меня, барон, я вас не ждала уже, – отвечала трактирщица в смертельном смущении, – я все приготовила для вашего приема, но…
– Хорошо, хорошо! Вы знаете, моя красавица, что для меня довольно малейшей безделицы, приготовленной вашими белыми ручками… Прикажите дать что-нибудь закусить моим охотникам, а в маленькую гостиную пусть мне подадут мою яичницу с форелью и бутылку вина. Вы посидите со мной, моя красоточка, потому что ваше свеженькое личико возбуждает аппетит и веселость.
В это время тот, кто говорил, хотел войти в гостиную, но его удержали.
– Барон, – продолжала трактирщица почти с рыданием, – я вам сказала, что я вас уже не ждала. Другие путешественники…
– А! а! У вас здесь есть другие путешественники? Очень хорошо; я могу условиться с ними, если только это дворяне и добрые малые.
Вдруг, отворив дверь, незнакомец вошел в комнату, где находились приор Бонавантюр и Леоне.
Бесцеремонный господин был красив и крепкого сложения, надменной наружности, с закрученными усами, со смелыми ухватками, лет тридцати. На нем был богатый мундир начальника над волчьей ловлей, из голубого бархата с серебряными галунами, белые панталоны, высокие сапоги, парик и треугольная шляпа. Охотничий нож, эфес которого был из чеканного серебра, дополнял этот костюм, выказывавший гордый стан и замечательные формы новоприезжего. Он держал в руке хлыст и махал им с уверенностью, как будто был готов употребить его против всех.
Барон Ларош-Буассо – так звали этого господина – считался, как мы сказали, между восемью боронами, имевшими право заседать в Лангедокских или Жеводанских штатах. Фамилия его была младшей отраслью старинного дома Варина, угасшего уже давно, но когда-то одного из самых знаменитых в провинции. Графы Варина в царствование последних Валуа приняли реформатскую религию и находились до отмены Нантского эдикта начальниками протестантства в этой части Севеннских гор. Во время восстания реформатов, прозванных камизарами, в начале восемнадцатого столетия, прадед настоящего барона Варина долго побеждал маршалов Бервика и Виллара. Однако, побежденный в этой неравной борьбе, оставленный своими, гугенотский партизан принужден был скрываться. Предание говорило, что он жил несколько лет в гроте, где умер мучеником своей веры. Туземцы показывают еще и ныне этот грот, замечательный своей обширностью и великолепными сталактитами; он называется «Грот Варина», именем своего прежнего обитателя.
Но его потомки не простирали так далеко привязанности к своим религиозным убеждениям. Испугавшись строгих мер, принятых вследствие мятежа, они для вида отказались от своей веры, чтобы сохранить имущество и аристократические привилегии. Только уверяли, что это отречение не было искренно у многих между ними и что они остались протестантами в глубине сердца. Отец настоящего барона никогда не отличался усердием к католицизму, а сам барон слыл скептиком и насмешником. Он выказывал большое пристрастие к новым идеям и хвастался безверием, по тогдашней моде. Притом он вел жизнь сумасбродную, расточительную, роскошную, к великому ущербу его отцовского наследства, уже очень расстроенного, и подражал во всем той необдуманной знати, проступки которой приготовляли великую революцию.
Приор Бонавантюр давно знал барона Ларош-Буассо, охотничье искусство которого заставило короля сделать его начальником волчьей охоты в Жеводанской провинции. Они несколько раз встречались в собрании штатов, где приор отличался своим благоразумием и умеренностью, а барон – своим легкомыслием и задорливостью; из этого происходила неприязнь, еще увеличиваемая обстоятельствами, о которых мы узнаем скоро. Однако или приор забыл в эту минуту прошлые несогласия, или хотел только сохранить наружный вид, он встал, приметив барона, и вежливо ему поклонился. Леоне, из уважения к своему дяде, также поклонился, хотя с заметным отвращением.
Барон де Ларош-Буассо не обратил внимания на эти знаки уважения. Он стоял на пороге двери, нахмурив брови, со шляпой на голове. Без сомнения, он также узнал фронтенакского приора, но не рассудил за благо показать этого, и обернувшись к мадам Ришар, которая стояла позади него вне себя и дрожа, сказал ей грубо:
– Э! Черт побери! Красавица, я начинаю понимать ваше жеманство. Вы отдали мой завтрак этим бенедиктинцам!
Вдова рассыпалась в извинениях и сетованиях; слава богу, не в провизии у нее был недостаток! Можно еще было предложить барону стол достойный его. Только яичница с форелью, приготовленная для барона…
– Пришлась по вкусу этим добрым бенедиктинцам, – закончил Ларош-Буассо, – и вы отдали им предпочтение. Чудесно, моя прелестная хозяйка! Но если бы они были дворяне, а не обитатели монастыря, я мог бы помешать их пищеварению весьма неприятным для них образом, уверяю вас!
Эта угроза вызвала яркую краску на лице Леоне, но взгляда дяди было достаточно, чтобы заставить его тотчас опустить глаза. Приор Бонавантюр, до сих пор сидевший спокойно и с улыбкой, наконец, заговорил:
– Полноте, барон, – сказал он с несколько иронической вежливостью, – будьте снисходительны к этой женщине. Вам уже сказали, что яичница с форелью не одна составляла провизию в этом доме, и, если верить некоторым слухам, вам ничто не помешает сделать честь окорокам и холодной дичи, которых вам можно подать здесь в день поста.
Этот намек на тайное верование его фамилии, по-видимому, должен был бы довести до последней крайности раздражение барона, однако он с усилием сдержал свой гнев и, громко расхохотавшись, сказал хозяйке:
– Бедная Ришар, как вы сконфузились!.. Ну, чтобы об этом не было более речи. Я охотник и, следовательно, неразборчив в своих вкусах… Принесите мне что хотите, моя красавица, только бы мне недолго ждать, потому что я тороплюсь.
Трактирщица, обрадовавшись этому перевороту, убежала, объявив, что барону сейчас подадут завтрак. Он же, бросив на стул шляпу и хлыст, занял ту сторону стола, которая оставалась пустой, между тем как приор Бонавантюр и Леоне принялись заканчивать свой завтрак.
Глава третья
Наступила минута неловкого молчания. Очевидно, барон де Ларош-Буассо испытывал теперь сильное желание разговориться с приором и его племянником, но гордость мешала ему первому начать разговор. Со своей стороны, приор, угадывая это намерение, осторожно держался в оборонительном положении. Барон, скрестив ноги, начал барабанить по столу; наконец он спросил резким тоном:
– Надеюсь, преподобный отец, что вы не сердитесь на меня за мою запальчивость. Ничто так не располагает к досаде, как пустой желудок. Виновата во всем наша ветреная хозяйка, которая без всякого стыда отдала вам завтрак, приготовленный для меня.
Приор, внимательно очищая прекрасную грушу, отвечал, что он не знал этого обстоятельства, но что, во всяком случае, он настолько добрый христианин, чтобы извинить движение гнева.
– Я очень этому рад, преподобный отец, хотя между нами существуют некоторые другие причины к взаимному неудовольствию, и я был бы рад, если эта встреча доставит нам случай покончить со старой враждой… Какое ваше мнение на этот счет, господин приор?
Бонавантюр отвечал с прежней флегмой и прежним смирением, что он всегда готов сделать то, что согласуется с его обязанностью, для того чтобы заслужить благорасположение барона. Тот казался не очень доволен этими неопределенными и осторожными словами. Он отложил объяснение, которое собирался было начать, и рассеяно спросил:
– Конечно, вы едете в Меркоар к мадмуазель де Баржак?
– Туда, барон; а вы?
– Вы это знаете, вся страна это знает. Я, как храбрый паладин, еду истреблять чудовище, опустошающее земли прелестной владетельницы замка.
– А как вы думаете, барон, – спросил приор с заметным интересом, – сможете вы справиться с этим свирепым зверем?
– Я в этом уверен, – отвечал Ларош-Буассо с самоуверенностью охотника, – этот волк, по последним известиям, укрылся в Меркоарском лесу. Завтра он будет окружен, выгнан и убит непременно до вечера, можете положиться на это.
– Очень хорошо, но это будет завтра, а сегодня могут ли мирные путешественники, по вашему мнению, проехать лес безопасно?
На этот раз в словах приора проглядывал такой страх, что барон, может быть, не мог устоять от лукавого желания помучить его.
– Гм! – сказал он холодно. – Этот зверь колоссальной величины и неимоверно смелый… его надо остерегаться!
Приор тяжко вздохнул и взглянул на своего племянника, который остался спокоен. В эту минуту мадам Ришар вошла со своими служанками, которые несли завтрак барону; разговаривать сделалось невозможно. Но скоро Ларош-Буассо, как бы желая с нетерпением продолжить разговор, отпустил хозяйку и служанок, сухо уверив, что ему не нужно ничего. Приор, пугаясь все более, по мере того как приближался час отъезда, продолжал ласковым тоном:
– Так как мы также едем в Меркоар, барон, не можете ли вы оказать нам честь ехать вместе с вами? Ваша храбрость известна, притом ваши люди составляют ваш конвой. Позвольте же нам ехать вместе с вами, и, конечно, мадмуазель де Баржак, состоящая у нас под опекой, будет вам признательна за ваше одолжение.
Эта прямая просьба, казалось, стоила несколько усилий доброму приору; но барон не очень спешил принять предложение. Он сослался на необходимость путешествовать очень скоро, потому что в этот же вечер он должен заняться разными распоряжениями для завтрашней охоты.
– Лошаки наши недурны, – возразил приор, тайные опасения которого раздражило препятствие, – и ваши лошади не могут идти скорее по ужасным дорогам в горах. Право, барон, великодушно ли с вашей стороны отказывать нам в одолжении, которое так мало будет вам стоить?
Ларош-Буассо улыбнулся со странным видом, потом выпил разом несколько стаканов вина и, подкрепившись без сомнения благородным напитком, сказал более открытым тоном;
– Может быть, я буду готов служить вам, господин приор, но, по крайней мере, надо мне знать сперва, друзья вы мне или враги.
– Ваши враги, барон? У вас нет врагов между фронтенакскими братьями.
– Но есть ли там у меня друзья – это другой вопрос, не правда ли, достойный приор?.. Будем откровенны, и если случай или, пожалуй, по – вашему Провидение, свело нас здесь, сумеем воспользоваться оба этим благоприятным обстоятельством. Я думаю, – продолжал Ларош-Буассо, обернувшись к Леоне, – что я могу свободно говорить перед этим молодым человеком.
– Это мой племянник, – поспешно отвечал бенедиктинец, – это мой секретарь, мой поверенный, мой alter ego.
– Прекрасно. Впрочем, я не имею привычки делать таинственными мои намерения… Послушайте и будьте откровенны со мной. Вы не забыли, преподобный отец, мои законные неудовольствия вашим аббатством, особенно вами, как главой монастыря, пользующегося полной властью?
– Мною, барон?
– Не прерывайте меня, пожалуйста… Эти неприятности уже давнишние и перешли ко мне от моей фамилии. Я знаю, что на меня смотрят как на ветреника, думающего только 6 том, как вести веселую жизнь. Воображают, будто я неспособен размышлять; полагают, что я равнодушен к интересам и достоинству моего имени. Скоро, может быть, приметят, что это вовсе не справедливо; как бы ни велики были препятствия, я сумею их разрушить, если будут иметь неблагоразумие вывести меня из терпения!
Говоря, таким образом, он нахмурил брови и грозно сжал кулаки; но Бонавантюр оставался бесстрастен. Барон продолжал более спокойным тоном:
– Если вы хотите, преподобный отец, мы начнем с событий, случившихся уже восемнадцать лет тому назад. Отец мой был жив тогда, так же как и дядя мой, граф де Варина, владелец великолепного поместья, имя которого он носил. Я должен признаться, что между моим отцом, бароном де Ларош-Буассо, и старшим братом его, графом де Варина, никогда не существовало большого сочувствия. Отец мой был, как я, веселый дворянин, не очень сберегавший свое состояние, любивший удовольствия и хороший стол. Варина, напротив, имел мрачный характер, болезненный темперамент; особенно в последнее время своей жизни он сделался скрягой и ханжой. После смерти своей жены, вместо того чтобы жить в своем поместье, он проводил все время в Фронтенакском аббатстве, где, как говорят, вы, мой преподобный отец, тогда еще простой монах, имели большое влияние на его ослабевший ум. Однако отношения братьев никогда не были неприязненными; при всяком случае они выказывали друг другу уважение, которое близкие родственники в благородном семействе обязаны иметь один к другому. В это время ни отец мой, ни я не могли предполагать, чтобы нам когда-нибудь могло достаться наследство графа. У него был четырехлетний сын, которого звали кавалер де Варина, и который должен был после него наследовать его имя и поместье. Но этот ребенок умер, и менее чем через полгода после того сам граф скончался в Фронтенакском аббатстве. Узнав об этом печальном событии, отец мой, несмотря на холодность, существовавшую между ним и его братом, сильно почувствовал этот удар и поспешил в аббатство отдать графу последний долг. Потом он хотел предъявить свои права на фамильное имение, достававшееся ему как ближайшему родственницу и законному наследнику покойного графа. Но каково было его негодование, когда ему показали завещание, по которому дядя отдавал Фронтенакскому аббатству свои земли и свои замки! Это была возмутительная несправедливость; очевидно, в этом поступке были обман и хитрость. Воспользовались слабостью ума графа при его последних минутах, чтобы ограбить его родных, употребили лукавство и насилие, может быть, чтобы вырвать у него этот безумный поступок. Отец мой, бывший характера горячего и вспыльчивого, рассердился, очень грубо обошелся с вашим аббатом и капитулом, потом уехал из Фронтенака, клянясь, что обратится к правосудию. Действительно, он затеял процесс перед бордоским парламентом, чтобы добиться уничтожения этого нелепого завещания, но тут-то выказалось высокое влияние, которым пользовались ваши бенедиктинцы в вашей провинции. Дело аббата фронтенакского сделалось делом всего духовенства; знатные духовные особы, даже епископы, заступились за него. Против нас подняли старинное обвинение в протестантстве, которое появляется каждый раз, как мы хотим предъявить наши права. Вы в особенности, преподобный отец, если я хорошо помню, потому что тогда я был очень молод, были самым деятельным, самым умным агентом в процессе вашего аббата; благодаря вашим усилиям, просьбе моего отца было отказано, он был осужден на уплату значительных издержек, а монастырь оставили во владении нашим фамильным имением. Скажите, преподобный отец, происшествия, кратко пересказанные мной, не строго ли справедливы?
Глухая ненависть, злобные намеки, заключавшиеся в этом рассказе, ни в чем не изменили ясности приора; он слушал спокойно, скрестив руки на груди и с улыбкой на губах.
– Факты, если не оценка их, совершено верны, барон, – отвечал он, – не буду отрицать даже, что я лично участвовал в проигрыше процесса барона де Ларош-Буассо, вашего отца, и если поступил дурно, я отдам в этом отчет Богу и моей совести. Только вы забыли упомянуть о небольшом обстоятельстве, которое может совершенно изменить сущность вопроса. Дарственная запись, сделанная нашему преподобнейшему аббату покойным вашим дядей благочестивой памяти, неокончательна; она считается только временным залогом. Приписка к духовному завещанию графа де Варина сохраняется в архиве нашего монастыря, и по непременной воле завещателя приписка эта будет раскрыта после назначенного срока, который наступает через несколько месяцев. Итак, через несколько месяцев сделается известна настоящая воля вашего родственника; до тех пор вы не должны обвинять его память. С другой стороны, мы никогда не считали принадлежащим нам имение Варина: мы только управляли им благоразумно и возвратим его кому следует в тот день, когда окончательное завещание предпишет нам наш долг.
– Эта приписка – только недостойная хитрость! – запальчиво вскричал барон. – Я знаю, что она не изменит смысла первого завещания. Я угадал, отец приор, ловкие проделки, по которым ваша община хочет присвоить себе спокойное пользование поместьем Варина. Боясь, без сомнения, чтобы прямая и дарственная запись на это богатое поместье не возбудила общего негодования, вы постарались придать общую форму, чтобы избегнуть гнусности подобного завещания, сделанного в ущерб законным наследникам. Вы думали, что приличнее выиграть время, чтобы мало-помалу приучить общее мнение к этому оскорбительному грабежу. Пока эта приписка не доставит вам вполне владение имением моего дяди, вы притворно говорите, что только храните его как залог, и почти уже шестнадцать лет никто не мешал вашему насильственному завладению. Вы надеетесь, что после этой продолжительной отсрочки все забудут ваше виновное завладение, и вы будете в состоянии без шума, спокойно, окончательно прибавить наше наследство к обширным владениям вашего аббатства. Но, может быть, этого не будет, господин приор; не скрываю, что я возвращусь к этому прежнему делу, как только представится случай. Отец мой умер, разоренный вашими интригами и ябедами, но я еще существую и сумею потребовать прав моей фамилии. Настанет минута, когда приписка к завещанию будет распечатана, и, если она удовлетворит вашим хитростям, вы можете быть уверены, что я не останусь праздным. Времена переменились за шестнадцать лет; век идет вперед, католическое духовенство не имеет уже прежнего неограниченного владычества. Поговаривают, что из Франции прогонят самую богатую, самую могущественную из религиозных корпораций – иезуитскую. По милости философии и успехов просвещения ветер начинает обращаться против вас. Берегитесь же; на этот раз вашего кредита, может быть, не будет достаточно, чтобы дать восторжествовать беззаконию.
Ларош-Буассо выражался с чрезвычайной пылкостью; сам Леоне казался даже поражен законностью его жалоб. Молодой человек, облокотясь о стол, смотрел на дядю с видом болезненного удивления, как будто его честная душа не могла поверить недостойным поступкам, в которых обвиняли фронтенакскую общину, и ожидал оправдания, но приор Бонавантюр продолжал оставаться бесстрастным; он улыбался, поправляя белой и полной рукою складки своей бенедиктинской рясы.
– Вам недолго придется ждать случая, который вы ищете, барон. Я уже вам говорил, что время, назначенное для оформления приписки к духовному завещанию вашего дяди, скоро настанет. Вы будете действовать тогда по внушениям ваших интересов и вашей вражды, а аббатство Фронтенакское заставит уважать, без боязни и без слабости, волю графа Варина, какова бы она ни была.
Уверенность приора была искренна и естественна; барон, без сомнения, несколько оробел, потому что продолжал гораздо тише:
– Не будем заходить слишком далеко, преподобный отец; я надеюсь еще, что не дойду до этих крайностей. Моя единственная цель, когда я пробудил воспоминание об этом старом споре, состояла в том, чтобы показать несправедливости, от которых я пострадал, и права, которые я могу иметь на вознаграждение со стороны вашей общины. Если это вознаграждение будет мне дано, я торжественно обязуюсь не мешать более аббатству владеть поместьем Варина.
– Вознаграждение, барон? Я вас не понимаю.
– Я думаю, напротив, что вы понимаете меня очень хорошо, преподобный отец; но слушайте. Вследствие процесса, который мы поддерживали против вашего аббатства, мое состояние – это всем известно – значительно расстроено. Земли мои заложены, доходы уступлены отчасти, и без пособий, может быть корыстных, Легри, моего поверенного, мне было бы очень трудно достойно носить мое имя. А я вижу только два способа избавиться от этого тягостного положения: или я воспользуюсь обстоятельствами, чтобы потребовать, во что бы то ни стало, поместье Варина, которое у меня отняли, или поправлю мое состояние выгодным супружеством. Этому-то последнему намерению буду я вас просить, преподобный отец, способствовать… Понимаете ли вы меня, наконец?
– Нет еще, барон.
– Обыкновенно вы выказываете более проницательности, – возразил Ларош-Буассо сухо, – но я объяснюсь очень ясно. Ваше аббатство, так охотно принимающее богатые наследства, показывает также особенное пристрастие к богатым наследницам. У вас теперь под опекой одна богатая девица, о которой вы заботитесь с ревнивым попечением. Вы окружили ее шпионами, вы подсматриваете за самыми невинными ее поступками, вы пугаетесь всех приближающихся к ней. Я не могу разобрать цели интриг, которыми окружают Кристину де Баржак, но не думаю, однако, что из нее не замышляют сделать монахиню, чтобы наградить ее богатым поместьем какой-нибудь женский монастырь.
Бенедиктинец несколько уже минут, казалось, переносил не так терпеливо довольно оскорбительные выражения барона; легкий румянец покрыл его щеки.
– Господин барон, – отвечал он слегка дрожащим голосом, – несмотря на мое желание оставаться в границах умеренности, я не могу сносить долее ваших оскорбительных предположений против святой обители, которой я служу. Итак, если этот разговор должен продолжиться, прошу вас говорить с меньшей колкостью и с большей справедливостью. Фронтенакский аббат и капитул никогда не имели в мыслях обречь мадмуазель де Баржак монастырской жизни, и они будут упорствовать в этом намерении, если только их питомица сама не выкажет положительного, настойчивого признания, что невероятно. Вы знаете – в самом деле, ведь вы знакомы с ней, – как нам трудно надзирать за этой самовольной, неукротимой молодой девушкой, непослушной никаким советам. Мендские урсулинки пробовали показывать ей первые правила учения, но успехи ее были посредственны, и она вышла из этого монастыря через два года, почти сведя с ума бедных сестер своим непослушанием и непомерной живостью. После ее возвращения в замок Меркоар мы поместили возле нее доброго и честного дворянина и старую монахиню, терпение, преданность и высокая добродетель которой известны нам давно. И тот и другая писали нам уже более двадцати раз, упрашивая снять с них данное им поручение. Вы видите, барон, что девушке такого характера мы не можем предписывать нашу волю. Если мадмуазель де Баржак намерена остаться в свете и выйти замуж, мы и не подумаем противоречить ее выбору… если только он не будет недостоин ее и благородного дома, из которого она произошла.
– Правда ли это? – вскричал Ларош-Буассо с живостью. – Неужели вы не будете сопротивляться, если жених не будет иметь несчастья не понравиться вам и другим сановникам вашего аббатства? Положим, что я возымел бы мысль усмирить эту маленькую львицу, что я успел бы произвести на нее благоприятное впечатление, решился бы на ней жениться, несмотря на ее свирепый нрав, отвечайте мне откровенно: в таком случае не старались бы вы помешать всеми средствами подобному браку?
Этот прямой вопрос, казалось, очень смутил приора; сам Леоне с беспокойством ожидал его ответа.
– Как, барон, – спросил Бонавантюр, – неужели вы привлекли к себе особенное внимание мадмуазель де Баржак? Благородная девица была до сих пор непреклонна ко всем, кто осмелился ухаживать за ней…
– Она, без сомнения, была бы такой же и для меня, если б я сделал ошибку и осыпал ее теми сентиментальными фразами, которых она терпеть не может. Нет, я никогда не говорил ей ни одного слова о любви; но в тех случаях, когда моя охота приводила меня в Меркоар, мадмуазель де Баржак находила более удовольствия в моем обществе, нежели с другими дворянами округа. Это, без сомнения, не много, но со стороны молодой девушки столь не похожей на обыкновенный тип, это может подать некоторую надежду. Поэтому, если б я не был уверен, что моим планам будут идти наперекор, я не потерял бы мужества. Умоляю вас сказать мне, что я должен думать; еще раз, друзья вы мне или враги?
– Я опять буду отвечать вам, что фронтенакские бенедиктинцы не враги никому. Не предписывается ли нам любовь к ближнему, даже к тем, кто мог бы оскорбить нас?
– Вы не увернетесь от меня таким образом, господин приор… Будете ли вы, например, отпираться, что ваше путешествие не имеет главной целью уничтожить мои успехи заслужить привязанность мадмуазель де Баржак? Не узнали ли вы о предпочтении, которое оказывает мне ваша питомица, и, узнав о моем скором прибытии в замок Меркоар, не отправились ли вы немедленно в дорогу, как советник и настоящий глава вашей общины, для того, чтобы расстроить вашим присутствием все мои попытки? Несмотря на вашу хитрость, несколько мирскую, преподобный отец, я доверяю вашей искренности; отвечайте мне просто: нет, и я поверю вам, не колеблясь.
Побуждаемый таким образом, Бонавантюр не мог уже уклониться от ответа.
– Не отпираюсь, – отвечал он, – что мое присутствие в Меркоаре показалось необходимым для того, чтобы остановить притязания женихов, которых богатство и красота мадмуазель де Баржак притягивают к ней беспрестанно. Мы исполняем отеческий долг к этой молодой девушке; можем ли мы оставить ее без покровительства и советов среди шумного общества, которое соберется в ее собственном доме?
– Очень хорошо, – сказал барон сухим тоном вставая, – вот, наконец, вы высказались, преподобный отец. Итак, вы неблагоприятно смотрите на мои угождения вашей питомице и всеми силами будете сопротивляться моим намерениям?
– Я имел уже честь уверить вас, барон де Ларош-Буассо, что мадмуазель де Баржак останется совершенно свободной в своем выборе. Но фронтенакские бенедиктинцы, без всякого сомнения, воспользуются правом, принадлежащим им, подавать советы и делать увещевания.
– Все лучше и лучше! – перебил барон с иронией, прохаживаясь большими шагами и бренча своими серебряными шпорами. – К несчастью для вас, преподобный отец, уверяют, что ваши увещевания не очень слушает эта непослушная девушка. Не скажете ли вы мне, по крайней мере, причину предубеждения вашего против меня?
– Э, барон! – вскричал Бонавантюр, выведенный из терпения этой настойчивостью. – Нужно ли отыскивать другие причины, кроме вашей беспорядочной жизни, вашего расстроенного состояния и в особенности вашей тайной привязанности к протестантской ереси?
– Мое разорение – дело ваших рук, – с энергией возразил Ларош-Буассо, – жизнь моя такова, как жизнь всех дворян, чувствующих свое благородство. Что же касается до того старого обвинения в протестантстве, которое беспрестанно бросают мне в лицо, как когда-то бросали в лицо предкам моим и набожного католика графа де Варина, я мог бы спросить, на чем оно основано; но положим, что оно и справедливо; не лучше ли, преподобный отец, оставаться протестантом в глубине сердца, чем не иметь никакой религии, как множество других?
– И не с вами ли это точно так же, барон? – строго сказал бенедиктинец. – Уверяют, что та и другая церковь… Но перестанем говорить об этом, – остановил он сам себя с усилием, – я не должен изведывать совесть без особенного на то приглашения. Бог будет судить всех нас!
Опять замолчали; барон продолжал прохаживаться по комнате; наконец он снова остановился перед приором.
– Итак, вы не принимаете способа, которым я предлагал вам загладить вопиющую несправедливость? – спросил он со сдержанным гневом. – Я желал загладить прошлое и заключить с вами мир, залогом которого была бы мадмуазель де Баржак; вы предпочитаете войну; итак, я буду вести ее с вами – горячую, ожесточенную, клянусь вам… Для начала объявляю вам: я женюсь на вашей питомице назло вам!
Приор отвечал улыбкой на этот вызов. Но Леоне, до сих пор безмолвный, если не равнодушный свидетель этого объяснения, вскричал, вставая, как будто повиновался непреодолимому чувству:
– Как! Барон, вы уверены, что мадмуазель де Баржак вас любит?
Ларош-Буассо вдруг обернулся. Сам приор казался изумлен, но не раздражен смелостью своего племянника.
– Что с вами сделалось, дружок? – спросил барон, насмешливо окидывая глазами юношу с ног до головы. – Разве этими делами занимаются в обителях? Эти вещи вы и знать не должны; лучше прочитайте ваш служебник, и, без сомнения, господин приор наложит на вас наказание за то, что вы без позволения вмешались в мирской разговор.
– Милостивый государь, – возразил Леоне, – я не принадлежу к духовному званию; я такой же мирянин, как и вы, и не допущу…
Он замолчал, как бы испугавшись своей смелости.
– Чего вы не допустите, мой милый юноша? – спросил Ларош-Буассо с оскорбительной иронией. – Чтобы мадмуазель де Баржак выказала предпочтение ко мне? Я не вижу, в чем это обстоятельство может вас касаться, и каким образом вы можете его не допустить.
– Это не то, – пролепетал Леоне, в котором гнев боролся с замешательством, – я хочу сказать, что оскорбительные выражения, в которых вы относились о моем почтенном дяде и об уважаемых фронтенакских бенедиктинцах…
– А! а! Мое прелестное дитя, вы намерены сделаться защитником этих бенедиктинцев и потребовать от меня удовлетворения за мое суждение о них? Это прекрасно, потому что я не расположен отказываться от моих слов и раскаиваться… Я скажу даже всем и каждому, что фронтенакские бенедиктинцы, без всякого исключения, лицемеры, интриганы, жадные, что они отняли у меня мое наследство и что надеются, без сомнения, употребить свою невинную питомицу как орудие для приобретения новых богатств, нового влияния. Но я буду бодрствовать, я сумею расстроить их тайные проделки. Я люблю мадмуазель де Баржак и, может быть, любим ею; мы увидим, кто осмелится пойти наперекор моим намерениям!..
– Вы любите ее? – вскричал Леоне со сверкающими глазами – Вы ее любите, когда сердце у вас обветшало, а душа поблекла…
– Я вижу, мой добрый молодой человек, что вам внушили ужас к таким мирянам, как я; к счастью, от правил до примера далеко!.. Да говори, кто что хочет – я люблю эту гордую и мужественную девушку. Это женщина необыкновенная, я нахожу в ней особенную привлекательность… Но, черт побери! – перебил он презрительно. – Вам какое дело до этого? Да и сам я не знаю, зачем отвечаю на нескромные вопросы ребенка с горячей головой!
– Милостивый государь! – закричал Леоне угрожающим тоном. – Я не могу сносить долее ваших дерзостей и…
– Ну, что же вы сделаете, мой храбрый рыцарь? – отвечал Ларош-Буассо, громко расхохотавшись. – Вызовете меня на дуэль? Вот было бы мило! К вашим услугам! Ну, обнажайте шпагу… я готов принять вас…
Он стал в позицию и делал вид, будто парирует своим хлыстом мнимые удары.
– Как! Вы не подходите? – продолжал он, все смеясь. – Но, прости Господи, вы, кажется, забыли вашу рапиру, пылкий рыцарь ризницы!.. Куда же девалась ваша рапира?
– Я могу, по крайней мере, сражаться с вами тем оружием, которое вы выбрали сами! – вскричал Леоне вне себя.
Он схватил свой хлыст, лежавший на стуле, и побежал с поднятой рукой к барону.
Во время этого жаркого спора приор сохранял совершенно необъяснимое спокойствие, точно хотел изучить, до чего дойдет законное негодование Леоне, измерить степень мужества и энергии этого молодого человека, которого он видел с детства столь кротким и тихим. Может быть, это исследование давало не совсем неблагоприятный результат, потому что Бонавантюр улыбался при каждом возражении своего юного сподвижника; однако, когда он увидел, что оба противника готовы начать драку, он бросился между ними с живостью, вовсе ему несвойственной, закричав:
– Полно, Леоне! Разве вы забыли уже наши уроки или вы принимаете нравы и свирепые страсти модных дуэлянтов? Разве рассудок и религия позволяют подобные распри? А вы, барон, – обратился он к Ларош-Буассо, стоявшему в оборонительном положении, – неужели вы, не краснея позволяете себе вызывать на дуэль безвредного юношу?
С первых слов дяди Леоне, стыдясь своей запальчивости, выронил хлыст и воротился на свое место. С унынием закрыл он лицо обеими руками и ничего не отвечал. Барон, со своей стороны, изменился в лице и продолжал небрежным тоном:
– Кой черт! Вы правы на этот раз, господин приор, я должен был бы принять с презрением оскорбление вашего племянника! Однако, – прибавил он с презрительным превосходством, – молодой человек пылок; может быть, им нелегко будет управлять, когда у него покажется борода… но оставим это; время проходит, я должен отправиться в путь… Так как вы отвергли мое предложение примириться, каждый из нас будет действовать по-своему, и победа останется за более сильным или более хитрым.
Он растворил дверь кухни и закричал:





