Жеводанский зверь Теплинская Радомира
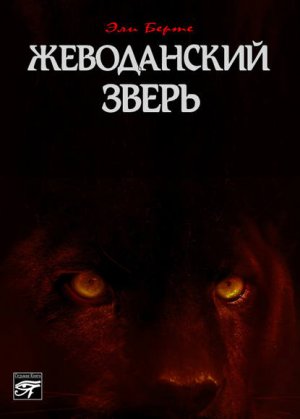
– На лошадей, мои люди… все на лошадей!
В первой комнате началась большая суматоха, как будто спешили повиноваться приказаниям господина.
– Итак, барон, – спросил приор со смирением, вовсе не похожим на выказанную им твердость, – вы не позволите нам воспользоваться вашим конвоем, чтобы благополучно доехать до Меркоара? Несмотря на несогласия, существующие между нами, я не сомневаюсь, что вы впоследствии очень бы огорчились, если бы какое-нибудь несчастье…
– Вы меня предполагаете слишком великодушным или слишком сострадательным, – возразил Ларош-Буассо насмешливым тоном. – Ей-богу! Если зверь вас растерзает, как вы думаете, дурную услугу окажет он мне? Из всего Фронтенакского аббатства вы один способны расстроить мои планы. Я должен всего бояться из-за вашей проницательности, вашей бдительности, вашей неутомимой деятельности. Поэтому не стану же я сам пренебрегать благоприятной возможностью, представляющейся мне. Мы ведем войну, господин приор, и все способы хороши, чтобы получить победу… Притом, – прибавил он, взглянув на Леоне, погруженного в свои мысли, – разве у вас нет неустрашимого защитника, очень способного справиться со знаменитым жеводанским зверем? Он защитит вас, и его пылкое мужество может еще лучше устремиться против волка, чем против дворянина… Сегодня вечером мы встретимся в замке Меркоар, куда вы приедете здравыми и невредимыми… чего я вам желаю. Итак, прощайте!
Он надел шляпу и вышел, насвистывая охотничью арию. Чрез несколько минут послышался топот удалявшихся лошадей.
Приор Бонавантюр, подстрекаемый опасением запоздать в опасном лесу, который он должен был проезжать, поспешил также спросить своих лошаков; он надеялся следовать за бароном издали и таким образом находиться под его защитой вопреки его воле. Но такое множество путешественников произвело суматоху в доме, и лошаки не были готовы, потом надо было выслушать горячую признательность мадам Ришар за честь, которой приор удостоил её, остановившись у нее, и ее сетования о ссоре ее с Ларош-Буассо, который рассердился на нее и уехал, не подумав расплатиться, о чем, впрочем, прекрасная вдовушка заботилась мало. Много времени было потеряно таким образом, когда Бонавантюр и Леоне выехали, наконец, из Лангони среди поклонов и коленопреклонений жителей городка; они не видели уже ни барона, ни его людей так далеко, как только могло простираться зрение.
Глава четвертая
Прошел уже целый час, как фронтенакский приор и племянник его выехали из Ленгони, и кроме довольно затруднительной дороги, ничто не возмутило их путешествия. Они не видели, правда, несмотря на все свое внимание, всадников, уехавших прежде них, но слышали иногда звуки труб в отдалении, и редкие прохожие, с которыми они встречались, уверяли их, что охотники не более как за четверть лье впереди. Приор беспрестанно понукал своего лошака, надеясь при каждом повороте дороги приметить, наконец, блестящие костюмы барона и его егерей. Леоне машинально подражал ему; но эти подстрекания не производили большого действия на упрямых животных, так что, по всей вероятности, расстояние не уменьшалось, а увеличивалось беспрестанно между двумя путешественниками и всадниками, ехавшими на прытких лошадях.
После многих поворотов путешественники доехали до высокой известковой площадки, обширного невозделанного пространства, окруженного высокими горами. Долина эта была безлюдна, обнажена, лишена зелени, там и сям только несколько каштановых деревьев, полуразбитых грозой, сила которой ужасна в этих местах, разнообразили своими желтеющими листьями однообразие серой почвы. Площадка кончалась лесистым ущельем, через которое проходила дорога; но хотя она имела добрых полмили пространства, и ничто не могло стеснять взора, охотников не было видно.
Впрочем, дорога не представляла никаких затруднений; гладкая открытая почва, даже без кустарника, не могла заставить бояться внезапного нападения хищных зверей. Притом глубокая тишина царствовала в этом огромном цирке; погода была прекрасная, и солнце, бывшее еще высоко над горизонтом, подавало надежду, что лес можно проехать до ночи. Приор, казалось, наконец, терпеливо начал переносить свое положение; он перестал мучить своего лошака, запыхавшегося не от своего повиновения, а от сопротивления подстреканиям своего всадника, и знаком подозвал Леоне к себе.
С тех пор, как выехали из города, молодой человек не произнес ни слова; наклонив голову на грудь, он казался погружен в свои размышления. Однако он поспешил повиноваться и поехал рядом с приором, что позволяла теперь ширина дороги.
– Я думаю, дитя мое, – сказал приор, – что нам не надо стараться догнать этого гордого дворянина… Может быть, нам надо было бы взять в Лангони провожатых, но мы уехали так скоро… Впрочем, мы теперь только в двух лье от замка; остается час езды. Но дорога пойдет гораздо хуже в Манадьере.
И он с озабоченным видом указал на ущелье, оканчивавшее долину.
Леоне отвечал рассеянным знаком. Имея характер кроткий и общительный, он был воспитан в большой недоверчивости к самому себе и в глубочайшем уважении к тем, кто имел над нам власть. Обыкновенно сдержанный и молчаливый, он не заговаривал сам, а ожидал, чтобы его спросили. Однако его молчаливость после сцены в гостинице сделалась так упорна, что приор начал удивляться.
– Что с вами, милый Леоне? – спросил он дружеским тоном, между тем как оба лошака шли рядом. – Не больны ли вы или, может быть, также боитесь этого проклятого зверя, от которого, да сохранит нас Бог!
– Ни то ни другое, дядюшка; я только думал…
– О чем же, дитя мое?
– Ни о чем, мой преподобный отец.
И прекрасный юноша глубоко вздохнул. Бонавантюр наблюдал за ним украдкой.
– Леоне, – сказал он с важностью, – я должен и похвалить вас, и побранить: похвалить за благородный энтузиазм, с котором вы заступились за меня и за ваших покровителей, фронтенакских бенедиктинцев; побранить за то, что вы увлеклись запальчивостью до такой степени, что вызвали на дуэль дворянина, вина которого не может извинить вашей.
– Как? – спросил Леоне с дурно сдерживаемым нетерпением. – Неужели надо было холодно перенести дерзкие слова Ларош-Буассо? Неужели надо было молча выслушать его хвастовскую клевету о мадмуазель де Баржак?
– Какое вам дело до мадмуазель де Баржак, мой милый?
Леоне наклонился вперед, как бы для того, чтобы подтянуть подпругу, но на самом деле – чтобы скрыть краску своих щек.
– Дядюшка, – пролепетал он, – я думал… мадмуазель де Баржак находится под опекой аббатства, вашей; мы получим гостеприимство в ее доме, неужели же я должен был позволить говорить о ней с таким оскорбительным легкомыслием? Но признаюсь, – прибавил он, одушевляясь, – каждое слово этого гнусного барона действовало на мой мозг, как пары опьяняющего напитка. Не знаю, какие-то неизвестные инстинкты открывались во мне; я чувствовал непреодолимое желание броситься на него и ударить его в лицо… Если б у меня была шпага, я напал бы на него тотчас, несмотря на ваше присутствие; но у меня не было шпаги, я не дворянин, я только смиренный и мирный воспитанник фронтенакских бенедиктинцев и должен был проглотить обиду…
Леоне, дав волю долго сдерживаемому волнению, пролил обильные слезы. Приор казался не очень удивлен этим внезапным умилением; он, может быть, знал лучше самого племянника, что происходило в этой наивной душе. Однако он продолжал со смесью кротости и строгости:
– Как, Леоне, вы плачете? Этого ли должен я ожидать от молодого человека, столь благоразумного и твердого в своей вере, от моего возлюбленного воспитанника, от сына моей сестры? Откуда происходят эти безумные страсти, так вдруг обнаружившиеся? Не говорил ли я вам сто раз, Леоне, что разумные существа, созданные по образу и подобию Божию, не должны никогда прибегать ни к силе, ни к насилию – оружию зверей? Христианин должен обращаться к уму, к убеждению; не подражайте в этом буйной молодежи нашего времени, и в особенности таким развратникам, каков этот барон де Ларош-Буассо, всегда готовый противопоставить свою шпагу рассудку, истине и справедливости. Если впоследствии, что, впрочем, невозможно, вы будете иметь преимущества звания и богатства, которые цените так высоко, вспомните, что гнев и ненависть – пороки постыдные, недостойные вас.
Леоне отер глаза.
– Простите мне, дядюшка, этот припадок слабости, – сказал он, придавая твердость своему голосу, – я и сам не могу понять, как я мог увлечься… Но так как мы заговорили о моем положении в свете, позвольте мне, наконец, попросить объяснений, о которых уважение мне мешало расспрашивать до сих пор и которые, однако, каждый час становятся необходимее для моего спокойствия.
– Минута довольно дурно выбрана для объяснения, – сказал бенедиктинец, осматриваясь вокруг, – если, однако, у вас есть что-нибудь на сердце, дитя мое, не медлите более рассказать мне об этом.
– Может быть, мой добрый дядюшка, я должен был бы ранее открыть вам состояние моей души, вам, моему наставнику и лучшему другу. С некоторого времени мрачная грусть овладела мной; мечты честолюбия, удовольствия и мирской славы преследуют меня день и ночь. Это беспокойство ума, которое иногда становится истинной тоской, имеет, без сомнения, причиной глубокую неизвестность, в которой я нахожусь относительно ожидающей меня будущности. Мысль моя блуждает в пустоте и заблуждается за недостатком проложенного пути… Выслушайте же меня, мой возлюбленный родственник, и умоляю вас, не отвергайте просьбы, с которой я обращусь к вам, Я рано лишился отца и матери, которых никогда не знал; но ни в самых заботливых попечениях, ни в самой снисходительной нежности у меня не было недостатка. Да благословит вас Бог, достойный мой дядюшка, за неизменную привязанность, которую вы оказывали бедному сироте! Вы приняли меня в ваше мирное монастырское убежище, вы образовали мое сердце и мой ум, вы учили меня и словом и примером. Каждый из добрейших фронтенакских бенедиктинцев, ваших друзей и братьев, помогал вам в этом благотворительном призвании; самые ученые и самые благоразумные старались передать мне их науку и благоразумие. Поэтому я всех вас включил в общие чувства уважения и признательности; я считаю себя вашим сыном и спрашиваю себя, буду ли иметь когда-нибудь силы оставить вас. Однако, преподобный отец, с некоторого времени, или случайно, или умышленно, вы как будто употребляете все ваши усилия, чтобы отдалить меня от монастыря, где прошла моя юность; вы прерываете мои занятия, вы не пренебрегаете никаким случаем ввести меня в свет. Вот сегодня, например, вы требуете, чтобы я присутствовал при шумных и бурных сценах большой охоты… Эти требования, эти новые идеи и новые инстинкты, пробуждаемые ими, причина того нравственного расстройства, в котором вы меня видите. Против моей воли меня увлекают пылкие движения, как вы видели сейчас, с бароном де Ларош-Буассо, и энергия их пугает меня самого… От вас зависит положить конец этим безумным увлечениям. Если действительно я должен отказаться от света, я уверен, что преодолею их с вашими советами и вашими поощрениями. Умоляю вас, мой добрый дядюшка и преподобный отец, позвольте мне воротиться в аббатство как можно скорее, надеть одежду послушника и постричься после обыкновенного искуса; я желаю жить там и умереть посреди друзей, которые были и будут всегда для меня дороги.
Бонавантюр ожидал, без сомнения, этого предложения, потому что не обнаружил никакого удивления, зато многочисленные морщины собрались на его широком и плешивом лбу.
– Леоне, – спросил он с задумчивым видом, – хорошо ли вы обдумали? Искренне ли это призвание к монастырской жизни?
– Я… я так думаю.
– А я читаю в вашей душе, как в открытой книге, и уверен в противном. Эти пылкие движения, о которых вы мне говорите, ясно доказывают, что вы родились не для монастыря. Неужели вы думаете, что под монастырским одеянием эта гордая душа, эта кипучая кровь, эти раздражительные нервы вдруг успокоятся? Нет, эта одежда будет сжигать вас, как одежда Несусса… Притом, сын мой, причины, которые вы узнаете после, запрещают вам монастырскую жизнь.
– Что вы говорите, дядюшка? – вскричал Леоне вне себя от удивления, – неужели мне будет отказано в утешении, обещанном всем уязвленным душам?..
– Но ваша душа не уязвлена, а если б и так, то рана не может быть серьезна в ваши лета. Не расспрашивайте меня; но вы не можете и думать о пострижении – ни в Фронтенаке, ни в каком-либо другом монастыре… по крайней мере, до тех пор, пока обстоятельства не переменятся, и вы не поймете сами хорошенько важность подобной жертвы.
Леоне был в смущении.
– Отец мой, – возразил он, – я терпеливо буду ждать, когда вы заблагорассудите объяснить мне этот странный отказ; но если вы отвергнете меня из монастыря, тогда, боже мой! какова будет моя участь? Я всегда думал, видя, с каким старанием вы предостерегали меня против волнений и бурь светской жизни, что ваше тайное желание было внушить мне отвращение к ней…
– Если так, дитя мое, преподобные фронтенакские отцы и я перешли за цель, которой мы хотели достигнуть. Нашим единственным желанием было сделать из вас человека образованного, гордого, честного христианина, который был бы образцом в обществе… Но, Леоне, – прибавил бенедиктинец с оттенком строгости, – я проник истинную причину этого мнимого призвания, так внезапно явившегося в вас. Она происходит из оскорбленной гордости, от подавленного честолюбия… Вы начинаете усматривать блистательную сцену света и, как все молодые люди, чувствуете потребность играть там значительную роль, приобрести славу, исчерпать все его радости. А посреди всех этих стремлений вас поражает ваше бессилие, ваше смирение; вы говорите себе, что пути, ведущие к высокому общественному положению, закрыты перед вами, бедным плебеем, племянником простого монаха… Отвечайте откровенно, Леоне, правда ли это?
– Любезный дядюшка, можете ли вы думать…
– Может быть, есть еще другие причины, – отвечал приор, бросив на него один из тех взглядов, которые как будто доходили да глубины души молодого человека, – но причина, объясненная мною, самая главная, самая неоспоримая. Ну, Леоне, я не хотел бы подать вам безумные надежды, но знайте, что будущность хранит для вас довольно выгод для удовлетворения умеренного честолюбия. Имейте доверие к самому себе и идите смело вперед, опираясь на рассудок и правосудие… Бог сделает остальное!
Так как эти слова, несмотря на сдержанность, сопровождавшую их, могли сделать слишком сильное впечатление на его племянника, приор прибавил:
– Еще раз, Леоне: не позволяйте вашим мыслям неблагоразумно стремиться за нелепыми химерами и старайтесь хорошенько понять меня… Я умер для света, и мне нечего более искать на земле. Но вы мой воспитанник, мой друг, мой приемный сын; вы росли на моих глазах; я сам развил в вас ваши добрые наклонности; я знаю, сколько заключается в вашем сердце добродетели среди несовершенства нашей человеческой натуры. Честолюбие, которого не имею для себя, я имею для вас. Я оживаю в моем возлюбленном ученике. Я задумал много планов для вашего земного счастья, для вашего возвышения, и этим планам фронтенакские бенедиктинцы, которые вас обожают, будут помогать всем своим влиянием. Наши усилия, наша энергия, наш вес будут употреблены на то, чтобы упрочить вам славную и счастливую участь.
Эти объяснения возбудили в Леоне какую-то недоверчивость; вместо того чтобы поблагодарить дядю, он оставался в каком-то мрачном принуждении.
– Мне приятно было бы думать, – сказал он, наконец, – что планы, о которых идет речь, не могут подать повод к неприятным толкам, и что эти интриги, в которых барон де Ларош-Буассо обвинял фронтенакских бенедиктинцев…
– А! Вот действие ядовитых слов этого барона! – перебил Бонавантюр с горестным удивлением. – Но вам ли, Леоне, обращать против ваших друзей и благодетелей эту ядовитую стрелу?
В тоне приора было столько упрека, что Леоне проворно соскочил со своего лошака, подбежал к дяде и, взяв его за руку, покрыл ее поцелуями и слезами.
– Простите меня, простите меня! – сказал он голосом, прерывавшимся от рыданий. – Если б вы знали, как я страдаю! Мне кажется, что Господь оставляет меня!
Искренность этой горести тронула приора.
– Я охотно извиняю, – отвечал он, улыбаясь с кротостью, – припадок безумия… Бедный Леоне! Неужели вы думаете, что я не угадываю причины этой странной перемены в расположении вашего духа, когда-то столь спокойного и ровного, причину этой угрюмой печали или той вспыльчивости, которая вдруг разразится как буря души… Но минута не благоприятна для рассуждения о подобных предметах!.. Мы в другой раз поговорим об этом… Садитесь на лошака, Леоне, и будем продолжать наше путешествие.
Молодой человек повиновался со своей обыкновенной покорностью, и они ехали несколько минут рядом.
– Дитя мое, – начал скоро бенедиктинец благосклонным тоном, – хотя я простил ваш поступок, я хочу наложить на вас наказание… Мы найдем в Меркоаре барона де Ларош-Буассо, и я с удовольствием увидел бы, если б вы избегали всяких новых споров с ним. Я имею особенные причины желать, чтобы между вами не было ни ненависти, ни гнева, и вы, конечно, раскаялись бы впоследствии, если б не последовали моим советам… Ну, Леоне, что вы будете отвечать мне?
– Я могу оставить без внимания оскорбления, обращенные ко мне, дядюшка; но должен ли я позволить оскорблять в моем присутствии особу, имеющую право на мою привязанность, на мое уважение?
– Мне нужно ваше безусловное обещание, и если вы исполните его верно, я буду судить, что вы искренно сожалеете о вашей непонятной запальчивости.
– Хорошо, дядюшка, я даю вам это обещание; но, боже мой, каким испытаниям подвергаете вы меня беспрестанно!
– Испытаниям? Леоне, я вас не понимаю.
– Я едва ли понимаю сам себя… Моя бедная голова – хаос, где все сталкивается и все путается… Ах, дядюшка, мой добрый дядюшка! Зачем вы потребовали, чтобы я ехал в Меркоар?
– Во-первых, мой милый, потому что я не мог бы найти дорожного спутника более верного и более приятного, как вы. С другой стороны, желая показать вам свет, в который вы должны вступить, я воспользовался этим благоприятным случаем, чтобы ввести вас в дом, где будет находиться избранное жеводанское дворянство. Наконец, у меня была еще другая причина: я заметил, любезный Леоне, что вы производите странное влияние на мадмуазель де Баржак. Эта самовластная девушка при вас возвращает некоторую робость и скромность, приличные женщине хорошего происхождения, будто ваш кроткий, нежный характер, исполненный чувства и рассудка, действует на эту надменную, пылкую и независимую натуру.
Это впечатление обнаружилось несколько лет тому назад. Помните, Леоне, первое посещение наше мадмуазель де Баржак в монастыре Мендских урсулинок? Уже шесть месяцев непослушная пансионерка жила в монастыре, а бедные монахини не могли еще научить ее азбуке; она рвала свое шитье и вышивание, бранила своих наставниц. Она пришла в приемную с растрепанными волосами, в разорванном платье, но прелестная, как возмутившийся ангел. Она нетерпеливо приняла мои увещания и свирепо хранила молчание; пока, в отчаянии от этой закоренелости, я разговаривал поодаль с настоятельницей, вы подошли к Кристине де Баржак. Хотя вы сами были дитя, однако, по-видимому, сожалели об огорчениях этого неукротимого ребенка. Она сначала слушала вас с удивлением, потом с охотой. Мы не могли слышать ваш разговор, но не переставали наблюдать за вами обоими. Тут лежала книга; раскрыв ее наудачу, вы начали объяснять механизм и состояние слов внимательной ученице. Скоро она схватила книгу в свою очередь, с минуту колебалась, запнулась; вам надо бы дать ей новые объяснения. Наконец она опять взяла книгу и на этот раз, о чудо! прочла без ошибки целую страницу. Чего наставницы не могли добиться за шесть месяцев усилий, вы достигли за несколько минут. Я был вне себя от восторга, а настоятельница плакала от радости, и сама ученица остолбенела от своего удивительного успеха.
– Это правда, дядюшка, это правда, – отвечал Леоне с чрезвычайным волнением, – но к чему вызывать подобные воспоминания?
– С того времени, – продолжал бенедиктинец, – я имел многочисленные примеры вашего влияния на нее. При каждом моем посещении замка я замечал в ней благоприятную перемену, когда вы сопровождали меня. При вас она скромна, добра, воздерживается от вспыльчивости, которая приводит в отчаяние ее прислугу и друзей; наконец, она более походит на то, чем мы хотели бы, чтобы она была. Признаюсь вам откровенно, любезный Леоне, я действую для интересов нашей питомицы, везя вас к ней. Неблагодарная девушка не всегда почтительна ко мне и к другим фронтенакским бенедиктинцам – потому только, что наш долг подавать ей советы, порицать ее проступки и ее запальчивый характер. А я был бы в отчаянии, если бы при настоящих обстоятельствах мадмуазель де Баржак подала о себе неблагоприятное мнение.
Вы слышали, какие неприятные слухи ходят о ней между здешними жителями. Я надеялся, сын мой, что вы поможете мне одним вашим присутствием держать нашу воспитанницу в границах строгого приличия посреди знатных людей, которые стекутся в Меркоар.
– Но вы, дядюшка, столь благоразумный и столь осторожный, – вскричал Леоне с отчаянием, – неужели никогда не подумали об опасности, какую могут иметь на меня подобные опыты? Но вы ошиблись: влияния, которое вы приписываете мне, не существует; обстоятельства, о которых вы говорите, – действие случая. Мадмуазель де Баржак, девушка знатная и богатая, никогда не обращала на меня внимания. Она никому не показывает столько холодности, как ко мне; видя меня, она чувствует только какое-то стеснение. Чтобы понравиться такой живой, пылкой девушке, надо походить на блистательного и легкомысленного барона де Ларош-Буассо, который так угрюмо хвалился сейчас предпочтением, которое она ему оказывает… Я для нее ничто, говорю я вам! Дядюшка, заклинаю вас, не удерживайте меня долго в Меркоаре и, когда мы оставим замок, из сострадания ко мне, позвольте мне никогда туда не возвращаться!
Эти слова были как бы вырваны ужасной мукой; это был крик сердца, который на этот раз не мог не быть понятным. Притом, как, без сомнения, слушатели уже увидели, приор не ждал признаний, все более и более ясных, своего племянника, чтобы разобрать тайные чувства этой чистосердечной души. Он собирался уже обратиться к Леоне или с утешениями, или с упреками, когда взгляд, брошенный вокруг, придал другое течение его мыслям. Путешественники подъехали к мрачному ущелью между двух гор, покрытых деревьями до вершин. Дорога становилась трудной, неровной; огромные скалы едва давали место для проезда одного всадника. Солнце, низко спустившееся во время предыдущего разговора, позлащало еще вершины самых высоких утесов, но уже давно не проникало в это глубокое ущелье, где начал сгущаться мрак. Так далеко, как только могло простираться зрение, виднелись только деревья с темной зеленью; точно огромный, бесконечный лес обвивал своей лиственной сеткой холмы, долины и горы.
Эта внезапная перемена местности, дикий вид этой пустыни, а более всего уверенность, что в этих местах страшный жеводанский зверь производил опустошения, произвели сильное впечатление на дядю и племянника. Приор поэтому отвечал только с легким изменением в голосе:
– Я мог бы сказать многое о словах, вырвавшихся у вас, дитя мое, но в эту минуту у меня недостает необходимой свободы духа, и мы после возобновим этот разговор. Мы приближаемся к тому месту, где еще вчера зверь растерзал несколько жертв… Не будем говорить более, и старайтесь ехать как можно ближе ко мне. Да защитят нас Бог и Святая Дева!
Леоне не разделял страха своего дяди; но, может быть, он сам был не прочь отложить объяснение, вызванное им. В сердце юноши есть всегда стыдливость, заставляющая его колебаться обнаружить первые тайны своей любви. Поэтому молодой человек вовсе не огорчился этим отлагательством и с покорностью повиновался желанию приора.
Они ехали несколько минут очень скоро, но чем более продвигались, тем более сгущалась вокруг них темнота. Лес был из сосен, дубов и буков. Эти густые и частые деревья не позволили бы даже в полдень и в светлый день читать под их покровом, и в этот час вечера глаз не мог ничего различить в их мрачной глубине; хворост и терновник бросали на дорогу свои колючие гирлянды. Вершины гор, скал – все, что могло бы служить приметами, исчезло. Однако путешественникам было известно, что этот лес пересекался многочисленными дорогами, и что ошибка при настоящих обстоятельствах была бы небезопасна.
Они сначала руководились колеями, проведенными телегами, запряженными быками, отправлявшимися в Меркоар; это был верный признак, что они ехали по дороге в замок. Но скоро этот спасительный признак исчез, почва переменилась, сделалась сухой, каменистой и слишком жесткой для того, чтобы сохранять следы колес. Напрасно они ждали какой-нибудь прогалины, какой-нибудь возвышенности, какого-нибудь предмета, знакомого их глазам, который позволил бы им удостовериться, по какому направлению они едут. Мрак покрывал все своим унылым однообразием, и оба всадника видели один другого как неопределенные и фантастические силуэты.
Наконец они доехали до того места, где дорога разделялась надвое, и Леоне остановил своего лошака. Приор, читавший молитвы, может быть, для того, чтобы забыть свой тайный ужас, также удержал своего лошака.
– Дядюшка, – сказал молодой человек с замешательством, – я думал, что мы доехали, наконец, до креста святого Павла, но я ошибся… Мы, без сомнения, проехали крест, не заметив его… Вы знаете это место, где мы теперь? Я не помню, чтобы я бывал здесь когда-нибудь.
– И я также, дитя мое, – отвечал приор плачевным голосом. – Святая Дева! Уж не заблудились ли мы?
– Во всяком случае, мы заблудились немного; но мне хотелось бы добраться до вершин гор. Там должно быть еще светло. Что вы скажете, дядюшка, не взять ли нам по этой дороге налево, которая, кажется, ведет на вершину Монадьерской горы? Если передо мной будет открытое пространство, я сумею найти замок.
– Поручаю себя вам, мой милый, – робко отвечал Бонавантюр, – сознаюсь охотно, что в эту минуту ваши советы будут лучше моих… Надеюсь, – прибавил он, усиливаясь шутить, – что не всегда так будет впредь.
Сам Леоне казался в большой нерешимости, когда отдаленный звук рога раздался налево среди тишины.
– Сюда, дядюшка, сюда! – вскричал Леоне. – Мы, конечно, найдем людей в той стороне. Притом мы доберемся до горы и положительно узнаем дорогу… Итак, в путь! Не надо, чтобы ночь застигла нас в этой непроходимой чаще.
Приор бесстрастно повиновался; но ожидание Леоне было обмануто. Новая дорога, сначала приподнимавшаяся, круто спустилась вниз, к той лесной глубине, которую хотели избегнуть.
Заблудившиеся путешественники должны были опять остановиться и совещаться. Во время этой короткой остановки рог раздался снова, но на этот раз с противоположной стороны.
– Непонятно, – сказал бенедиктинец с беспокойством, – теперь звук раздался справа от нас!
– В горах есть акустические эффекты, – отвечал Леоне, задумавшись, – расположение местности и этот густой туман могут причинять необыкновенно обманчивые мечты; человек, держащий рог, без сомнения, не там где он кажется. Мы слышим его то здесь, то там, а он, может быть, находится только в двухстах шагах перед нами!
– В таком случае, дитя мое, почему бы нам не испробовать позвать его к нам на помощь?
– Попробуем, дядюшка.
Оба, соединив свои голоса, громко вскрикнули несколько раз и замолчали, чтобы послушать, будет ли ответ на их призыв. Но крики их как будто были поглощены этой тяжелой, неподвижной атмосферой. Отдаленное эхо, как бы играя, повторило звуки их голосов, потом все смолкло.
Приор решительно отказался от власти, которую лета и опытность давали ему над его молодым спутником.
– Что мы будем делать, Леоне? – спросил он.
– Право, дядюшка, я не знаю; мне кажется, однако, будто я вижу следы животных на земле. Может быть, эта дорога ведет к какому-нибудь жилищу… Будем же продолжать путь.
– Хорошо, – сказал Бонавантюр, – не всегда ли мы под перстом Божиим!
Эта настойчивость путешественников скоро получила свою награду. Дорога пошла в гору, и воздух сделался не так сыр. Хотя деревья еще составляли густой свод над головами всадников, однако около них становилось все светлее, звуки рога становились яснее и ближе. Они начали уже думать, что выйдут, наконец, из затруднительного и, может быть, опасного положения, в котором они находились, когда неожиданный случай обратил их неопределенные опасения в справедливый страх.
Они ехали осторожно, когда свирепый вой раздался из непроходимой чащи на некотором расстоянии. Лошаки остановились неподвижно, подняв уши и дрожа всеми членами, как делают робкие животные, чувствующие приближение хищного зверя.
Приор и племянник переглянулись.
– Жеводанский зверь! – сказал бенедиктинец, побледнев. – Да простит нам Господь наши согрешения… мы погибли!
Леоне отыскивал глазами предмет, из которого мог бы сделать себе оружие, потому что мог противопоставить только свой хлыст опасному противнику, возвещавшему о себе таким образом.
– Ободритесь, дядюшка, – отвечал он, – этот волк, если только действительно это он, не осмелится, может быть, напасть на двух человек верхом… Если б у меня была хоть хорошая дубина…
Рев прекратился; теперь слышались в терновнике только шаги большого тела, проворно прокладывавшего себе дорогу; но чаща была так густа, темнота так глубока, а туман так плотен, что ничего нельзя было рассмотреть.
Вдруг вой послышался снова; на этот раз зверь казался только в нескольких шагах от путешественников.
Это испытание было слишком сильно для бедного бенедиктинца; воображая уже, что члены его трещат под зубами чудовища, он начал испускать крики отчаяния. Леоне, напротив, искал врага глазами, готовый отразить нападение как мог; но мужество его не могло принести ему никакой пользы. Лошаки, испуганные до головокружения этим воем, раздавшимся так близко, поднялись на дыбы, повернули и убежали каждый в свою сторону. Лошак приора унес своего всадника, который ухватился за его гриву и продолжал кричать. Лошак Леоне, не находя перед собой пустого пространства, бросился слепо в кусты и с неистовством прыгал между ползучих растений и колючек.
Молодой человек держался на лошаке несколько минут, несмотря на его неистовые прыжки. Но его искусство в верховой езде не помешало ему наткнуться на низкую ветвь бука и слететь с седла именно в ту сторону, откуда слышался последний вой.
Падение было жестоко, и Леоне лежал оглушенный, без движения, ничком. Тотчас тихое ворчанье раздалось в ушах его, тяжелое тело упало на него, и он чувствовал, как острые зубы вонзились в его плечо, а когти вцепились в тело сквозь одежду.
Боль, неизбежность опасности заставили Леоне опомниться; он старался повернуться и высвободить руки, чтобы оттолкнуть свирепого зверя, который пожирал его живьем; но колючие растения запутывали его своими узлами, листья ослепляли его, тяжесть, лежавшая на нем, парализовала его движения. Он успел, однако, повернуться на бок и одной рукой оттолкнуть чудовище, которого не мог видеть. Но рука его встретила не голову хищного зверя; это было скорее какие-то жесткие, нечесаные, взъерошенные волосы, принадлежавшие человеческой голове.
В эту страшную минуту, когда инстинкт самосохранения преобладал над рассудком, Леоне не искал объяснения этого непонятного обстоятельства. Он продолжал бороться против царапанья и укусов своего неизвестного противника и судорожно вертелся, сам не зная, что делает.
Наконец борьба прекратилась, когда несчастный молодой человек, истощенный, запыхавшийся, почти лишившийся чувств от страдания и страха, становился уже не способен к сопротивлению. Когти и зубы перестали его рвать, и он почувствовал облегчение от тяжести. Оживленный этой внезапной переменой, он успел приподняться и, облокотясь на землю, осмотрелся кругом диким взором.
Все следы его грозного противника исчезли; слышался еще шум в соседних кустах, но ничего нельзя было видеть. Притом внимание Леоне было отвлечено другим шумом, раздававшимся на дороге и приближавшимся с быстротой. Это были звуки рога, теперь совершенно внятные, сильный лай, а главное – голос приора, звавшего Леоне с беспокойством.
Леоне не мог отвечать; он оставался все в том же положении, еще сомневаясь в своем собственном существовании. Наконец он смутно приметил в тумане двух человек, одного пешком, а другого верхом, которые как будто отыскивали его, и он слышал, как дядя его звал:
– Леоне, где вы? Леоне, ради бога, живы ли вы еще? Отвечайте мне поскорее.
Бедный молодой человек успел, наконец, преодолеть свою ужасную слабость.
– Сюда, дядюшка, с этой стороны!
– Ах, мы, наконец, его нашли! – вскричал бенедиктинец, соскочив с лошака. – Ну, мой милый, ранены вы?
– Кажется, нет, дядюшка.
– Слава богу! Слава богу!
Бонавантюр хотел помочь Леоне встать, но его спутник сказал ему на туземном наречии:
– Берегитесь, преподобный отец! Зверь, должно быть, недалеко, потому что моя собака ворчит… Полно, Кастор! Не отходи – ты, может быть, нам понадобишься.
Но его опасения не могли остановить приора, обрадовавшегося, что он нашел своего приемного сына. Он переступал через препятствия, не обращая внимания на свою бенедиктинскую рясу; он сжимал в объятиях бедного Леоне, который бесстрастно принимал его ласки.
Только когда молодой человек с помощью дяди добрался до дороги, можно было составить себе верное понятие о его плачевном состоянии. Шляпа его была смята, платье разорвано, руки и лицо омочены кровью. На левом плече виднелась широкая рана, как будто кусок тела был вырван когтями или зубами.
Испуганный Бонавантюр поспешил перевязать рану носовым платком. Его спутник помогал ему в этом сострадательном деле.
– Господи помилуй! – с ужасом говорил этот человек на туземном наречии. – Чуть-чуть было вы не попались; еще минута, и вы были бы растерзаны!
Тот, кто говорил таким образом и кто так кстати помог путешественникам, был – как слушатели, без сомнения, угадали – Жан Годар, меркоарский пастух. Оставив Лангонь, он отправился по проселочной дороге, годной только для пешеходов. Войдя в ту часть леса, где зверь производил свои опустошения, он вздумал затрубить в пастушеский рог, чтобы предохранить себя от нападения свирепого животного. Он услышал зов дяди и племянника и, угадав, что, верно, кто-нибудь заблудился в тумане, имел человеколюбие отправиться их отыскивать. Крики, раздавшиеся в минуту катастрофы, привлекли его внимание, и он чуть было не был сбит с ног приором, которого нес лошак. Они успели, однако, приблизиться друг к другу и после краткого объяснения бросились на помощь к Леоне, которого по справедливости предполагали в большой опасности.
Впрочем, бедный молодой человек, так чудесно спасенный, не мог задавать никаких вопросов. Присутствие духа медленно возвращалось к нему.
– Дядюшка, – сказал он, наконец, изменившимся голосом, – видели вы его? Конечно, он пробежал мимо вас?
– Кто? – с удивлением спросил приор.
– Этот человек… этот негодяй, который ранил меня.
– Человек! Вы грезите?.. Без сомнения, несчастный юноша получил сильный удар в голову… Рассудите, милый Леоне, вы имели дело не с человеком, а с чудовищем, которое называется жеводанским зверем.
– Жеводанским зверем! Уверены ли вы в этом, милый дядюшка? – спросил Леоне, идеи которого пробуждались мало-помалу. – Право, я не смею утверждать, я едва понимаю, где я… однако, я не могу поверить, чтобы меня так отделал хищный зверь.
– Боже милосердый! Кто же? – сказал пастух. – Если б вы могли видеть, какая рана у вас на плече, вы не имели бы никакого сомнения на этот счет. Какие зубы! Жалости достойно… Но, господа, нельзя же здесь дрогнуть; ночь приближается, а зверь чертовски упрям; если ему придет фантазия опять напасть на нас, пожалуй, мы с ним не сладим. В этом лесу ничего хорошего не дождешься после заката солнца.
– Этот добрый человек прав, – сказал вдруг приор, который, успокоившись насчет своего племянника, начал пугаться за себя. – Поедем немедленно!.. Какое гибельное и зловещее место! Не надо оставаться здесь долее; тебе нужна быстрая помощь, Леоне, дитя мое… Мужайся же, и постараемся как можно скорее добраться до замка.
Лошака Леоне найти было нетрудно. После падения всадника он сам упал и до того запутался в кустах, что не мог встать. С трудом Жан Годар мог поставить его на ноги и поспешил привести к Леоне. Но с первых шагов можно было узнать, что раненый неспособен был ехать верхом: голова его качалась направо и налево, больная рука не могла держать поводьев. Тогда Жан Годар без церемоний вскочил на лошака и, обхватив одной рукой племянника приора, другой схватил поводья, закричав:
– В путь! В путь! Когда выедем из леса, мы устроимся как можно лучше, но теперь не время нежиться. Вот Кастор навострил уши и огрызается… В путь! Ты, Кастор, держись твердо… Через четверть часа мы будем вне опасности.
Он погнал лошака, и Бонавантюр поехал за ним, между тем как собака шла последней, ворча и часто поворачивая голову.
Глава пятая
Замок Меркоар, в котором жила Кристина де Баржак, возвышался почти посреди того самого огромного леса, где фронтенакский приор и его племянник подвергались таким большим опасностям. Он был выстроен в эпоху, когда вообще во Франции перестали укреплять жилища сельских дворян; но никогда Жеводанская провинция не была довольно спокойна, по милости религиозного антагонизма и ненависти, порождаемой им, для того, чтобы сделать бесполезными некоторые предосторожности. Поэтому жилища меркоарских помещиков имели средневековый вид, Замок был выстроен на возвышенности над деревушкой в тридцать домов. Огромные башни с аспидными кровлями стояли по четырем углам; замок был окружен рвами, стенами и снабжен подъемным мостом. Правда, во рвах не было воды, в стенах были многочисленные проломы, а подъемный мост оставался неподвижным за неимением цепей. Но надо было подойти очень близко, чтобы приметить эти опустошения времени; издали замок со своими острыми зубцами, мрачной массой вулканических камней и высокими серыми стенами имел величественный вид, внушавший мысли о важности его владельцев.
В тот день, когда происходили события, рассказанные нами, окрестности этого жилища, обыкновенно уединенные и безмолвные, представляли большое одушевление. Все дороги, сходившиеся в Меркоаре, были наполнены путешественниками, в одиночку или группами, одни пешком, другие верхом, спешившими присутствовать на завтрашней охоте на волка. Между ними виднелись дворяне, соседние охотники на прекрасных лошадях и хорошо вооруженные, за ними пешие егеря вели своры собак. Некоторые из этих дворян везли на своей лошади жену или сестру, которые скрывали свой смелый способ сидеть на лошади посредством широкой драпировки, тогда называвшейся верховым передником. Но женщин было мало или оттого, что они боялись опасностей путешествия, или потому, что не хотели подвергаться вспышкам и резким выходкам эксцентрической владетельницы замка. Только несколько неустрашимых деревенских жительниц, соскучившись в своих замках и горевших нетерпением нарушить смертельное однообразие жизни, осмелились явиться в это собрание, где утомление было вероятнее удовольствия.
Путешественники, миновав подъемный мост, въехали на двор замка, где ничто не возвещало слишком изящного и желанного гостеприимства. Этот двор, отведенный для сельских занятий, был загроможден изломанными тележками и бочками, кучами навоза, и среди всего этого прыгали, кудахтали куры, голуби и утки. Разрушенные строения, окружавшие этот двор, давно уже были брошены; судя по разбитым окнам без стекол, они теперь служили сеновалами.
На этом-то первом дворе всадники сходили с лошадей и останавливались пешеходы, не получившие особенного приглашения от владетельницы замка. Два работника с фермы, одевшись для этого случая в ливреи с галунами, принимали на этом дворе приезжавших. Они снимали дам с лошадей, брали чемоданы и дорожные мешки, ставили лошадей в конюшни. Гостей низшего звания провожали в обширную низкую залу, где на столах разложены были хлеб, вино, сыр и каштаны. Садились, пили и ели без церемонии, и тем лучше можно было наслаждаться этим изобильным угощением, что гостям, насытившись, стоило только растворить соседнюю дверь, чтобы очутиться на сеннике, будущей спальне. Гостей же благородного звания лакей провожал на второй двор, вокруг которого высились здания, занимаемые владетельницей замка.
Эта часть замка содержалась гораздо лучше; там царствовали совершенный порядок и необыкновенная чистота. Корпус и два флигеля составляли три стороны этого квадратного двора, среди которого был хорошенький фонтан. Четвертую сторону составляли железная решетка и ворота с гербом фамилии де Баржак. Ворота эти вели в обширный парк, прежде отделенный от леса стеной и рвом; но время употребило стену на то, чтобы наполнить ров, и давно уже одна решетка защищала замок против несколько смешанного общества, посещавшего меркоарский лес, общества особенно шумного в длинные зимние ночи.
На одном углу второго двора небольшое каменное крыльцо вело в приемные комнаты. На этом крыльце старый господин высокого роста, худощавый и прямой, с важным видом исполнял обязанности церемониймейстера. Он был весь в черном, в жабо, манжетах и с косицей; шляпу он держал под мышкой и одной рукой со смешной важностью опирался на эфес длинной шпаги. Это был кавалер де Меньяк, дворянин хорошей фамилии, но младший брат и, следовательно, очень бедный. Храбрый кавалер, прослужив с отличием в кавалерской армии, вел бы очень плохую жизнь, если бы фронтенакский приор, знавший его давно, не вздумал поместить его управляющим и почетным конюхом питомицы монастыря. В настоящих обстоятельствах де Меньяк казался проникнут важностью своих обязанностей. Его длинное лицо выражало смесь достоинства и замешательства. Как только подходили гости, он делал три шага навстречу к ним, целовал руки дамам, низко кланялся мужчинам, потом провожал их в большую столовую, где уже находилось многочисленное общество. Там говорил он комплимент, придуманный заранее, всегда один и тот же, в котором извинялся за отсутствие хозяйки, «которая была занята, – говорил он, – но скоро придет».
– А пока, – прибавлял кавалер, – моя благородная госпожа приглашает вас через меня располагать всем принадлежащим ей как вашей собственностью. Дом ее и слуги в вашем распоряжении.
Потом кавалер де Меньяк кланялся опять и возвращался на свое место на крыльцо. Но, может быть, ему казалось, что он недостаточно вознаграждал своей преувеличенной вежливостью наружное равнодушие своей госпожи такому множеству гостей, потому что, оставшись один, он глубоко вздыхал и бросал тоскливый взгляд на ту часть замка, где окна оставались закрытыми.
Гости, со своей стороны, могли бы обидеться, что Кристина де Баржак поручила своему конюшему принимать их, но веселые охотники и деревенские соседи, приезжавшие каждую минуту, не обращали на это большого внимания. Они привыкли к фантазиям хорошенькой владетельницы замка, и никто не думал этим обижаться. Притом яркий огонь горел в камине, стол был заставлен холодной говядиной, кушаньями всякого рода, отборными винами; приготовлены были прекрасные кресла; проворные слуги ходили взад и вперед, удовлетворяя всем требованиям; на что же могли жаловаться гости? Поэтому гости, не обращая внимания на недостаток церемонии приема, весело садились за гостеприимный стол и принимали буквально приглашение кавалера поступать как дома.
Какие же «важные дела» задерживали хозяйку? В небольшом садике, служившем манежем, вместе со своей гувернанткой Маглоар и старым Мориссо, бывшим егерем ее отца, она обучала небольшую лошадь степной породы, на которой хотела ехать завтра на охоту.
Кристина де Баржак, которой было тогда восемнадцать лет, была стройной и гибкой, как горная сосна. В каждом ее движении была грация, точно так же, как сила и гибкость. Лицо смелого очертания, рост, красные и презрительные губы, черные глаза в виде миндалин составляли в совокупности замечательную красоту. Однако эта красота не имела еще определенного характера, цвет лица, немножко смуглый от загара, не показывал женственной деликатности, а глаза не умели опускаться под веками, оттененными длинными ресницами. Это был шаловливый, избалованный, самовольный ребенок в привлекательном виде молодой девушки. Жесты ее были тверды, часто повелительны, малейшее противоречие проводило легкие морщины на ее белом и чистом лбу.
Наряд, который был на ней в эту минуту и который был ее любимым костюмом, придавал еще более мужественный вид ее наружности. На ней было зеленое шелковое платье, похожее фасоном на наши современные амазонки. На великолепных черных волосах, которые она не позволяла пудрить, несмотря на требования моды, была надета шелковая сетка и небольшая треугольная шляпка с белыми перьями и золотым галуном. Этот полумужской костюм, прекрасно согласовавшийся с деятельной жизнью, с решительными манерами Кристины де Баржак, заставлял говорить тамошних жителей, что она одевалась по-мужски, и действительно, если бы не юбка, длинный шлейф которой мог приподниматься к поясу, ее приняли бы за бойкого маленького дворянчика, который скорее готов был сделаться мушкетером, нежели семинаристом.
Мы уже знаем несколько обстоятельства, имевшие влияние на Кристину и сделавшие ее столь непохожей на других молодых девушек ее возраста. Лишившись рано матери, она постоянно жила с мужчинами в этом уединенном замке. Отец ее и дядя, искусные охотники, но очень несведущие и порядочно грубые, принимали у себя только охотников; они находили какое-то глупое удовольствие видеть, что девушка принимала свободный тон, развязные манеры, от которых теперь не могла освободиться. На веселых обедах, следовавших за охотой, приносили маленькую Кристину, и эти пьяные гости находили удовольствие заставлять ее повторять ругательства, бывшие в моде, научать ее бойким движениям и слышать, как она напевает вакхическую песню. Отец ее, очень желавший иметь сына, когда родилась Кристина, не помнил себя от радости при этих шуточках; дядя ее, еще более неблагоразумный, научал новым шуткам. Однако и тот и другой обожали это невинное существо; они не думали, что, может быть, развращали ее юное воображение, они видели в ней игрушку, которой забавлялись с пагубной непредусмотрительностью.
Таково было первое воспитание Кристины. По милости инстинктов подражания, свойственных человеческой натуре, она переняла вкусы, нравы, язык окружавших ее. Она думала только о том, как бы бегать, прыгать, ездить верхом. Когда дядя ее умер после охоты на болоте, отец перестал поощрять этот причудливый и шумный нрав. Однако незадолго до своей смерти де Баржак как будто, наконец, увидел всю опасность своего поведения и раскаялся в преступном легкомыслии. Чтобы загладить вину, он завещал опеку над дочерью фронтенакским бенедиктинцам, которых считал наиболее достойными подобного поручения. К несчастью, было уже поздно изгладить следы первого порочного воспитания: Кристине было двенадцать лет, а в этом возрасте уже трудно принять новые идеи, преодолеть некоторые наклонности, некоторые привычки. Поэтому старания добрых бенедиктинцев в то время, о котором мы говорим, были еще несовершенны, и благородной девице недоставало кротости.
В эту минуту, как мы сказали, мадмуазель де Баржак, не обращая внимания на многочисленных гостей, приезжавших в замок, обучала маленького Бюша, свою любимую лошадь. Это было не очень легко. Бюш, хорошенькая вороная лошадка с быстрыми глазами, казалась, несмотря на свой маленькой рост, такой же своевольной, такой же капризной, как и ее госпожа. На Бюше сидел Мориссо, который, несмотря на свои семьдесят лет, вообразил себя еще превосходным всадником. Кристина с хлыстом в руке стояла посреди манежа и командовала. Иногда лошадь с удивительной кротостью слушалась всадника, но иногда лягалась и становилась на дыбы. Тогда мадмуазель де Баржак хлопала хлыстом, сердилась то на лошадь, то на всадника. Часто также, выйдя из терпения, она приказывала Мориссо сойти с лошади, и хотя у Бюша была только уздечка и легкая попона, она проворно вскакивала на него, приказывала ему исполнять указанный маневр, потом сходила с лошади, бралась за свой хлыст и говорила Мориссо:
– Черт побери, старый бездельник! Неужели ты не стыдишься своей неловкости? Бюш горяч, но не зол, и ты не умеешь с ним обходиться. Ты приступаешь к нему вдруг, вместо того чтобы дать ему время подумать о том, чего ты ждешь от него… Черт побери! Самый рассудительный из вас двоих не тот, который считается таким!
Каждый раз, как из ее хорошенького ротика вырывались неприличные выражения, жалобный голос вскрикивал за ней:
– Святая Дева! Мадмуазель де Баржак, вы опять ругаетесь, несмотря на ваше обещание!.. Что скажут бенедиктинцы, увидев, что я воспитываю вас так дурно? По меньшей мере, я буду отлучена от церкви.
– Хорошо, хорошо, сестра Маглоар! – возражала Кристина презрительно. – Не беспокойся о том, что скажут или сделают эти проклятые святоши.
– Проклятые святоши! Но ведь это нечестивость, святотатство… Ах, милое дитя, вы, верно, хотите погубить вашу душу! Да простит вам Бог ваше прегрешение!
Сестра Маглоар, говорившая таким образом, сидела в углу манежа. Защищаемая кадками с цветами от прыжков капризного Бюша, она вязала, по своей привычке, шерстяной чулок. Гувернантка мадмуазель де Баржак носила в замке свой костюм урсулинки. Это была женщина лет пятидесяти, обращение которой показывало, что она жила прежде в свете. Она слыла очень образованной, но ее выбрали в наставницы Кристине, особенно, за ее неизменное терпение и глубокую набожность, которая побуждала ее безропотно переносить несправедливости, жестокости и даже оскорбления. Мы должны сказать, что эти добродетели сестры Маглоар подвергались часто жестоким испытаниям. Урсулинка разделяла с кавалером де Меньяком управление замком, и они постоянно старались склонить их воспитанницу к дисциплине приличий. Дома урсулинка имела верх, она читала длинные нравоучения и прибегала к патетическим мерам, чтобы удерживать Кристину в границах приличия. Вне дома суровый и флегматический кавалер де Меньяк всюду провожал свою молодую госпожу, и пешком и верхом. Менее красноречивый и, в особенности, менее болтливый, чем сестра Маглоар, он сопровождал каждое свое наставление правилом кратким и непреложным, как аксиома; но, раз приняв решение, он дал бы себя прибить, разорвать на куски скорее, чем уступить, и его холодное упорство обыкновенно лучше удавалось с запальчивой молодой девушкой, чем бесконечные поучения урсулинки.
Однако мадмуазель де Баржак, как можно легко себе представить, переносила с крайним трудом этот двойной надзор. Сердце у нее было доброе, несмотря на ее дурное воспитание, и она имела довольно природного смысла, чтобы признавать превосходство цели, к которой они стремились; но эти неотступные нравоучения раздражали ее гордость. Нельзя сказать, чтобы она ненавидела своих слишком ревностных покровителей, но ей нравилось обманывать их надзор какой-нибудь веселой шалостью, мучить их тысячами способов. Это поведение приводило в отчаяние честного кавалера и бедную урсулинку, и хотя во всем остальном жизнь их была довольно приятная в замке, много раз уже они готовы были отказаться от обязанности, которая производила такие отрицательные результаты.
Пока мадмуазель де Баржак смотрела на быстрые эволюции Бюша, урсулинке доносили все, что происходило в другой части замка. На пороге соседней двери время от времени являлась камеристка в живописном туземном костюме. Она говорила несколько слов печальной урсулинке и тотчас уходила. Эта проворная посланница была отправлена кавалером доносить гувернантке о приезжавших благородных гостях и просить ее напомнить хозяйке об обязанностях гостеприимства.
Урсулинка сама только этого и желала; она хотела несколько раз укоротить урок в манеже, но ее упрямая ученица не слушалась ее просьб, а урсулинка, боясь раздражить ее своей настойчивостью, ожидала благоприятного случая уговорить ее.
Этот случай скоро представился. Лошадь выказывала усталость, а старый конюх, более мужественный, чем сильный, по причине своих преклонных лет, был весь в поту. Кристина велела Мориссо отдохнуть, потом села на скамейку возле своей гувернантки и, сняв шляпку, начала небрежно приглаживать свои растрепанные черные волосы.
– Дитя мое, – сказала урсулинка, воспользовавшись удобной минутой, – не пора ли нам идти домой? Вас гости ожидают в гостиной; вы обязаны показать внимание к дворянам, приехавшим освободить ваши земли от ужасного зверя, опустошающего их.
– Сколько шума из-за волка! – возразила молодая девушка, пожимая плечами. – Я помню, как отец мой и дядя Гилер убили шесть волков на одной охоте, и, как ни была мала, я присутствовала при этом в ущельях Лозера, тогда заваленных снегом… Ах, сестра Маглоар! – продолжала она с умилением, довольно редким в ней. – Ты не знала моего отца и моего доброго дядю Гилера; какие это были люди, и какие охотники! Если бы они еще были живы, они не прибегали бы к этим хвастливым дворянчикам, которые делают больше шума, чем дела. Они сели бы на лошадей и со своими егерями и двенадцатью ретивыми собаками скоро расправились бы с этим проклятым зверем, столь жадным к человеческому телу. Но времена переменились! Бедный отец! Бедный дядя Гилер!
И она отвернулась, как бы затем, чтобы скрыть слезу.
– Я знаю, дитя мое, – холодно возразила урсулинка, – что де Баржаки были благородные вельможи и опытные охотники; хотя они жестоко пренебрегли некоторыми обязанностями относительно вас, но, тем не менее, вы должны быть признательны добрым соседям, которые помогают вам в настоящих обстоятельствах, и вы хорошо бы сделали, если бы пошли сами.
– Э, черт побери! Разве кавалер де Меньяк не там? Верно, позаботились, чтобы у них ни в чем не было недостатка, я надеюсь?
– Без сомнения; но некоторые важные особы могут обидеться вашим продолжительным отсутствием… Например, граф де Лаффрена…
– Дайте ему зеркало; он не соскучится, пока будет любоваться своим лицом в зеркале, если б даже ему пришлось провести всю ночь в этом приятном занятии.
– Маркиз де Бреннвиль.
– Пусть его отведут в конуру, ему нравится общество собак.
– Барон и баронесса де Флорак.
– Пусть посадят их за стол и постоянно наполняют их рюмки и тарелки. Ручаюсь вам, что они не приметят моего отсутствия, если только вина и кушанья будут им по вкусу.
– Однако, мадмуазель де Баржак, – продолжала урсулинка, несколько рассердившись, – с минуты на минуту могут приехать гости, которым вы должны показать внимание и уважение.
– А! Вижу, о ком пошла речь, сестра Маглоар; ты, верно, ждешь этих проклятых… я хочу сказать, этих бенедиктинцев из аббатства?
– Вам следует почтительно говорить о ваших благодетелях, о ваших наставниках, – с колкостью возразила гувернантка, – Да, сударыня, для них приготовлены комнаты.
– Да черт же их…
– Мадмуазель де Баржак!
Кристина закусила губы и топнула ножкой, обутой в сафьянный сапог. Сестра Маглоар вздохнула и подняла глаза к небу. Это значило, что она приготовляется прочесть длинное нравоучение своей воспитаннице, когда молодая камеристка доложила о приезде барона де Ларош-Буассо. Это известие вдруг изменило идеи мадмуазель де Баржак.
– Ларош-Буассо! – вскричала она. – Ах, тем лучше! Он такой веселый! Мы здесь будем забавляться, как… в прошлые времена… Ты права, сестра Маглоар, – продолжила она, поспешно вставая, – я хочу воротиться домой.
Но гувернантка не разделяла уважения Кристины к барону и не вставала со своего места.
– Право, я не понимаю вашего предпочтения к барону, – возразила она, – это, говорят, мот, развратник, даже, может быть, враг нашей святой религии.
– Это славный охотник, чудесный наездник, веселый собеседник, об остальном я не справлялась, – беззаботно возразила мадмуазель де Баржак, – притом он не надоедает мне пошлостями и комплиментами, как другие… Хочешь, я тебе скажу, сестра Маглоар, откуда происходят твои предубеждения против него? Оттого, что он мне нравится. Ты всегда такова к тем, кто мне нравится, но, черт побери, я буду поступать по-своему!
И она подошла к своему конюху, который, держа лошадь за узду, отдыхал.
– Надо кончить, Мориссо, – сказала она, – но так как ты устал, я сама кончу урок.
Она без усилий прыгнула на спину ретивой лошади, которая начала грациозно прыгать, как бы изъявляя свою радость. Прекрасная амазонка заставляла ее несколько минут повторять самые трудные эволюции, переменять аллюр и вдруг останавливаться после скачки в галоп. На-конец, довольная послушанием своей лошади, она сделала старому конюху таинственный знак.
– Теперь последнее правило грамматики, – сказала она, улыбаясь.
– Вам угодно, чтобы я принес…
– Шш! – сказала лукавая девушка.
И она указала на сестру Маглоар, которая опять принялась за свою работу.
Мориссо понял ее мысль и в свою очередь лукаво улыбнулся, потому что он не любил урсулинки, читавшей ему беспрестанно нравоучения. Он пошел за пистолетами, лежавшими недалеко, и молча подал их своей барышне. Та начала галопировать вокруг манежа и, проезжая мимо урсулинки, положила один из пистолетов между ушами Бюша и выстрелила.
При этом неожиданном звуке сестра Маглоар вздрогнула, жалобно закричав: «Господи Иисусе!» – между тем как безжалостная девушка громко хохотала.
– Ну, милая сестра, – вскричала она, – неужели я никогда не приучу тебя к стрельбе?.. Но, клянусь моей душой, кажется, и Бюш слегка вздрогнул!.. Я не потерплю этого, мосье Бюш! Я опять выстрелю, и если ты пошевелишься… Не бойся на этот раз, сестра Маглоар; опасности нет, ты это знаешь.
Она выстрелила из другого пистолета. Пламя пороха коснулось гривы Бюша, но лошадь как будто не приметила этого, и ничто не возмутило правильности ее шага.
– Ну, вот и прекрасно! – сказала Кристина с торжеством.
Она сошла с лошади. Пока она гладила рукой блестящую и гладкую шею лошади, конюх подошел взять поводья.
– Я грубо обошлась с тобой, мой бедный Мориссо, – сказала мадмуазель де Баржак дружеским тоном, – я виновата, прости меня… Бюш прекрасно обучен; вот тебе несколько луидоров, выпей за мое здоровье.
Старый слуга рассыпался в изъявлениях благодарности, когда эта странная девушка повернулась к нему спиной и подошла к сестре Маглоар. Тогда только она приметила, что урсулинка была вся в слезах.
Удивление и горесть тотчас заменили радостное выражение ее лица. Она бросилась на шею своей гувернантки и сказала ей с волнением:
– Что с тобою, милая сестра? Неужели ты так дурно принимаешь шутку? Прости меня… я исправлюсь… Поцелуй меня; я хочу, чтобы ты меня поцеловала!
– Мадмуазель де Баржак, – сказала урсулинка, тихо отталкивая ее, – вы жестоки ко мне; я потеряла терпение и мужество. Вы меня не любите, вы меня ненавидите!
– Совсем нет, я люблю тебя, – возразила Кристина со своей обыкновенной пылкостью, – да, я люблю тебя, моя милая; но ты добра, а я зла. Раз сто хотела я отказаться от этих проклятых шалостей, и не знаю, какой черт… Полно, не сердись на меня на этот раз… Я исправлюсь, клянусь тебе… Ну, кончено? Поцелуй меня!
Она схватила обеими руками бледное и морщинистое лицо урсулинки и поцеловала ее несколько раз. Сестра Маглоар не могла удержаться, чтобы не улыбнуться сквозь слезы, видя, как откровенно Кристина признается в своих проступках.
– Ах, мадмуазель де Баржак! – сказала она. – Вы употребляете во зло мое снисхождение, мою слабость… Но я думаю иногда…
– Ты опять принимаешься за то же? Ведь ты меня простила… Слушай, в награду себе, ты увидишь, как я буду вежлива и любезна со всеми этими людьми в парадной гостиной. Ты сама меня не узнаешь. Обещаю тебе приятно улыбаться даже… твоим бенедиктинцам. Ты, кажется, мне сказала, что ждешь Жерома, эконома монастырского?
– Нет; по всей вероятности, сам господин приор захочет присутствовать при этом торжественном случае.
– Приор! Он строг меньше других, однако я люблю его больше, как ты думаешь, – продолжала она с притворным равнодушием, – он приедет один?
– Может быть, по обыкновению он возьмет с собой своего племянника, этого доброго мосье Леоне.
– Леоне! – повторила Кристина, вздрогнув. – Пойдем, пойдем, милая сестра! – прибавила она тотчас с живостью. – Если ты дашь охладеть моим добрым намерениям, я не ручаюсь ни за что.





