К востоку от Эдема Стейнбек Джон
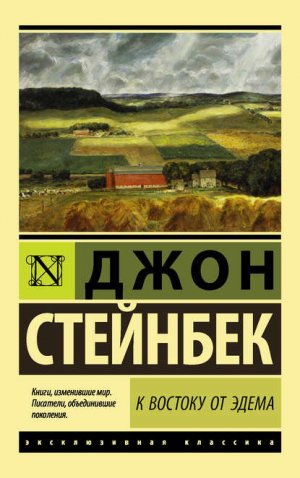
— Ей дай бог трепку задали. Далеко не уехала. Которая цыпочка в тираж выходит, в чужое место ни в жисть не подастся.
— Соображаешь. Значит, в Уотсонвилле обосновалась?
— Факт. Или же в Санта-Крусе. В любом разе дальше Сан-Хосе не залетела. На что хошь поспорю.
Кейт бережно поглаживала пальцы.
— Джо, хочешь заработать пять сотен?
— Желаете, чтоб я разыскал ее?
— Именно разыскал. Только смотри, не спугни. Мне одно нужно — знать, где она. Адрес нужен, понял?
— Понял, — сказал Джо. — Здорово, должно быть, она вас обчистила.
— Не твоего ума дело.
— Да-да, мэм, конечно. Хотите, чтобы я сразу же поехал?
— Да, и поживее там поворачивайся.
— Поживее трудно, — сказал Джо. Давненько уж дело-то было.
— Трудно, не трудно — это меня не касается.
— Сегодня же в Уотсонвилль выеду.
— Давай, Джо.
Кейт задумчиво глядела на него. Он чувствовал, что она хочет сказать что-то, но не знает, стоит ли. Наконец Кейт решилась.
— Джо, тогда, в суде… она ничего такого не выкинула?
— Не, вроде ничего. Начала только бодягу плести: подстроено, мол… Все они так.
И вдруг ему отчетливо припомнилось то, на что он тогда не обратил внимания. Внутренним слухом он услышал, как Этель хнычет: «Ваша честь, мне с вами с глазу на глаз надобно. Имею что-то сообщить».
Он спохватился и мгновенным усилием воли выкинул это из памяти, чтобы не выдало лицо, но было уже поздно.
— Ну? — нажимала Кейт.
Он лихорадочно соображал, как бы выкрутиться.
— Чевой-то еще было… — проговорил он, стараясь выиграть время. — Сейчас, может, припомню…
— Не тяни, выкладывай! — Голос у нее был настойчивый и жесткий.
— Ну, это… — мямлил он, — она вроде легавым сказала… м-м… нельзя ли на южную дорогу ее вывезти. Сродственники, мол, у нее в Сан-Луис-Обиспо…
Кейт приподнялась с подушек.
— А они что?
— Не желают они к черту на кулички мотаться, так и сказали.
— У тебя своя голова на плечах — ты-то куда сначала двинешь?
— В Уотсонвилль, — твердо сказал Джо. — А в Сан-Луисе приятель у меня. Я ему звякну, скажу, чтоб разведал.
— Но смотри, — предупредила она, — чтоб без шуму и по-быстрому.
— За пять-то сотен? Все в ажуре будет. — Он снова воспрянул духом, хотя по-прежнему видел ее изучающие, в прищуре, глаза, и тут он вдруг услышал то, от чего внутри у него все оборвалось.
— Да, кстати, Джо… Тебе знакомо такое имя — Венута?
— Не-а! — выпалил Джо и обрадовался, что голос не отнялся.
— Возвращайся как можно скорее, — спокойно сказала Кейт. — И скажи Елене, чтобы зашла. Пусть без тебя за домом присматривает.
Джо собрал чемодан, пошел на вокзал и взял билет до Уотсонвилля. Однако на первой же станции, в Кастровилле он слез и через четыре часа пересел на экспресс «Горный», который ходит между Сан-Франциско и Монтереем. Прибыв в Монтерей, он зарегистрировался в гостинице «Центральная» под именем Джона Викера. Потом спустился в забегаловку Папы Эрнста, съел бифштекс, купил бутылку виски и заперся у себя в номере.
Там он снял пиджак и жилет, отстегнул воротничок с галстуком, сбросил башмаки и плюхнулся на медную кровать. Бутылка и стакан стояли на столике рядом. Верхний свет бил ему в глаза, но он ничего не замечал. Для начала он хорошенько заправился полстаканом виски, а потом, закинув руки за голову и скрестив ноги, принялся методично проворачивать в уме и складывать в одно обрывки мыслей, впечатления, возможности и внутренние побуждения.
На вполне подходящее место устроился и думал уже, что облапошил хозяйку. Выходит, просчитался, не на такую напал. От дьявол, как она докопалась, что в бегах он? Может, пора дать тягу — махнуть в Рино, а еще лучше в Сиэттл? Портовые города — самая малина. А там… Не, постой-постой! Надо хорошенько обмозговать.
Этель, факт, ничего не крала. Просто пронюхала что-то об Кейт, и та, натурально, всполошилась. Выложить пять сотен, чтобы разыскать потрепанную девку — не, тут что-то не так. Значит, то, что Этель собиралась выложить судье, — правда, это первое. И второе: Кейт боится. Может, самому удастся сыграть на этом? Черта с два! Раз обо мне знает, в любой момент легавым стукнет. Джо ужасно не хотелось загреметь снова.
Но прикинуть-то можно, никакого вреда от этого. А что ежели рискнуть, пойти ва-банк: четыре года против… допустим, десяти косых? Не мало? Ладно, чего гадать. Она ж и раньше знала и ничего, не стукнула. Может, считает, что ручным его сделала.
Как ни крути, выходит, что Этель и есть главный козырь.
Спокойненько, спокойненько, не пори горячку. Такой шанс… Может, сначала прикуп взять, а там посмотрим? До чего же хитрющая баба! С такой, чтобы выиграть, надо карту хорошую иметь и ходы правильные делать. А пока он ей все в лист ходит.
Джо спустил ноги с кровати и наполнил стакан. Потом выключил свет и, подойдя к окну, поднял жалюзи. Отхлебывая виски, он наблюдал за худощавой маленькой женщиной в халате, которая стирала в рукомойнике чулки в номере, находящемся напротив его собственного. От выпитого приятно шумело в голове.
Да, шикарный шанс. Видит бог, Джо давно ждал такого. Господи, до чего ему опротивела эта сучка мелкозубая. Ладно, погодим малость.
Джо тихонько поднял оконную раму и, взяв карандаш со стоящего рядом стола, бросил его в окно напротив. Его позабавило, как перепугалась и затрепыхалась тоненькая дамочка, по-быстрому опуская жалюзи.
После третьего стакана полулитровая бутылка была пуста. Джо захотелось выйти, прошвырнуться по городу. Однако порядок есть порядок. Джо давно взял за правило не выходить из дому в подпитии — и неукоснительно придерживался его: береженого бог бережет. На пьяного любой нагрешит, а там уже полиция, проверка и прочее. На кой ему это путешествие по заливу в Сан-Квентин да еще безо всякой перспективы посачковать на дорожных работах за хорошее поведение. Нет, прогулочка по городу отпадает.
Когда на Джо нападала тоска, он прибегал к проверенному спасительному средству, сам не сознавая, какое удовольствие оно ему доставляет. Самое время предаться этому удовольствию. Он лег на кровать и начал вспоминать о том, какое несчастное у него было детство и каким перепуганным и испорченным входил он в возраст. Нет, не везло ему, ни разу настоящего шанса не выпало. Шансы, они у больших шишек. Пока таскал по малости, не попадался, но как только ножички перочинные в наборе с прилавка увел, сразу же легавые домой пожаловали и загребли. С тех пор и попал под наблюдение. Какой-нибудь вахлак уволочет в Дали-Сити ящик с клубникой, тут же Джо цапнут. В школе тоже не везло. Учителя норовили подножку подставить, и директор заодно с ними. От такой жизни кого хочешь тоска заберет. Надо было сматывать куда подальше.
Джо перебирал в памяти неудачи и невезения, и от этих картинок из прошлого внутри поднималась сладкая печаль; он подогревал ее все новыми и новыми воспоминаниями, и вот уже глаза у него наполнились слезами и губы задрожали от жалости к себе: позабыт-позаброшен с молодых, юных лет. И вот, пожалуйста, награда за всю маету и лихо — в борделе служит, а у других дома и автомобили собственные. Живут себе поживают всласть, а по ночам ставни закрывают — от таких, как Джо. Он плакал тихо и безутешно, пока не заснул.
Проснулся он наутро в десять, здорово поел у Папы Эрнста и около часу отправился автобусом в Уотсонвилль. Там он встретился со старым приятелем, которого заранее предупредил по телефону, и сыграл с ним три партии в бильярд. Выиграв последнюю, Джо поставил на место кий и подал приятелю две десятки.
— Зачем мне твои деньги, — удивился тот.
— Бери-бери!
— За что? Я же ничего…
— Очень даже чего. Толково объяснил, что ее тут нету. У тебя на таких дамочек нюх.
— Одно не пойму — на кой она тебе понадобилась.
— Уилсон, я ж тебе сразу сказал: не знаю. И сейчас то же самое говорю. Заплатили мне, вот и ищу.
— Ну ладно, я тебе все выложил… Да, тут еще съезд какой-то собирался — вроде дантисты или Совы. Хотела будто туда податься. Не помню только, сама она сказала или померещилось мне. Пошукай в Санта-Крусе. Свои там есть?
— Кое-кто имеется.
— Поговори с Малером. Хол Малер — запомнишь? Он большую бильярдную держит, «Холова луза» называется. Ну, и втихую, натурально, стол покерный.
— Спасибочки, — сказал Джо.
— Не за что. Деньги-то возьми назад.
— Не мои они. Купи себе Гавану.
Автобусная остановка была через два дома от «Холовой лузы». Было уже поздно, но игра в заднем зальце была в самом разгаре. Джо прождал целый час — пока Холу не понадобилось в сортир, — чтобы познакомиться с ним. Хол разглядывал его своими большими водянистыми глазами, которые из-за толстых стекол очков казались размером с блюдце. Он не спеша застегнул ширинку, поддернул черные сатиновые нарукавники, поправил зеленый защитный козырек на лбу.
— Подожди, пока кончим, — сказал он наконец. — Сам-то не любитель?
— А сколько под тебя играют, Хол?
— Только один.
— Давай и я, — согласился Джо.
— Пятерку в час кладу, — сказал Хол. — Плюс десять процентов с моего выигрыша.
— Ладно, идет. Моя рука — Вильямс, белобрысый такой.
В час ночи Хол и Джо потопали в «Барлов гриль».
— Две грудинки на ребрышках и картошечки жареной, по-французски, — распорядился Хол и спросил у Джо:
— Суп будешь?
— Не, и картошку жареную не буду. Пучит меня от нее.
— Меня тоже, — сказал Хол. — А все равно нажираюсь. Моциону мало.
Хол молчал, пока не подали еду. А как только набил рот, так и заговорил.
— Твой-то тут какой интерес? — осведомился он, откусывая кусок грудинки.
— Никакой. Сотню дали — я и взялся. Если столкуемся, двадцать пять твои.
— Доказательства нужны? Бумага какая?
— Бумага — это хорошо, но обойдусь.
— В таком разе… Не знаю, как и что, только подчаливает она ко мне: так, дескать, и так, нездешняя я, а мне клиент нужен. Да никудышная оказалась. Больше двадцатки за целую неделю я от нее ни разу не имел. И не узнал бы об ней ничего, если бы Билл Примус ее в моем заведении не видел. Когда ее нашли, он, само собой, сразу ко мне, давай расспрашивать. Правильный он мужик, Билл. У нас тут полиция вся правильная.
Этель была не так плоха, как казалось, — да, ленивая, неопрятная, зато простая, добродушная. Ей хотелось стать приличной женщиной и жить достойно. Но бедняге не везло, потому что была она не очень смышлена и не очень красива. Нашли ее на берегу, куда ее выкинули волны, полузасыпанную песком. Стали вытаскивать. Если бы она узнала, что у нее при этом задралась сзади до пояса юбка, она бы со стыда сгорела. Этель очень хотела выглядеть приличной.
— У нас тут диких артелей развелось, — продолжал Хол. — Сардиной промышляют. Бормотухи налижутся — и в море. Кто-нибудь взял да и затащил ее на свою посудину, а после за борт спустил. Я так понимаю. Иначе как она в воде очутилась?
— Может, сама с причала сиганула?
— Кто, она? — удивился, пережевывая картофель, Хол. — Ни хрена подобного. Да ей задницей пошевелить лень, не то что руки на себя наложить. Ну что, удостовериться желаешь?
— Да нет, раз ты говоришь, что это она самая, значит, так оно и есть, — сказал Джо и пододвинул Холу две десятки и пятерку.
Хол свернул билеты наподобие самокрутки и сунул в жилетный карман. Потом аккуратно отрезал треугольник мяса и положил в рот.
— Она это, точно. Пирога хочешь?
Джо хотел поспать часов до двенадцати, но проснулся в семь утра и долго лежал в постели. Спешить некуда, в Салинас приедет ночью, а сейчас надо хорошенько все обдумать.
Поднявшись, он долго изучал себя в зеркале, словно примеряя, какую мину состроить, вернувшись домой. Надо, чтобы Кейт видела, что он расстроен, хотя и не очень. Хитрющая баба, с ней ухо востро держи. Пусть она ходы делает, а ты приглядывайся. Думаешь, она так сразу и покажет карту? Держи карман шире! Джо мысленно признался себе, что боится ее до смерти.
Осторожность подсказывала: «Просто приди, расскажи все как есть и получай заработанные пять сотен». И тут же, обозлясь, он возразил самому себе: «Вот о шансах мечтаешь, а много ли их у тебя было? Шанс, он тогда начинается, когда усечешь, что он вообще есть. Кому охота всю жизнь в поганых сутенерах ходить? Слушай, поддакивай, следи за картой. Пусть первой заговорит она. Не убудет тебя от этого. Ежели что не так, всегда можно сказать, что сам, мол, только что узнал». «Она ж тебя через пять минут в тюрягу упечет». «Не упечет, надо только за картой следить. Чего ты теряешь? Хоть раз в жизни у тебя настоящий шанс был?»
Кейт чувствовала себя гораздо лучше. Похоже, помогло новое лекарство. Ломота в руках поутихла, пальцы как будто немного распрямились, опали припухлости на суставах. Первый раз за много дней она по-настоящему выспалась, потому и настроение у нее было хорошее, даже приподнятое. Ей захотелось вареного яичка на завтрак. Кейт встала, надела халат и взяла ручное зеркальце. Потом, подоткнув под спину подушки, она снова уселась в постель и принялась изучать свое лицо.
Отдых творит чудеса. От боли и тревог рот деревенеет, глаза блестят нездоровым, беспокойным блеском, а мышцы на висках и на щеках и даже крылья носа неестественно напрягаются. Так выглядят захворавшие люди, старающиеся превозмочь страдания.
Перемена после ночного отдыха была в ней поразительна. Сейчас ей можно дать лет на десять меньше. Кейт оттопырила сначала верхнюю губу, потом нижнюю и внимательно осмотрела зубы. Надо почистить хорошенько. Она очень следила за зубами. Золотые мосты на месте коренных зубов — это единственное, за чем она обращалась к дантисту. До чего же молодо выгляжу, думала Кейт. Одна спокойная ночь, и она снова в форме. Потому она их и дурачит, как маленьких. Хворая, думают, слабенькая. Хороша слабенькая, усмехнулась она про себя, — как стальной капкан. Впрочем, она всегда берегла свое здоровье: ни спиртного, ни тем более кокаина или еще чего в этом же роде, а последнее время даже от кофе отказалась. Умеренность явно шла ей на пользу. Ничего не скажешь, внешность у нее прямо-таки ангельская. Она приподняла зеркало повыше, чтобы не отражался в нем, не лез в глаза платочек на шее.
Внезапно перед ней возникло другое ангельское личико, так похожее на ее собственное, — как же его зовут?.. Черт побери, забыла… Алекс или что-то в этом роде. Она словно бы видела, как он медленно движется мимо нее, в белом стихаре с кружевом, склонив голову и касаясь нежным подбородком груди, и на волосы ему падает отблеск свеч. В руках он держит дубовый жезл, медный крест на его верхушке чуть кренится вперед. Есть в нем что-то завораживающе-прекрасное, что-то нетронутое, неприкасаемо чистое. Да, но разве что-нибудь нехорошее по-настоящему затронуло ее самое, разве проникло в душу, запачкало ее? Только снаружи от соприкосновения с другими оставались грязные пятна. А внутри она такая же светлая и цельная, как этот юноша — Алекс его, что ли?
Кейт фыркнула: мать двоих взрослых парней, а выглядит, как невинная малолетка. Если бы ее увидали, разве не заметили бы, как они похожи. Она вообразила, как они стоят рядышком, кругом народ, и все любуются ими. Интересно, что бы он… Арон, вот как его зовут… что бы он сделал, если бы узнал о ней? Братец-то его пронюхал. Проныра, сукин сын… ах, что же я говорю, нельзя так. Могут и впрямь подумать, что… Некоторые давно думают. И ведь не пригульный, не на стороне его прижила, а от священного таинства брака рожден. Кейт громко, от души рассмеялась. Забавно все-таки получается.
Только вот беспокоит он ее, этот смуглый проныра. Весь в Карла пошел. Кого-кого, а Карла она действительно уважала: он наверняка бы ее тогда прикончил.
Замечательное все-таки лекарство: боль как рукой сняло, а главное, опять придало ей уверенности в своих силах. Еще немного, и загонит заведение, а там — в Нью-Йорк, как и хотела. Снова подумалось об Этель. Чего такую бояться? Совсем, должно быть, сдала, дуреха старая. А что если добить ее добротой? Когда Джо найдет эту развалину, может быть… может быть, взять ее в Нью-Йорк? Чтобы при себе держать.
В голове у Кейт вдруг родилась занятная мыслишка. До чего же смешное смертоубийство будет — о таком ни одна живая душа ни под каким видом не проведает. Закормить дурочку до смерти! Пичкать ее шоколадом — коробки шоколадных конфет, вазы с помадками, обязательно ветчина, причем пожирнее и поджаренная, портвейну хоть залейся, и, само собой, масло, все пропитано маслом, и взбитые сливки, но никаких фруктов и овощей и никаких прогулок. Посиди, дорогуша, лучше дома, присмотри за порядком — нынче никому доверять нельзя. Вид у тебя сегодня усталый, приляг, нет-нет, я сама винца тебе принесу. Кстати, я тут новых конфет купила — возьми коробку прямо в постель. Что? Говоришь, нездоровится? Может, слабительное принять? Очень вкусные орешки, не хочешь попробовать? Да после всего этого она за полгода от обжорства лопнет, сучка паршивая. А глисты? Интересно, кто-нибудь использовал глисты для умерщвления? Как звали того типа, который никак напиться не мог, потому что воду решетом черпал, — Тантал? На губах у Кейт играла сладкая улыбка, ей становилось весело. Вот потеха была бы — закатить ее мальчикам прощальную вечеринку перед отъездом. Простую вечериночку, а потом показать им, сыночкам ее драгоценным, представление с девочками. Потом Кейт увидела миловидное лицо Арона, так похожее на ее собственное, и какая-то боль, непонятная и несильная, стеснила ей грудь. Хитрости в нем нет. Не умеет защитить себя. А тот, смуглый, — от него чего угодно жди. Она нутром чуяла, какой он. Кейл поборол ее, как ни крути. Ну, ничего, до отъезда она ему покажет. Что если… а правда, почему бы ему не устроить так, чтобы он подцепил триппер… Быстро приведет нахала в чувство.
И вдруг она поняла, что не хочет, чтобы Арон узнал о ней. Хорошо, если бы он приехал к ней в Нью-Йорк. Он подумает, что все это время она жила в красивом особняке на Ист-Сайд. Они будут вместе ходить в театр или оперу, бывать на людях, и все будут удивляться, какие они красивые и как похожи друг на друга. Брат и сестра? Молодая мама со взрослым сыном? Они бы и Этель похоронили вместе. Гроб придется побольше заказать и шестерых нанять, чтобы вынесли. Кейт так развеселилась, что не услышала стука. Приоткрыв дверь, Джо заглянул в комнату и увидел ее довольное, улыбающееся лицо.
— Завтрак вот, — сказал он, подтолкнув дверь краем покрытого белой салфеткой подноса. Войдя в комнату, он прикрыл за собой дверь коленом. — Там будете? — кивнул он в сторону серой каморы.
— Нет, здесь поем. Яйцо принеси и поджаренный ломтик хлеба. Проследи, чтобы четыре с половиной минуты варили. Терпеть не могу жидкие яйца.
— Вижу, мэм, получше вам сегодня.
— Гораздо, — сказала она. — Это новое лекарство — просто чудо. А вот ты, Джо, растерзанный какой-то. Нездоровится?
— Да нет, нормально себя чувствую. — Джо поставил поднос на стол прямо перед большим креслом. — Значит, четыре с половиной минуты варить?
— Ровно четыре с половиной. И если есть, захвати яблочко посвежее, чтобы хрустело.
— Да вы отродясь столько не ели, — сказал Джо.
Дожидаясь на кухне, пока повар сварит яйцо, он тревожно размышлял. Может, она пронюхала чего? Гляди в оба. Черт, чего она цепляется. Он же по натуре ничего не знает. Не виноват он.
Возвратясь в комнату хозяйки, Джо доложил:
— Яблок нету. Повар говорит, что груша вот хорошая.
— Груша? Еще лучше.
Он стоял и смотрел, как она чистит скорлупу и окунает ложку в яйцо.
— Ну как?
— Замечательно! — кинула Кейт. — Просто замечательно.
— Выглядите сегодня что надо.
— Я и чувствую себя что надо. А вот на тебе лица нет. Что-нибудь случилось?
— Понимаете, мэм… — замычал словно бы нехотя Джо. — Мне сейчас незнамо как пять сотен требуется.
— Позарез… — перебила Кейт игриво.
— Чего-чего?
— Ладно, проехали… Ты что — хочешь сказать, что не нашел ее? Посмотрим, если хорошо поработал, получишь свои пять сотен. Давай-ка по порядку. — Кейт взяла солонку и вытрясла в яйцо несколько крупинок.
Джо изобразил на лице радость.
— Спасибочки, — сказал он. — Ей-ей, во как нужно… Ну, был я, значит, в Пахаро и Уотсонвилле. В Уотсонвилле видели ее, сказали, в Санта-Крус подалась. Я — туда, разведал все чин-чином: верно, ошивалась там, а после куда-то смылась.
Кейт попробовала яйцо и добавила еще соли.
— И это все?
— Не, не все, — продолжал Джо. — Дай-ка, думаю, в Сан-Луис-Обиспо махну. И точно, была она там, а после как в воду канула.
— И никаких следов? Никто ничего не знает?
Джо нервно перебирал пальцами. Вся его затея, а может, и вся его жизнь зависели от того, что он сейчас скажет, и он боялся промахнуться.
— Ну, чего молчишь? — проговорила она, теряя терпение. — Выкладывай, чего у тебя там.
— Да так, ничего особенного. Сам не знаю, что об этом думать…
— А ты не думай, — говори. Думать я буду, — резко оборвала его Кейт.
— Может, вранье все…
— Вот наказанье-то, Господи! — рассердилась она.
— С мужиком одним я калякал. Он ее, значит, последний видел. Джо его зовут, как и меня…
— Как его бабушку зовут — не узнал? — съязвила Кейт.
— Мужик этот, значит, и говорит, набралась она раз пива и грозилась в Салинас вернуться втихую. Дескать, должок вернуть надо. Больше этот мужик ничего не знает, потому как укатила она.
На какой-то короткий миг Кейт потеряла самообладание, но Джо засек этот миг, заметил ее тревогу, ее испуг и почти полную растерянность. Он не знал, что именно на нее подействовало, но почувствовал себя на коне. Наконец-то у него появился шанс.
Она подняла глаза со своих скрюченных рук, лежащих на коленях.
— Бог с ней, с этой бздюшкой, Джо, — сказала она. Считай, что пять сотен твои.
Она целиком погрузилась в себя, а бедный Джо боялся дыхнуть, чтобы не спугнуть ее. Поверила-таки, поверила даже тому, о чем он и полслова не вымолвил. Ему захотелось поскорее убраться вон.
— Спасибочки, мэм, — тихо сказал он и начал бочком подвигаться к двери. Его пальцы уже легли на ручку, когда она сказала как бы между прочим:
— Кстати, Джо…
— Да, мэм?
— Услышишь чего… о ней, — скажи мне, хорошо?
— Обязательно. Может, мне еще поспрошать?
— Да нет, не стоит. Не так уж это важно.
У себя в комнате Джо защелкнул дверь, уселся, сложил руки на груди и, заулыбавшись, принялся прикидывать, как ему вести себя дальше. Остановился он на том, что лучше всего дать ей помозговать, к примеру, с недельку. Пусть успокоится малость, а там опять, будто ненароком, заговорить об Этель. Джо не понимал, какое оружие попало ему в руки, и не умел им пользоваться. Зато он твердо знал, что оружие опасное, и ему не терпелось пустить его в ход. Он расхохотался бы от радости, если бы знал, что Кейт заперлась в серой каморе, неподвижно сидит в своем кресле и глаза ее закрыты.
ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ
Иногда вдруг в ноябре на долину Салинас проливается дождь. Это случается так редко, что «Газета» и «Вестник» тут же откликаются на событие редакционными статьями. После дождя склоны гор и предгорья покрываются пушистой зеленью, а в воздухе разливается приятная свежесть. От дождей в такую пору земледелию никакой пользы, если только они не зарядят как следует, а это бывает чрезвычайно редко. Обычно же снова быстро настает сушь, зелень жухнет, или же побеги прихватывает заморозками, и иногда большая часть посевов гибнет.
Когда началась война, пошли сырые осени, и многие объясняли капризы погоды тем, что во Франции палят из огромных пушек. Сей предмет серьезно обсуждался в разговорах и даже в газетах.
Первую военную зиму наших войск во Франции было мало, однако миллионы проходили обучение и готовились к отправке за океан.
Война — это всегда несчастье, и в то же время она приносит в жизнь разнообразие. Германцев так и не удалось остановить. Больше того, они снова перехватили инициативу и неудержимо двигались к Парижу. Одному Господу Богу было ведомо, когда их остановят и остановят ли вообще. Утверждали, что если кто и спасет нас, то только генерал Першинг. В любой газете каждый день красовалась фотография: строгий, по-военному подтянутый, в щегольской форме, подбородок каменный, на гимнастерке ни единой складочки. Вот он, настоящий солдат! Но никто не знал, какие стратегические планы строились в его голове.
Мы твердо знали, что победим, а пока проигрывали одно сражение за другим. Муку, белую муку, продавали только «с нагрузкой», то есть покупатель был обязан взять еще четыре таких же веса муки серой. Люди с деньгами ели хлеб и пироги, выпеченные из белой муки, а из серой делали похлебку и скармливали ее курам.
В помещении музея нашего славного Третьего эскадрона проходила военно-строевую подготовку Гражданская гвардия, состоящая из мужчин за пятьдесят — не самый лучший, понятно, солдатский материал. И тем не менее они регулярно, два раза в неделю проводили занятия, носили военные фуражки и гвардейские значки, отдавали друг другу распоряжения и постоянно ссорились из-за того, кому быть командиром. Отжимаясь на полу, прямо на месте помер Уильям С. Берт. У бедняги сердце не выдержало.
Во множестве расплодились минитмены, то есть охотники до коротких, одноминутных патриотических речей, которые произносились в кино и церквах. Минитмены тоже носили особые значки.
Что до женщин, то они катали из марли бинты, ходили в форме Красного Креста и считали себя ангелами милосердия. Каждая непременно что-нибудь вязала — будь то шерстяные митенки, которые надевались на запястье, чтобы солдату не дуло в рукав, или глубокие вязаные шлемы с отверстием спереди для глаз. Последние предназначались для того, чтобы предохранить голову от примерзания к новенькой металлической каске.
Самая лучшая, первосортная кожа до последнего кусочка шла на офицерские сапоги и портупеи. Портупеи были умопомрачительны, носить их имели право только офицеры. Состояли они из широкого пояса и узкого ремня, который проходил наискось по груди и пропускался через левый погон. Мы переняли портупеи у англичан, но и те, пожалуй, позабыли, для чего они первоначально предназначались — очевидно, к ним подвешивались тяжеленные мечи. Мечи давно вышли из употребления, да и сабли носили только на парадах, однако же офицеры только что не спали в ремнях. Цена на хорошую портупею доходила до двадцати пяти долларов.
Мы вообще многому научились у англичан: они были хорошие вояки — иначе зачем нам было подражать им. Так, мужчины начали на их манер засовывать носовые платки под рукав, а молодые лейтенантики щеголяли с тросточками. Перед одним нововведением мы, правда, поначалу устояли — разве не глупо носить часы на руке? Нем казалось, что тут мы с бритта ни за что обезьянничать не будем.
Помимо всего прочего, среди нас обнаружились внутренние враги, и мы должны были проявлять бдительность. Сан-Хосе охватила шпиономания, и Салинасу, растущему городу, не пристало плестись в хвосте.
Лет двадцать портняжил в нашем городе мистер Фенкель. Он был маленький, круглый и говорил по-нашему так что обхохочешься. Целыми днями он сидел на столе, скрестив по-турецки ноги, у себя в крохотной мастерской на Алисальской улице, а вечером шел в свой чистенький домик в самом конце Центрального проспекта. Он без конца белил стены дома и реденький штакетник вокруг него. Ни одна живая душа не замечала его смешного выговора, но как только началась война, мы вдруг спохватились: да он же немец! К нам затесался настоящий немец. Мистер Фенкель буквально разорился, покупая облигации военных займов, но это лишь усугубило его положение: ловко придумал, хочет от себя подозрение отвести.
В Гражданскую гвардию его, разумеется, не взяли — незачем выдавать шпиону секретные планы обороны Салинаса. И вообще, кому нужен костюм, сшитый врагом. Мистер Фенкель все так же сидел целыми днями на столе, но делать ему было решительно нечего. По нескольку раз он метал и переметывал, сшивал и распарывал одну и ту же вещь.
Каких только гадостей не строили мы мистеру Фенкелю! Он был нашим, городским немчурой. До войны, бывало, он каждый божий день проходил мимо нашего дома и ко всякому — и к взрослому, и к ребенку, и к собаке обращался с добрым словом, и все охотно отзывались на него. Теперь же с ним никто не разговаривал, и я как сейчас вижу его одинокую сгорбившуюся фигуру и выражение горькой обиды на лице.
Мы с моей маленькой сестренкой тоже обижали мистера Фенкеля, и при воспоминаниях об этом меня до сих пор от стыда бросает в пот, и комок подкатывает к горлу. Раз вечером мы играли перед домом и увидели, как он тащится по улице мелкими шажками. На голове у него прямо сидела аккуратно вычищенная черная шляпа с твердыми полями и высокой тульей, слегка примятой сверху. Не припомню, сговорились мы с сестрой сыграть с ним злую шутку или нет, наверное, все-таки сговорились, потому что удалась она на славу.
Когда он подошел поближе, мы вышли из калитки, не спеша пересекли улицу и остановились на обочине. Мистер Фенкель поравнялся с нами и, улыбнувшись, сказал:
— Топрый фечер, Тшон, топрый фечер, Мэри.
Стоя рука об руку, мы с сестрой разом выкрикнули: «Hoch der Keiser!»26
Я до сих пор словно бы вижу его лицо, его удивленные и испуганные голубые глаза. Он хотел что-то сказать, но не выдержал и заплакал, даже не пытаясь скрыть слезы. И что бы вы думали? Мы с сестрой отвернулись, как ни в чем не бывало перешли улицу и скрылись за калиткой. Нам было стыдно. Мне и сейчас стыдно, когда я вспоминаю об этом.
И все же мы, дети, не могли причинить особого вреда мистеру Фенкелю. Для этого потребовалась толпа взрослых здоровых мужчин, человек в тридцать. Однажды в субботу они собрались в какой-то пивной и оттуда шеренгами по четыре двинулись по Центральному проспекту, подзуживая себя выкриками в такт маршу. Они в щепки разнесли побеленный заборчик у мистера Фенкеля и подожгли крыльцо. Ни один кайзеровский прихвостень не уйдет от нас! Теперь Салинас может прямо смотреть в глаза Сан-Хосе.
Теперь уже и Уотсонвилль, разумеется, не пожелал оставаться в стороне. Там вымазали дегтем и выкатали в перьях какого-то поляка, которого приняли за немца, потому что он тоже говорил с акцентом.
Словом, в Салинасе делали все, что в военное время неминуемо делается повсюду, и думали так же, как принято думать в такую пору. Мы, словно дети, радовались хорошим новостям и помирали со страху, когда приходили дурные. Каждый непременно знал что-нибудь этакое и считал своим долгом непременно рассказать, понятно под секретом, другим. Жизнь в городе изменилась, как она всегда меняется в трудные времена. Росли цены и заработки. Слухи о нехватке продуктов заставляли хозяек закупать все впрок. Благовоспитанные, чинные дамы глаза были готовы выцарапать друг другу из-за какой-то банки помидоров.
Но в нашей жизни было не только плохое, мы видели не только низость или психоз, но и что-то высокое, даже героическое. Некоторые добровольно записывались в армию, хотя могли преспокойно отсидеться дома. Другие отказывались от военной службы по моральным или религиозным соображениям и приняли крестные муки, которые, как ведется, выпадают на долю несогласных. Третьи отдавали все, что имели, для победы, потому что шла последняя, решительная война, и надо было выиграть ее, чтобы удалить ядовитый шип из тела человечества и избавить его от этой чудовищной бессмыслицы.
Никакого величия в смерти на поле боя нет. Чаще всего такая смерть являет собой отвратительное зрелище: растерзана живая человеческая плоть, пролита горячая кровь. Но есть величие и какая-то почти неизъяснимая сладость в той безграничной, беспредельной и неизбывной печали, которая охватывает близких, когда приходит телеграфное извещение о гибели сына, мужа или брата. Что тут скажешь, тем паче — что поделаешь, и только теплится в душе одно-единственное утешение: может, не мучился, милый. Но до чего же слабо и безнадежно это последнее утешение. Правда, были и такие, кто — едва только притуплялась боль от потери — начинал гордиться ею и важничать. После войны кое-кто из них даже обратил потерю себе на пользу. Это вполне естественно, так же, как естественно наживаться на войне для тех, кто всю жизнь посвятил наживе. Никто не упрекал человека за то, что кровь приносит ему деньги, — он должен был всего лишь вложить часть добычи в облигации военных займов.
Мы, салинасские, воображали, будто сами придумали все это, в том числе и печаль.
ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ
В доме у Трасков появилась карта Европы. Ли и Адам утыкали ее цветными булавками, обозначив извилистую линию Западного фронта, и это придавало им чувство причастности к происходящему за океаном. Когда умер председатель призывной комиссии мистер Келли, на его место назначили Адама. Он был самой подходящей кандидатурой на этот пост. Холодильная фабрика много времени не отнимала, у него был безупречный послужной список в армии и увольнение с благодарностью.
Адам Траск повидал войну, правда, малую, состоящую из погонь и побоищ, но, во всяком случае, он сам пережил то, что бывает, когда переиначивают все законы нормальной жизни и человеку дозволяют убивать других людей.
Он плохо помнил свое боевое прошлое. Конечно, многое отчетливо вставало в воспоминаниях: чье-то искаженное лицо, груда обгоревших трупов, клацанье ножен при быстрой, сбивающейся на бег ходьбе, нестройные рваные залпы из карабинов, холодный режущий голос горна по вечерам. Но эти картины, запечатлевшиеся в памяти, были словно бы мертвые. В них не было ни движения, ни волнения — скорее просто картинки в книге, да и то не очень хорошо нарисованные.
Адам ревностно отдавался работе, но им владела печаль. Он не мог побороть ощущения, что, признавая молодых людей годными к воинской службе, он тем самым выносит им смертный приговор. Чем сильнее его мучили сомнения, тем более дотошным он становился и непримиримым ко всяким отговоркам в сложных, спорных случаях. Он брал списки призывников домой, навещал их родителей и беседовал с ними — словом, делал гораздо больше, чем от него требовалось. Он был в положении судьи, который отправляет людей на виселицу, ненавидя казнь.
Генри Стэнтон с тревогой наблюдал, как худеет и замыкается в себе Адам, потому что сам он любил веселье, просто жить без него не мог. Ему было тошно смотреть на кислую рожу коллеги.
— Да брось ты переживать, — твердил он Адаму. — Тебя что, война больше других касается? Не ты ее начал, верно? Тебя на это место поставили, чтобы ты действовал по правилам. Вот и действуй! Не ты у нас главнокомандующий.
Адам повернул створки жалюзи, чтобы полуденное солнце не било в глаза, и уставился на испещренную резкими параллельными тенями столешницу.
— Да понимаю я, — сказал он досадливо, — все понимаю! Хуже всего, когда надо принимать решение. Когда от тебя зависит «годен» или «не годен». Я вот парня судьи Кендела годным признал, а его взяли и убили на тренировочных стрельбах.
— Ты-то тут при чем, чудак-человек! Хочешь, совет дам? Лучше нет, как вечером стаканчик пропустить. Или же в кинематограф сходи… спится потом замечательно.
Генри засунул оба больших пальца под жилет и откинулся на спинку стула.
— Раз уж мы об этом заговорили, я тебе вот что скажу. От твоих беспокойств никакой пользы ребятам нету. Меня бы и уговорил какой, а ты нет, «годен», и точка.
— Знаю я, — ответил Адам. — Генри, это еще долго протянется, как ты думаешь?
Генри испытующе посмотрел на него, потом вытащил карандаш из нагрудного кармана жилета, набитого бог весть чем, и потер резинкой на его кончике о крупные белые зубы.
— Понятно, — негромко сказал он.
— Что — «понятно»? — словно встряхнулся Адам.
— Не заводись. Я только сейчас подумал, как мне повезло. У меня-то девчонки.
Адам медленно провел пальцем по длинной тени от жалюзи.
— Угу, — выдохнул он.
— До твоих ребят черед не скоро дойдет.
— Угу. — Его палец переместился на солнечную полосу и так же медленно двинулся по ней.
— Жуткое дело… — выговорил Генри.
— Что именно?
— Не представляю, как это своих сыновей свидетельствовать.
— Я бы ушел с этого места.
— Верно, лучше уйти. А то ведь захочется негодными их признать, своих-то.
— Нет, — возразил Адам. — Я бы по другой причине ушел. Просто не смог бы не признать их годными. Как раз своим-то нельзя поблажки делать.
Сплетя пальцы, Генри сложил ладони в один большой кулак и выставил его перед собой на столе. Лицо у него было озабоченное и хмурое.
— Да, — сказал он, — тут ты прав. Своим никаких поблажек.
Генри любил веселье и потому старался избегать серьезных и тяжелых тем, так как путал их с неприятными.






