К востоку от Эдема Стейнбек Джон
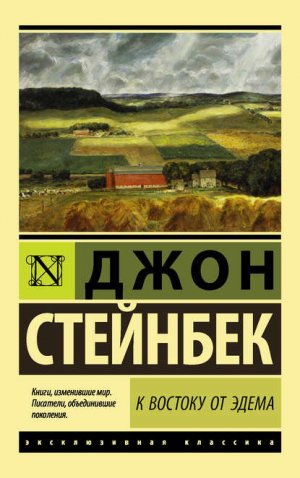
Сэмюэл растормошил в себе былую веселость. Его сардонический ум пламенел, речь обрела былой поющий ритм. Он неугомонно говорил, пел, вспоминал — и вдруг, еще до полуночи, утомился. Усталость овладела им, и он озадаченно лег в постель, где уже два часа спала Лиза. Озадачило Сэмюэла не то, что пришлось лечь, а то, что лечь захотелось.
Когда и мать и отец легли, Уилл принес виски из кузницы, пошли в ход баночки из-под джема, и в кухне началось совещание клана. Матери на цыпочках сходили в спальни поглядеть, не сбросили ли одеяло дети, и тихонько возвратились. Все говорили вполголоса, чтобы не разбудить детвору и стариков. Здесь были Том и Десси, Джордж и его миловидная Мейми (урожденная Демпси), Молли и ее муж, Уильям Дж. Мартин, Оливия с Эрнестом Стейнбеком, Уилл со своей Дилой.
У всех на языке было одно и то же — у всех десятерых. Сэмюэл обратился в старика. Точно они вдруг узрели привидение — так поразило их это превращенье. Им до сих пор не верилось, что такое возможно. Они пили из баночек, тихо обсуждая свое открытие.
— Вы заметили, как он сгорбился? И походка стала тяжелая.
— Пришаркивает на ходу подошвами, но не это главное, — главное, глаза померкли. Стали стариковскими.
— Он никогда прежде не уходил до конца застолья.
— А заметили, как среди рассказа он забыл, на чем остановился?
— Я увидел его кожу и сразу понял. Морщинками пошла и как бы прозрачной стала на тыльной стороне руки.
— Правой ногой ступать стал осторожно.
— Но ему же эту ногу лошадь копытом сломала.
— Знаю, но раньше он ступал нормально.
Все это говорилось взволнованно и возмущенно. Нет, не может того быть. Не может отец состариться. Сэмюэл молод, как утренняя заря — как вечный, нескончаемый рассвет, И уж, во всяком случае, не старей полдня. О Боже милостивый, неужто может настать вечер, ночь?.. Нет, о Господи, нет!
Толкнувшись мыслями о смерть и, естественно, отпрянув, они умолкли, но в мозгу билось: «Без Сэмюэла мир существовать не может».
«Как можно подумать о чем-то — и не знать, что отец об этом думает?»
«Какая без него весна, дождь, Рождество? Без него не может быть Рождества».
Устрашенные грядущим, они стали искать, на ком выместить свою боль. И накинулись на Тома.
— Ты же был тут. Ты все время с ним.
— Как это случилось? Когда оно случилось?
— Кто его до этого довел?
— А не ты ли со своим сумасбродством?
И Том стал отвечать, ибо давно уже горевал, видя все. — Это из-за Уны, — сказал он хрипло. — Он не снес ее смерти. Он все толковал мне, что мужчина, настоящий мужчина, не имеет права поддаваться губящему горю. Повторял и повторял мне: «Верь, время излечит рану». Так часто повторял, что я понял: не излечится отец.
— Почему же ты нам не сообщил? Мы бы, может, как-то помогли.
Том вскочил, вместе и оправдываясь, и бунтуя.
— Будь оно проклято. О чем же было сообщать? Что он умирает от горя? Что тает мозг его костей? О чем сообщать? Вас-то не было здесь. Вы-то не видели, как меркнут его глаза, а мне пришлось видеть, будь оно проклято.
И Том убежал во двор, тяжко стуча башмаками по кремнистой земле.
Им стало стыдно. Уилл Мартин сказал:
— Пойду верну его.
— Не ходи, — поспешил сказать Джордж, и братья-сестры тоже замотали головами. — Не ходи. Дай ему остыть. Мы его нутро знаем — оно же нам родное. И вскоре Том воротился со двора.
— Я должен извиниться, — сказал он. — Прошу простить. Наверно, я немного пьян. Когда я такой, отец говорит: «Ты навеселе». Я однажды ночью вернулся на лошади, — продолжал он, не щадя себя, — пошел шатаясь через двор, упал, смял розовый куст, на четвереньках всполз по лестнице к себе и наблевал на пол у постели. Утром стал перед отцом извиняться, а он мне угадайте что? «Да ну, Том, ты был просто навеселе». Если я все же явился домой, тогда это у него «просто навеселе». Пьяный, мол, домой не дотащится.
Джордж остановил самобичевание Тома.
— Это мы у тебя просим прощения, — сказал он. — Получилось так, будто мы виним тебя. А мы вовсе не винили. А может, и винили. Уж прости нас.
— Тут на ранчо жизнь чересчур суровая, — рассудительно сказал Уилл Мартин. — Давайте убедим отца продать землю и переехать в город. В городе он сможет жить еще долго и счастливо. Молли и я с радостью примем их к себе.
— Вряд ли он согласится, — сказал Уилл Гамильтон. Он упрям, как мул, и горд, как породистая лошадь. Гордость его е переломишь.
— Попытаться поговорить можно, — сказал муж Оливии, Эрнест. — Мы будем рады принять его, то есть их обоих.
И опять помолчали, ибо мысль, что не будет у всех у них этого ранчо, этой сухой пустыни — изнуряюще-каменистых склонов и тощих ложбин, — мысль эта с непривычки огорошивала.
Благодаря чутью и деловому навыку Уилл Гамильтон неплохо разбирался в тех людских побуждениях, которые не слишком глубоки.
— Если мы прямо предложим ему уйти на покой, сказал он, — то для него это прозвучит, как уйти из жизни, и он откажется.
— Ты прав, Уилл, — согласился Джордж. — Для него это будет равносильно сдаче. Трусливой сдаче. Нет, землю он не продаст, а если продаст, не проживет и недели.
— Есть другой способ, — сказал Уилл. — Пригласим приехать в гости — может, не откажется. На хозяйстве останется Том. Пора уже отцу и матери повидать свет. Вокруг столько всяких событий. Проездится, освежится, а после сможет вернуться к труду. А может, потом и сам не захочет возвращаться. Сам же он говорит, что время сильнее динамита.
— Неужели вы серьезно думаете, что он так глуп и не поймет вашу хитрость? — сказала Десси, отмахнув волосы со лба.
— Иногда человек сам желает быть глупым, если ум не дает ему поступить так, как требуется, сказал многоопытный Уилл. — Во всяком случае, попытаться можно. А вы все как думаете?
Сидящие за столом закивали, соглашаясь, один только Том был хмур и неподвижен.
— Тебе, Том, трудно будет взять ранчо на себя? — спросил Джордж.
— Да это пустяки, — ответил Том. — Вести здешнее хозяйство нетрудно, потому что настоящего хозяйства здесь нет и не было.
— Тогда почему же ты не согласен?
— Неохота обижать отца, — сказал Том. — Он нас раскусит.
— Но какая ж тут обида — в гости пригласить?
Том потер себе уши с такой силой, что они на миг побелели.
— Вам я не запрещаю, — сказал он. — Но сам не могу.
— Можно в письме пригласить — вперемешку с шуточками, — сказал Джордж. А надоест у одного из нас гостить, переедет к другому. Пока у всех перегостит, целые годы пройдут.
На том и порешили.
Том привез из Кинг-Сити, с почты, письмо от Оливии; он знал, что в этом письме, и не стал вручать его при матери, а, повременив, отнес в кузницу. Сэмюэл работал там у горна, руки все в саже. Он взял конверт за самый уголок, положил на наковальню, потом оттер, отмыл руки в бочонке с черной водой, куда опускал раскаленное железо. Острым подковным гвоздем вскрыл конверт и вышел на солнышко прочесть. Тем временем Том снял с тележки колеса и принялся смазывать оси колесной мазью, краешком глаза следя за отцом.
Кончив читать, Сэмюэл сложил письмо, сунул обратно в конверт. Посидел на скамье перед кузницей, глядя в пространство. Снова развернул письмо, перечел, сложил опять, вложил в карман синей рубахи. Встал и неспешно начал подыматься на восточный холм, ногой сшибая с дороги встречные камни.
После недавнего скудного дождя проклюнулась жидкая травка. На полпути Сэмюэл присел на корточки, набрал пригоршню жесткого грунта и пальцем разровнял его на ладони — гравий, кусочки кремня, поблескивающей слюды, чахлый корешок травы, камешек с прожилками. Ссыпал на землю, вытер ладони. Сорвал травинку, закусил ее зубами, поглядел на небо. Серая растрепанная туча неслась на восток, ища, где бы пролиться дождем на дубравы.
Сэмюэл выпрямился во весь рост, неторопливо зашагал с холма. Заглянул под навес для плугов, похлопал рукой по квадратным стоякам. Остановясь близ Тома, крутнул колеса, легко вертящиеся после смазки, и оглядел сына, точно впервые увидел.
— А ты совсем уже взрослый, — промолвил Сэмюэл.
— Только сейчас заметил?
— Да вроде бы и раньше замечал, — сказал Сэмюэл и пошел дальше прогулочным шагом. На лице его играла насмешливая улыбка, столь знакомая домашним, и насмехался он — шутил и внутренне смеялся — над самим собой. Он прошелся мимо убогого садика-огородика, обошел кругом дома, давно уже не нового. Даже пристроенные позже спаленки уже успели посереть, постареть от ветров и солнца, и усохшая замазка отстала от оконных стекол. Прежде чем войти в дом, с крыльца он окинул взглядом всю усадьбу.
Лиза раскатывала на доске тесто для пирога. Она действовала скалкой так сноровисто, что лист теста казался живым — уплощался и слегка толстел опять, упруго подбираясь. Подняв этот бледный лист, Лиза положила его на один из противней, ножом обровняла края. В миске ждали приготовленные ягоды, утопая в алом соку.
Сэмюэл сел на кухонный стул, положил ногу на ногу, стал глядеть на Лизу. Глаза его улыбались.
— День в разгаре, а ты не можешь найти себе работу? — спросила она.
— Могу, матушка, могу, надо лишь захотеть.
— Так не сиди тут, не действуй мне на нервы. Если решил лодырничать, газета в той комнате.
— Прочел я уже газету.
— Всю?
— Все, что мне интересно.
— Что это с тобой, Сэмюэл? Ты что-то затеваешь. Я по лицу вижу. Скажи, в чем дело, и не мешай с пирогами управиться.
Он покачал ногой, поулыбался.
— Такая крохотная женушка, — сказал он. — В кармане не уместится.
— Прекрати, Сэмюэл. Можно иногда пошутить вечером, но пока еще до вечера далеко. Ступай отсюда.
— Лиза, ведомо ли тебе слово «отпуск»?
— Что-то ты расшутился с утра.
— Ведомо ли тебе, что значит это слово?
— Конечно. Что я — дурочка?
— Ну так скажи.
— И скажу — отдых, поездка на взморье. А теперь хватит, Сэмюэл. Убирайся со своими шутками.
— А любопытно, откуда ты знаешь это слово?
— Да к чему ты это? Отчего же мне его не знать?
— А был ли у тебя, Лиза, хоть один отпуск в жизни?
— Ну как же… — Она запнулась.
— За полсотни лет был ли у тебя хотя бы один отпуск, глупенькая ты моя, махонькая женушка?
— Сэмюэл, добром прошу: убирайся из моей кухни, — сказала Лиза тревожно.
Сэмюэл достал письмо из кармана, развернул.
— Это от Олли, — сказал он. — Приглашает нас в гости к себе, в Салинас. Приготовила для нас верхние комнаты. Хочет, чтобы мы внучат узнали ближе. Взяла нам билеты на шатокуанские14 проповеди. В этом сезоне Билли Сандей с дьяволом схлестнется, а Брайан будет речь держать о Золотом кресте. Я бы не прочь послушать. Не великого ума старик, но, говорят, слезу у слушающих вышибает.
Лиза потерла себе нос, выпачкав его при этом в муке.
— А дорого такой билет стоит? — спросила она опасливо.
— Дорого? Да ведь Олли за свои купила. Нам в подарок.
— Нельзя нам ехать, — сказала Лиза. — Нельзя бросать ранчо.
— Том управится — невелико зимой здесь хозяйство.
— Тому одному будет скучно.
— Возможно, Джордж навестит его — приедет поохотиться на перепелок. Смотри, Лиза, что к письму приложено.
— Что это?
— Два билета на поезд в Салинас. Олли шлет, чтобы мы не смогли отвертеться.
— Ты можешь сдать их в кассу и отослать ей деньги.
— Нет, не могу я. Да что это ты, Лиза… Матушка, не надо… Вот… На вот платок.
— Это полотенце для посуды, — проговорила Лиза.
— Посиди, матушка. Ошарашил тебя, вижу, этим отпуском… Возьми. Не беда, что для посуды. Говорят, Билли Сандей прямо сатанеет в схватке с сатаной.
— Это богохульство, — бормотнула Лиза.
— Но я бы не прочь поглядеть. И ведь ты тоже? Подыми-ка голову. Я не расслышал. Что ты сказала?
— Я сказала — я тоже.
Том что-то вычерчивал, когда Сэмюэл вошел к нему в кузницу. Том искоса взглянул на отца — подействовало ли письмо Оливии?
Сэмюэл посмотрел на чертеж:
— Что там у тебя?
— Придумываю приспособление для ворот, чтобы можно было открывать их, не сходя с повозки. Вот это тяга для засова.
— А чем двигать будешь?
— Хочу приладить сильную пружину.
— А запирать? — допытывался Сэмюэл, изучая чертеж.
— Вот стержень — будет под напором скользить в обратном направлении, на пружину.
— Понятно, — сказал Сэмюэл. — И пожалуй, твой открыватель даже будет работать, если ворота навешены без перекосов. Но изготовление и уход за этой штукой займет больше времени, чем сходить с тележки и открывать ворота рукой.
— Но, бывает, лошадь норовистая… — запротестовал Том.
— Знаю, — сказал отец. — Однако главная причина в том, что это тебе забава.
— Попал в точку, — кивнул Том улыбаясь.
— Том, как ты думаешь — справишься ты один на ранчо, если мы матерью уедем погостить?
— Конечно, — сказал Том. — А куда хотите ехать?
— Олли приглашает в Салинас.
— Что ж, отлично, — сказал Том. — А мать не возражает?
— Нет, если не затрагивать тему расходов.
— Отлично, — сказал Том. — А долго думаете прогостить?
Сэмюэл молча подержал Тома под насмешливым взором своих сапфирных глаз. Наконец Том спросил:
— Что так смотришь, отец?
— Да оттеночек один я расслышал в твоем вопросе — еле-еле, но все же уловил. Том, сынок, если ты в сговоре с братьями и сестрами, то это ничего. Это неплохо.
— Не знаю, о чем ты, — сказал Том.
— Благодари же Бога, Том, что тебя в актеры не потянуло, — препоганый бы из тебя вышел актер. Вы сговорились в День благодарения, должно быть, когда все съехались сюда. И у вас идет как по маслу. Чувствуется рука Уилла. Но если не желаешь, то не признавайся.
— Я был против, — сказал Том.
— Да, тобой здесь не пахнет, — сказал отец. — Ты бы правду не скрывал, а сунул бы мне под нос ее распластанную. Не говори остальным, что я вас понял.
Он пошел прочь — и вернулся, положил руку на плечо Тому.
— Спасибо, сын, что уважил меня правдой. Пусть не хитроумна правда, но зато прочна.
— Я рад, что ты едешь.
Сэмюэл остановился в дверях кузницы, оглядел свою скудную землю.
— Недаром говорится — чем дитя уродливей, тем оно матери дороже, сказал он и тряхнул головой. — Уважу и я тебя правдой, Том, а ты храни ее, пожалуйста, у себя на самом дне души, братьям и сестрам ни гугу. Я сознаю, почему еду, и сознаю, Том, куда держу путь, — и согласен на это.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Почему жестокая реальность жизни и смерти ранит одних больнее, а других легче? Смерть Уны вышибла почву из-под ног у Сэмюэла, пробила ограду его твердыни и впустила старость. А вот Лизу, любившую своих детей никак не меньше, чем Сэмюэл, это несчастье не убило, не искалечило. Жизнь Лизы продолжала идти ровно. Погоревав, она пересилила горе.
По-моему, дело в том, что Лиза принимала мир так же, как Библию, — со всеми парадоксами и превратностями. Смерть была ей немила, но Лиза знала, что смерть существует, и приход ее не потряс Лизу.
Сэмюэл же мог играючи размышлять и философствовать о смерти, но по-настоящему он в нее не верил. В его мире не было места смерти. Все окружающее вместе с ним было бессмертно. Так что реальная смерть грянула как кощунственное оскорбление, как отрицание бессмертия, в которое он верил всем нутром, — и от первой же этой трещины в стене обрушилась вся его крепость. По-моему, он всегда думал, что сможет переспорить смерть. Она мыслилась ему как личный враг, которого он может победить.
Для Лизы смерть была просто смерть, заранее обещанная и жданная. Лиза горевала, но и горюя ставила тушить фасоль, испекла шесть пирогов и в точности рассчитала, сколько чего понадобится для достойной трапезы после похорон. И могла, горюя, присмотреть за тем, чтобы на Сэмюэле была свежая белая рубашка и чтобы его черный тонкого сукна костюм был чист, без пятен, и башмаки начищены. Быть может, для семейной жизни требуется именно такая разница характеров, скрепляющая брак двойной и тройной скрепой.
Принять правду жизни Сэмюэл, пожалуй, был способен даже глубже Лизы, но сам процесс принятия увечил ему душу. После того как решено было ехать гостить в Салинас, Лиза не спускала с него глаз. Своим заботливо-материнским чутьем она знала: Сэмюэл что-то задумал, хоть и не ведала, что именно. Но она была реалистка и потому радовалась случаю навестить детей, поглядеть на них и на внучат. У Лизы не было привязанности к месту, к дому. Дом — это лишь промежуточная остановка по пути на Небеса. Труд сам по себе был ей малоприятен, но она трудилась, ибо иначе нельзя. И утомилась Лиза. С каждым утром ей все тяжелее становилось вставать с постели, одолевать ломоту и онемелость, хоть она их неизменно одолевала.
И Небеса вставали перед ней желанной пристанью, где одежда не грязнится, где не надо готовить еду и мыть посуду. По секрету говоря, она не все небесное одобряла без оговорок. Слишком много там пения, и непонятно, как Избранные — при всей их праведности — могут долго выдерживать райское обетованное безделье. Нет, она и на небе найдет себе работу. Там непременно сыщется чем занять руки — прохудившееся облачко заштопать, усталое крыло растереть лекарственным бальзамом. Время от времени придется, может, перевертывать у небесных хламид воротники — и, положа руку на сердце, не верится, чтобы даже и на Небесах не завелось где-нибудь в углу паутины, которую надо снять тряпкой, навернутой на швабру.
Предстоящая поездка в Салинас радовала ее настолько, что она даже пугалась: нет ли в этой радости чего-либо греховного? Не окажутся ли кощунственными шатокуанские проповеди? Но ведь ходить на них не обязательно, и она вряд ли пойдет. Сэмюэл расскачется на воле — за ним нужен будет глаз. «Молодо-зелено, за руку надо водить» — так думала она о нем когда-то, так думала и до сих пор. И хорошо, что ей было невдомек, какая мысль владеет душой Сэмюэла и — через душу — к чему приуготовляет тело.
Для Сэмюэла дом и место значили очень много. Со своим ранчо он сроднился и теперь, уезжая, точно нож вонзал в родное существо. Но расстаться решено — и Сэмюэл расставался по всей форме. Он нанес визиты всем соседям — старинным друзьям, помнившим былое, от которого мало что осталось. И когда прощался с ними, то чувствовалось — прощается он навсегда. Сэмюэл глядел теперь на горы и деревья и даже на лица, словно запоминая их навек.
К Адаму Траску он заехал под самый конец. Много месяцев уже он не был здесь. Адам стал немолод. Мальчикам исполнилось одиннадцать, а Ли — ну, он-то не слишком изменился. Ли шагал рядом с тележкой Сэмюэла, подъезжающей к конюшне.
— Давно хотелось с вами побеседовать, — говорил Ли. — Но столько всякой работы. И стараюсь хоть раз в месяц бывать в Сан-Франциско.
— Так уж оно у нас, — вздохнул Сэмюэл. — Друга навестить не торопимся никуда, мол, не уйдет. А вот когда заходит, тогда каемся-кручинимся.
— До меня дошла весть о вашей дочери. Скорблю вместе с вами.
— Я получил твое письмо, Ли. Я храню его. Ты нашел хорошие слова.
— Это китайские слова, — сказал Ли. — С годами и я все больше становлюсь китайцем.
— Какая-то в твоей внешности перемена, Ли. А какая, не пойму.
— Коса исчезла, мистер Гамильтон. Я косу отрезал.
— Вон оно что.
— Все китайцы поотрезали себе косы. Вы разве не слышали? Вдовствующей императрицы уже нет. Китай свободен. Маньчжуры больше не правят нами, и мы не носим кос. Отменены указом нового правительства. В Китае не осталось ни единой косы.
— А какая разница, Ли?
— Разница небольшая. Голове легче. Но от этой легкости как-то неуютно. Трудно привыкнуть к новому удобству.
— Как поживает Адам?
— Да ничего. Но переменился мало. Разве он таким был в свои светлые времена?
— И мне эта мысль приходила на ум. Короткое цветенье было у Адама. А мальчики, должно быть, уже большие?
— Большие. Я рад, что остался при них. Я многое постиг, наблюдая, как они растут, и слегка помогая их росту.
— Китайскому их научил?
— Нет. Мистер Траск не захотел. И пожалуй он прав. Зачем зря усложнять им жизнь. Но я с мальчуганами в дружбе — да, мы друзья. Отца они чтут, а меня, думается, любят. И они очень разные. Вы не представляете, какие разные.
— В каком смысле разные, Ли?
— Вот придут из школы, и сами увидите. Они как две стороны медали. Кейл хитер, зорок, смуглолиц, а брат его — такие нравятся с первого взгляда, и чем больше узнаешь, тем больше нравятся.
— А Кейл тебе не нравится?
— Я ловлю себя на том, что мысленно защищаю его от своих же собственных упреков. Он непрестанно борется за место под солнцем, а брату и бороться не надо.
— И в моем выводке такое наблюдается, — сказал Сэмюэл. — Непонятно, почему. Воспитание одно, и кровь одна, и вроде бы должны быть схожи, а на самом деле — нет, все разные.
Позже Сэмюэл с Адамом прошлись под дубами к началу подъездной аллеи, где открывался вид на долину.
— Оставайся обедать, — сказал Адам.
— Не хочу снова быть виновником убиения кур, сказал Сэмюэл.
— Ли натушил говядины.
— Ну, тогда другое дело…
Адам так и остался косоплеч после той пули. Лицо жесткое и словно занавешенное, а взгляд обобщенно-беглый, не вбирающий деталей. Остановившись, оба поглядели на салинасскую долину, зеленую от ранних дождей.
— А совесть не мучает, что земля лежит втуне? — тихо проговорил Сэмюэл.
— Незачем мне ее возделывать, — сказал Адам. — Мы уже толковали об этом. Ты думал, я переменюсь. А я не переменился.
— Гордишься своим горем? — спросил Сэмюэл. Чувствуешь себя трагическим героем?
— Не знаю.
— А ты поразмышляй над этим. Возможно, ты играешь роль на высокой сцене перед единственным зрителем — самим собою.
— Ты приехал наставлять меня? — В голосе Адама послышалась злая нотка. — Я рад тебе. Но зачем ты лезешь мне в душу?
— Хочу рассердить тебя, растормошить немного. Я ведь люблю совать нос всюду. А тут вся эта земля пропадает зря, и человек рядом со мной зря пропадает. Транжирство получается. А транжирства я себе никогда не мог позволить, и мне неприятно глядеть. Разве это хорошо, чтобы жизнь проходила втуне?
— А что мне остается?
— Заново начни.
— Боюсь я, Сэмюэл, — сказал Адам, обратись к нему лицом. — Пусть уж лучше так и будет. Видно, нет во мне энергии, или храбрости нет.
— А сыновья твои — любишь их?
— Да… Люблю.
— Одного сильней, другого меньше?
— Почему ты это спросил?
— Не знаю. Что-то уловил такое в твоем тоне.
— Пошли-ка в дом, — сказал Адам. Они повернули назад, в тень деревьев. Неожиданно Адам спросил: — До тебя не доходил слух, будто Кэти в Салинасе? Ничего такого не слыхал?
— А ты?
— Слыхал, но не верю. Не могу поверить.
Сэмюэл молча шагал по песчанистой колее дороги. А мысленно вошел в колею души Адама — вошел неохотно, устало; он думал, что у Адама уже покончено с Кэти.
— Ты никак не можешь ее позабыть, — проговорил он наконец.
— Видно, не могу. Но пулю я уже забыл. Об этом я больше не думаю.
— Я не в силах научить тебя жить, — сказал Сэмюэл, — хотя сейчас силюсь именно учить. Знаю, что лучше бы тебе не грезить о несбывшемся, а вырваться на вольные ветры земли. Я говорю это тебе, а сам перебираю в памяти былое, вот как выгребают из-под салуна мусор и перемывают в поисках золотых песчинок, просыпавшихся в щели пола. Этакое золотоискательство по мелочишке, для старичишки. А ты не старик еще, Адам, тебе рано жить воспоминаниями. Тебе надо накопить новых воспоминаний, чтобы в старости золотодобыча была обильнее.
Адам слушал потупясь, шевеля желваками на скулах.
— Так, так, — сказал Сэмюэл, глянув на него, — Сжимай упрямо зубы. Как мы цепляемся за свою неправоту! Хочешь, опишу тебе твои грезы, чтобы ты не думал, что первый этим мучишься. Вот лег ты, задул лампу — и она встает в дверях, очертясь среди полумрака, слегка колышется подол ее ночной сорочки. И подходит, улыбаясь, к твоей постели, и ты, затаив дыхание, откидываешь одеяло, чтобы принять ее, и подвигаешь на подушке голову, чтоб ее голова легла рядом. Вдыхаешь аромат ее кожи, единственный на свете…
— Перестань! — крикнул Адам. — Перестань, будь ты проклят! Не суй носа в мою жизнь! Не обнюхивай точно койот дохлую корову.
— Я почему это знаю, — тихо сказал Сэмюэл, — что и ко мне приходила вот так ночами гостья — месяц за месяцем, год за годом — и сейчас приходит. И надо бы мне запереть от нее мозг и сердце семью замками, а я не запер. И все эти годы я обманывал Лизу, давал ей неправду, подделку, а свое лучшее хранил для тех тайных грез. И, наверное, мне легче было бы, если бы и у Лизы оказался такой тайный гость. Но уж этого я никогда не узнаю. Только, думаю, она бы заперла от него свое сердце и зашвырнула ключ в тартарары.
Адам слушал, сжав пальцы в кулаки, так что костяшки побелели.
— Ты меня в сомнение вгоняешь, — произнес он яростно. — Всякий раз. Я тебя боюсь. Что же мне делать, Сэмюэл? Скажи ты мне! Не понимаю, как ты смог все разглядеть так ясно. Какое нужно мне лекарство?
— Лекарства я знаю, Адам, хотя сам не употребляю их. А знать я знаю. Тебе надо найти какую-нибудь новую Кэти. Чтобы новая убила прежнюю, тобой придуманную. Пусть обе решат дело смертной схваткой. А ты будь при сем и отдай душу победительнице. Но это лекарство не самое лучшее. Лучше всего бы тебе найти свежую, совсем иную красоту, чтобы напрочь вытеснила старую.
— Боюсь начинать заново, — сказал Адам.
— Это я уже от тебя слышал… А теперь упомяну о себе, грешном. Я уезжаю, Адам. Приехал проститься.
— Это как понимать?






