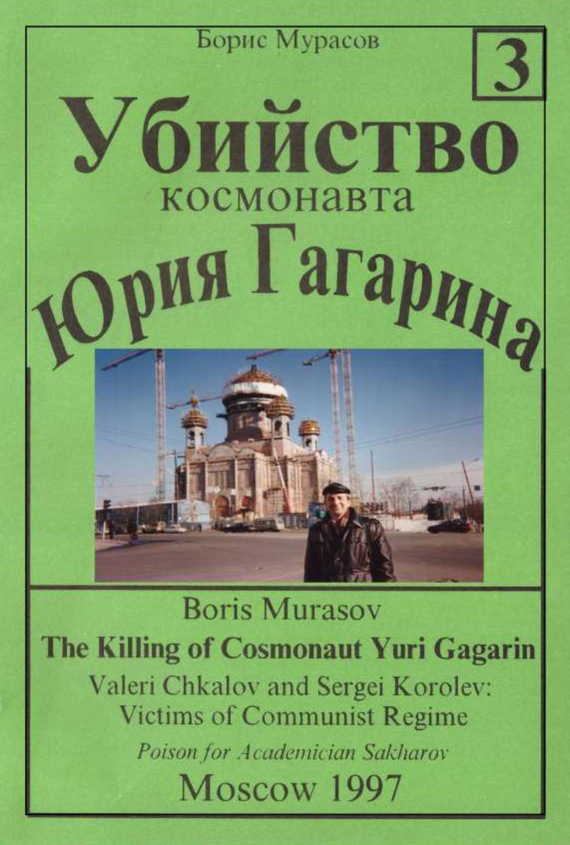Никто не услышит мой плач. Изувеченное детство Питерс Джо

Врач осмотрел меня, выслушал ее рассказ и потом объяснил, что, по его мнению, могло произойти.
– Я думаю, Джо онемел от пережитого потрясения, – мягко сказал он.
Очевидно, доктор беспокоился о чувствах матери не меньше, чем о том, что случилось со мной.
– Уильям был таким замечательным мужем и отцом, – снова начала мать. – Это трагедия для всей семьи, но особенно для Джо. А теперь мой малыш еще и потерял дар речи. Когда он оправится от потрясения? Сколько еще он будет не в состоянии разговаривать?
– Это может быть кратковременным состоянием, – неуверенно сказал врач. Он был явно сбит с толку. – Или продолжаться довольно долго. Посмотрим, как будут развиваться события.
Когда мы выходили из кабинета, до мамы уже дошло, что я действительно онемел, а не притворялся. Ее порядком раздражало, что нелюбимый сын снова причиняет беспокойства и пытается привлечь к себе внимание, но подозреваю, что на подсознательном уровне она уже оценила открывающиеся перед ней возможности, даже на этом этапе. Если я не мог говорить, то и рассказать никому ничего не мог.
Пройдет четыре с половиной года, прежде чем я снова смогу нормально говорить, но до этого момента мой мозг оставил меня абсолютно беззащитным перед маминой властью. Лишившись возможности говорить, я был абсолютно беспомощен. После потери голоса мое разочарование выросло еще сильнее и приводило к неконтролируемым вспышкам гнева, во время которых я ломал мебель, разбрасывал вещи и пинал двери в своей немой ярости.
Я не осознавал этого, но чем хуже я себя вел, тем больше играл маме на руку, лишь подтверждая, что я был трудным ребенком, а она – прекрасной женщиной, которой пришлось воспитывать меня в одиночку вдобавок к еще пятерым детям.Мама наслаждалась жестокостью и, похоже, получала от наблюдения почти такое же удовольствие, как и от собственного участия в процессе. Она создала из подручных материалов некое подобие боксерского ринга во второй гостиной дома и заставляла трех моих старших братьев драться друг с другом, выступая в роли тренера, болельщицы и зрителей. Эта комната была не так хорошо прибрана и обставлена, как остальные, потому что мама выставила всю свою лучшую мебель в другой гостиной. В эту часть дома никогда бы не пригласили постороннего. Здесь остались только старый камин, невзрачный диванчик да кресло. Эта комната могла бы стать уютной гостиной, если бы мы были настоящей дружной семьей. Без сомнения, здесь мама могла расслабиться и отдохнуть, не беспокоясь о крови, попавшей на ковер. Шторы и тюль на окнах этой комнаты всегда были задернуты для дополнительной защиты от любопытных глаз. Даже если мама открывала окна, чтобы впустить немного свежего воздуха, она никогда не раздвигала шторы, и никто из внешнего мира не мог взглянуть в ее личное графство и увидеть, что там происходит. Когда мать была не прочь поразвлечься, она сидела в этой комнате и пила чай, заставляя старших братьев драться снова и снова, словно гладиаторов в Древнем Риме, пока у одного из них не пойдет кровь.
– Вперед! – кричала она, усмехаясь. – Врежь ему! Убей его ко всем чертям!
Если братья пытались отказаться, то получали уже от мамы, а это было намного хуже любых вещей, которые они могли сделать друг с другом. Не важно, было ли им на самом деле больно – она настаивала на продолжении боя до первой крови, ударяя их палкой, если братья пытались остановиться. Она не могла позволить про явить неповиновение, не могла хоть на секунду показать свою слабость или доброту. Ничто не должно было развеять тот страх, на который она полагалась, чтобы править нами. Как только у одного из них начиналось кровотечение, мать позволяла ему выйти с ринга, ставя на его место другого, чтобы определить победителя. Она говорила им, что просто хочет научить их драться, закаляя их, чтобы они могли постоять за себя в окружающем мире, но все это было похоже на то, будто мама сама в себе утоляла жажду крови. Единственный человек, от которого им нужно было защищаться – это их собственная мать.
Большая часть насилия в нашем доме совершалась непосредственно мамой. Если кто-то из нас осмеливался не подчиниться ей или даже просто не так на нее посмотреть, на него немедленно обрушивалась слепая ярость матери. Иногда ей даже не нужна была причина; она просто выходила из себя и выплескивала гнев на того, кто попал под руку. Она хватала нас с Томасом за волосы и буквально поднимала и таскала за них, пока ноги не отрывались от земли, а потом бросала об стену. Иногда мамина сила казалась нечеловеческой. Если ей не удавалось нормально поднять меня в первый раз, мать повторяла «маневр» снова и снова, до первой удачной попытки.
Продолжая спектакль об «обиженной вдове», мама успешно отсудила у автомастерской несколько тысяч фунтов в качестве компенсации за папину смерть, и Граэму вскоре пришлось закрыть дело. Лучший друг отца, Дерек, чувствовал себя таким виноватым, что не смог помочь, когда того охватило пламя, что написал предсмертную записку и на полной скорости съехал с трассы, таким образом покончив с собой. Казалось, что последствия этого маленького порыва ветра будут расходиться вечно, словно круги от брошенного в пруд камня.
Мама решила сломить мой дух и остановить разрушительное поведение раз и навсегда, избивая меня так жестоко и так часто, что я наконец понял: я никогда больше не должен задавать ей вопросы или смотреть на нее, не отводя взгляда. Мать постоянно предупреждала меня, что в следующий раз, когда я ей надоем, она убьет меня, и, валяясь бесформенной кучей мяса на полу, у меня не было причин сомневаться в ее словах. Она даже не пыталась сдерживать свою силу – никакого самообладания, страха покалечить или даже убить кого-нибудь. Для меня стало привычным получать незаслуженные удары по голове или пинки, даже при хорошем поведении я выводил мать из себя, только лишь потому, что напоминал об унижении, через которое заставили ее пройти отец и Мэри.
Тот факт, что я был по-настоящему немым и лишь издавал какие-то писки и визги вместо слов, раздражал ее еще сильнее. Как будто она считала, что я дразнюсь своим хныканьем, умоляющим взглядом и резким киванием, хотя я просто пытался отговорить ее от дальнейших побоев. Она убедила себя, что я не человек; я превратился в ненавистное животное для пинков, ударов и оскорблений, обрушивающихся на меня при первой возможности. Я был похож на избитую собаку, которая крадется в тени с опущенной головой и взглядом, устремленным в пол.
Когда я впервые потерял голос, я нашел другие средства общения. Если мне чего-то хотелось, я показывал на этот предмет и хрюкал, но даже это сводило мать с ума, и вскоре я совсем перестал общаться. Она не скрывала, что с каждым днем ненавидит меня все больше и больше; на этом этапе я ничего не мог изменить.
«Не показывай сраным пальцем», – раздраженно говорила она, отвешивая мне такую оплеуху, что я не мог удержаться на ногах.
«Не смотри на меня, черт тебя дери!»
«Ты воняешь, как дерьмо!»
Все сходило за предлог ударить меня и продолжалось снова, снова и снова. Мать собирала каждую капельку гнева и разочарования, которые вызывал у нее весь мир вообще и мой отец в частности, и обрушивала весь поток на меня. Она поощряла подобное обращение ко мне у других, Ларри и Барри были рады объединиться с ней, наслаждаясь тем, что кто-то в семейной иерархии стоял даже ниже их. Они всегда хотели угодить маме и быстро поняли, что любое издевательство надо мной заработает ее одобрение и удовлетворит их собственные садистские наклонности.
Я продолжал спать на полу в комнате Ларри и Барри. У Уолли была своя комната наверху, а еще одну делили Томас и Элли. Я бы очень хотел спать у них, но был не настолько глуп, чтобы спорить с маминым решением. Я должен был оставаться в спальне весь день, кроме времени принятия пищи, и мне не разрешалось ни с чем играть, особенно с вещами братьев. Если я хотя бы прикасался к одной из их вещей, меня избивали, а у меня не было ничего, с чем можно было поиграть. Скука от сидения на одном месте в течение всего дня усиливала чувства изоляции и разочарования, растущие во мне, пока у меня буквально не начинали чесаться руки, чтобы что-то сломать или разрушить. Но у меня никогда не хватало смелости.
Ночью мне не давали матрас или подушку, только одеяло. Ларри и Барри делили двуспальную кровать. Мое присутствие в доме раздражало их так же, как маму. Они задирали меня при любой возможности и всякий раз, когда бесились и нарушали мамин покой, делали из меня козла отпущения. Она укладывала всех нас спать в шесть или семь вечера, чтобы освободить себе немного времени и напиться в одиночестве. Мы обычно просыпались в четыре или полпятого утра, желая встать и подвигаться. Если Ларри и Барри начинали беситься, дерясь в кровати и пукая друг на друга, мама от этого просыпалась и кричала через стенку: «А ну-ка заткнитесь, на хрен!» – «Это Джо», – кричали они в ответ. Я открывал рот, чтобы заявить о своей невиновности, потому что боялся неизбежно следовавшего наказания, но не мог произнести ни звука. Ларри и Барри победно хихикали, предвкушая скорое развлечение.
Взбешенная тем, что ее разбудили, и мыслью, что я осмелился играть после всего, что она сделала, чтобы усмирить меня, мать влетала в комнату и снова избивала меня. То, что я не мог защитить себя и доказать свою невиновность из-за отсутствия голоса, не играло никакой роли. В любом случае, сомневаюсь, что она бы мне поверила.
Ларри и Барри отлично ладили, водой не разольешь. Они приказывали мне делать что-нибудь, из-за чего я точно должен был попасть в неприятности. В пять лет меня переполняли сдерживаемая энергия и скука, и, жаждущий угодить своим старшим братьям, чтобы избежать их побоев, я легко поддавался их влиянию. Все заканчивалось тем, что я становился единственным пойманным с поличным. Когда что-нибудь случалось, мама всегда обвиняла меня, даже если было очевидно, что я не имею к произошедшему никакого отношения.
«Ничего такого не случилось бы, если бы ты не по явился», – говорила она по поводу малейшего нарушения ее правил, после чего на меня обрушивался очередной град ударов, она таскала меня за волосы. Мой рот был готов разорваться, но из него не вылетало ни единого звука. Горло отказывалось кричать.
Одним мрачным утром, всего через несколько месяцев после смерти папы, у мамы лопнуло терпение. Ей надоело, что ее сон нарушают. Она стянула меня за волосы по лестнице, крича во все горло: «В этот раз ты зашел слишком далеко, чертов маленький ублюдок. Ты меня вконец достал. Я больше не собираюсь это терпеть. С меня, черт возьми, хватит!»
Я действительно поверил, что она наконец собирается убить меня. Мать довольно часто говорила, что когда-нибудь сделает это. Под лестницей была дверь, которая, как я предполагал, вела в кладовку для метел; я никогда не видел, чтобы кто-то открывал ее или упоминал, что там находится, но мне предстояло вскоре это выяснить. Дотащив меня за собой по полу до двери под лестницей, мама распахнула ее. Я увидел еще одну лестницу, ведущую вниз, в кромешную тьму, и меня охватило дурное предчувствие. Что могло быть в кладовке? Может быть, туда мать отводила людей, которых собиралась убить?
Она включила свет, и я впервые увидел подвал. Правда, что это называется «подвал», я узнал позднее. Он не имел ничего общего с чистым, опрятным миром остальных комнат в доме. Здесь витал запах плесени и сырости, а единственным источником света была одинокая лампочка. Стены из грубого кирпича и необработанного дерева были во многих местах украшены паутиной. Мама толкнула меня и начала спускаться вслед за мной, подгоняя пинками и ударами. Внизу была еще одна деревянная дверь, большая и прочная, выполненная в викторианском стиле. Она открыла ее и швырнула меня внутрь последним сильным ударом, как будто я был мешком с соломой, потом включила еще одну лампу, и я смог увидеть весь ужас этого места.
В подвале не было ничего, кроме старого грязного матраса, прислоненного к стене. Мать не могла терпеть меня ни секунды дольше. Она захлопнула за мной дверь и выключила свет. Я слышал, как она чем-то блокирует ручку двери, чтобы я не смог выйти. После того как ее шаги на лестнице затихли, меня окружили тишина и мрак.
Сначала мне показалось, что я остался в кромешной тьме, но глаза постепенно привыкли, и я заметил несколько тонких лучей света, просочившихся через не обожженный кирпич высоко в стене. Этого было достаточно, чтобы я огляделся после наступления рассвета. Даже если бы мама не заперла меня, я осознавал, что не стоит пытаться открыть дверь и включить свет без ее разрешения. Холод пронизывал меня до костей, и я просто дрожал в темноте, оставшись в одних трусах и ожидая, что произойдет дальше. Я слушал, как поезда с грохотом проносятся мимо дома, мечтая иметь возможность забраться в один из теплых, светлых вагонов, которые я видел так много раз, и умчаться как можно дальше от этого места.
Я попал в мир, о существовании которого даже не догадывался несколько минут назад, в мир, который стал моей тюремной камерой на ближайшие три года.Глава 6 Заключение в тюрьму
Не думаю, что у мамы были какие-то далекоидущие планы по превращению этой маленькой темной подземной комнаты в мою тюремную камеру, когда она впервые впихнула меня туда и заперла дверь. На этой стадии на двери еще не было замка, он появился позже, значит, можно предположить, что мое заключение не планировалось заранее. Думаю, я просто надоел маме тем утром (надоел тот, в ком она видела испорченного и неугомонного ребенка) и она хотела убрать меня с дороги и преподать мне урок раз и навсегда. Но стоило мне однажды попасть в «клетку», как мать поняла, что это идеальное место для меня. Она случайно нашла выход: я совершенно не попадался на глаза, но при этом в любой момент можно выплеснуть на меня злость и обиду, когда она больше не в силах их сдерживать. И держать меня в подвале можно, сколько ей заблагорассудится, ведь никто не спросит у нее отчета.
Когда пропадает ребенок, обычно паникующие и охваченные горем родные и близкие поднимают тревогу, но в моем случае именно они заставили меня исчезнуть, так что кто мог это заметить? Других людей, которые могли беспокоиться обо мне, например Мэри и тетю Мелиссу, мама прогоняла с самого начала. Они и не ждали от меня весточки.
В то время как другие дети играли на улице, греясь под солнцем, ходили в школу, заводили друзей и узнавали много нового, я сидел один в темноте. Насколько мне известно, никто из службы социальной опеки не спрашивал, где я или что со мной. Возможно, они приходили к матери, но ей удавалось убедить их, что все в порядке, рассказав пару-тройку сказок. Она могла сказать, что я переехал, но в этом случае, думаю, ей пришлось бы предоставить хоть какие-то координаты моего местонахождения, чтобы ее слова подтвердились. Мое имя должно было присутствовать в системе, ведь я наблюдался у врача, когда онемел, так что, по крайней мере, у меня должен был быть номер общественного здравоохранения или социального страхования. И я уверен, что мама получала пособие от департамента социального обеспечения за каждого члена многодетной семьи, ей было нужно каждое пенни из этих средств. Так как же все эти службы могли потерять меня из виду и не почуять неладное? Возможно, они были сбиты с толку тем, что я жил по двум разным адресам – у мамы и у Мэри. Или просто были слишком загружены. Не знаю, и вряд ли когда-нибудь это выясню.
После непродолжительного сидения на голом полу в первый день моего заключения, когда я старался расслышать шаги матери, спускающейся по лестнице, чтобы снова меня избить, я нашел в себе мужество встать и расправить матрас на полу. По крайней мере, на нем было удобнее лежать. Я чуть не свалился от спертого, влажного зловония, которое источал матрас. Оно заполнило мои легкие, заставляя хрипеть и задыхаться. Хотя матрас был полон неровностей и острых выступов, я с облегчением перебрался с жесткого, холодного бетона. Я был настоящим хлюпиком, так что и такое улучшение условий было для меня значительным.
Я лежал, уставившись в темноту, и через некоторое время у меня появилось желание пописать. И оно все росло. Я не опустошал мочевой пузырь с прошлого вечера и чувствовал, что он переполнен. И это больно. Я не представлял, сколько времени проведу здесь, и уж точно не решился бы постучать в дверь и попросить помощи или попытаться открыть ее и пробраться наверх в кромешной тьме. Зная, как мама злится, когда я случайно писаюсь, я старался держаться, но боль со временем становилась все сильнее. Мне пришлось сдаться, и я помочился на пол. И даже когда приятное чувство облегчения распространялось по телу, я думал о том, что у меня будут большие неприятности, если мама заметит лужу. Я надеялся, что она не вернется, пока лужа не высохнет, но чувствовал, что это маловероятно. Моча добавила в воздух новый запах, и, хотя я испытал сильное облегчение, в то же время почувствовал себя еще более грязным. Я снова лег на матрас и ждал, что же произойдет, размышляя, настал ли мой конец и буду ли я брошен здесь один, обреченный на смерть от голода и жажды.
Несколькими часами позже я услышал шаги на лестнице, и в моей «камере» неожиданно загорелся свет, почти ослепив меня. Когда мама открыла дверь и вошла, я сразу заметил по выражению ее лица, что она почувствовала запах, и отпрянул, готовясь получить взбучку.
– Ах ты маленькая грязная дрянь! – прорычала мать. Ее губы в отвращении искривились. – Ты даже не приучен жить в доме.
Как и ожидалось, она взбесилась, ведь я посмел запачкать ее дом. То, что это был его самый дальний, грязный и забытый угол, не считалось. Вооружившись новым поводом разозлиться, мама стащила меня с матраса за волосы и сильно избила.
Все еще крепко держа меня за волосы, она опустила меня на колени и изо всей силы макала лицом в лужу мочи, как будто я был крайне упрямым щенком, которого хотели научить больше не гадить. Мать толкала меня с такой силой, что я боялся, как бы она не сломала мне нос.
– Маленький грязный ублюдок! – кричала она, возя меня по луже лицом, а потом позвала Уолли: – Принеси гребаную швабру и ведро!
Когда Уолли второпях спустился к нам, мать со всей силы швырнула швабру в меня.
– Мой, – приказала она.
И смотрела, как я работаю, периодически отдавая указания: «Три сильнее! Больше воды!» Потом она повернулась к Уолли:
– Принеси еще два ведра холодной воды. – И он послушно вернулся наверх, чтобы вылить грязную воду.
Я думал, маме нужна свежая вода, чтобы ополоснуть пол, но как только Уолли принес ведра, она отправила его к себе, а потом окатила меня водой из обоих ведер. От холодной воды у меня перехватило дыхание.
– Ты воняешь, – прорычала мама. – Маленький грязный ублюдок!
Она оставила одно ведро, чтобы я использовал его в качестве туалета. Дверная ручка снова была заблокирована с другой стороны, а я – брошен один в темноте. Я дрожал на мокром матрасе и чувствовал себя самым одиноким существом в мире. Что со мной случится? От чего я умру раньше: от холода или от голода?
Вообще-то, как правило (но не всегда), кто-нибудь из семьи приносил мне еду раз в день, но чем дольше я находился внизу, тем больше меня ненавидела мать и тем меньше хотела кормить меня. Во мне она видела только беспокойство и помеху, предпочитая выкинуть меня из головы. Иногда она приносила мне объедки сама, иногда посылала Ларри и Барри, которые наслаждались новой возможностью поиздеваться надо мной. Они были уверены, что собачку посадили в клетку, так что им не придется больше терпеть ее вонь в своей спальне. Однажды поняв, что, чем хуже они со мной обращаются, тем приятнее будет маме, Ларри и Барри стали пользоваться каждой возможностью удовлетворить свою ненависть и садистские наклонности. Как и раньше, они плевали мне в еду и вываливали ее на пол, заставляя слизывать ее по-собачьи. И это было в тысячу раз хуже на мерзком грязном полу подвала, чем на чистом полу маминой кухни. Если я отказывался выполнять какой-то из их приказов, братья звали маму.
– У Джо был очередной приступ гнева, мам, – говорили они. – Он разбросал свою еду по полу. Что нам делать?
Мама с грохотом спускалась по лестнице, избивала меня и тыкала лицом в еду, чтобы преподать мне урок вежливости и благодарности. Когда мне приносили воду в бутылках, у нее всегда был странный вкус, и я понятия не имею, что в нее добавляли. Иногда крышки бутылок были приклеены, так что мне приходилось прогрызать пластмассу, чтобы получить воду. Мои молочные зубы вскоре стали такими слабыми от недоедания и несоблюдения гигиены, что крошились и ломались от любой нагрузки. Зубная боль добавилась к длинному списку различных болей, от которых я страдал. В конце концов меня перестало волновать, как сильно что-то будет болеть или какая вода на вкус, потому что я был измучен жаждой настолько, что выпил бы что угодно.
Иногда мама забирала даже мои трусы, потому что считала, что я их испачкаю: «Маленький грязный ублюдок. Тебе нужно преподать урок!» – и оставляла меня голым на несколько дней. С внешней стороны двери она приделала задвижку, чтобы не приходилось каждый раз блокировать ручку и чтобы я уж точно не смог выбраться сам. Иногда меня оставляли одного на день или два, и я задавался вопросом: что будет, если все окончательно обо мне забудут? Я все равно предпочитал хранить молчание и мирно умереть, чем стучать в дверь и напоминать о своем существовании. Ведь последний вариант обрушил бы на мою голову еще больше боли и ярости.
Наказывая меня за что-либо, мама часто говорила о папе, и ее удары и пинки сопровождались длинными тирадами: «Черт, он был мерзким человеком и ужасно хреновым мужем. И ты – такой же гребаный засранец, как и он».
Боль, которую отец причинил матери, похоже, не собиралась затихать, а, наоборот, доводила ее до бешенства. Мамина одержимость отцом была сильнее сейчас, после его смерти, чем когда он был еще жив. Может быть, ее бесило, что в смерти он нашел спасение, не дав превратить свою жизнь в еще больший кошмар? И теперь мать отыгрывалась на мне.
«Каждый раз, когда я смотрю на тебя, я вспоминаю об этом больном ублюдке!» – говорила она, обрушивая новую волну ударов.
Я все еще ловил себя на том, что думаю о папе все время, вспоминая, как нам было хорошо вместе, и желая всем сердцем, чтобы он был жив. Проводя долгие часы в одиночестве и заточении, я мысленно разговаривал с отцом, как разговаривал раньше в машине или мастерской. Я представлял, что он сидит на матрасе напротив и отвечает мне. Когда мои руки и ноги затекали или замерзали, я вставал и ходил по подвалу, пытаясь размяться и воображая, что гуляю с папой. В те дни я испытал все известные человеку эмоции. Иногда я злился на него за то, что он был так беспечен со своей жизнью и оставил меня одного с матерью и остальными, хотя знал, что мне нужна защита. Иногда предавался черному, бескрайнему отчаянию. Больше всего на свете мне хотелось умереть, чтобы я мог быть все время с ним.
– Боже, я хороший мальчик, – молился я. – Пожалуйста, забери меня тоже. Пожалуйста, позволь мне быть с моим папой.
Иногда я мечтал. Я представлял, что у меня прекрасные мамочка и папочка, оба живые и любящие меня, и мы все вместе счастливо живем в прекрасном доме. Эти образы в моей голове казались почти реальными. Мечты помогали скоротать какое-то время, но потом приходилось вернуться от моих видений к реальности, к ноющему желудку, осознать, что все это только у меня в голове, а на самом деле я лежу голодный в темноте и ужасном холоде.
Иногда никто не заходил ко мне так долго, что вед ро, которое я должен был использовать в качестве туалета, наполнялось почти до краев. Когда это происходило, я терпел столько, сколько мог, боясь, что меня снова будут макать лицом в лужу. Но, в конце концов, мне приходилось сдаться. Вонь от ведра становилась такой невыносимой, что любого, входящего в мою камеру, вырвало бы, поэтому все закрывали нос и рот руками, укрепляясь во мнении, что я – отвратное, вонючее существо, ничем не лучше животного в клетке, которую периодически нужно чистить и мыть. После наполнения ведра и образования под ним лужи, я старался найти другое место, где лужа была бы незаметна, но маму ни разу не удалось провести. Заканчивалось все, как обычно, тем, что меня макают в мочу лицом.
Однажды, после того как я пробыл в подвале несколько месяцев, мама сделала неожиданное объявление.
– Ты так воняешь, – сказала она мне, – что даже наверху уже чувствуется. Так что придется принять хренову ванну. Давай, черт тебя дери, шевелись.
Она резко и нетерпеливо повела меня наверх, в ванную, давая мне на ходу подзатыльники. Мама мыла и терла меня с предельной жестокостью. Пока я был наверху, мне показалось, что я слышал в доме мужской голос, и когда меня опять отвели в подвал – я обнаружил, что кто-то был там и установил настоящий замок и дверь теперь закрывалась на ключ. Два поворота ключа – последний штрих в картине моего окончательного заточения. Она должна была пригласить слесаря для выполнения такой работы. Казалось, с этого момента мое заключение получило статус официального. Внутри все оборвалось. Меня будут держать в подвале вечно, пока я не умру? Выглядело все именно так.
Пока мучительно тянулись месяцы, я привыкал к своей клетке, прислушиваясь к звукам на улице (через вентиляцию) и в доме надо мной. Сидя в полной темноте, приходилось полагаться только на уши в получении каждой капли информации, так что мой слух обострился, ведь смотреть было все равно не на что.
Я смог узнавать своих посетителей по их манере открывать дверь наверху лестницы, по скорости и тяжести их шагов. Больше всего я боялся увидеть маму, потому что это неизменно означало избиение. Лучшим моим посетителем был Уолли, когда его посылали отнести мне еду или когда он приходил сам, чтобы составить мне компанию, приободрить и утешить. Уолли не был похож на остальных, и, несмотря на то, что мама специально перед своим уходом наказывала не спускаться ко мне, он всегда нарушал этот запрет, если был уверен, что она не узнает или что ему это сойдет с рук.
Взрослый человек, возможно, сошел бы с ума от столь длительного заключения в одиночестве, особенно в таких ужасных условиях. Думаю, единственной вещью, удерживающей меня от безумия, были визиты моего старшего брата Уолли. Хотя ему на тот момент было уже восемнадцать лет, он боялся маминой жестокости не меньше других и всегда выполнял ее приказы. Но Уолли не получал удовольствия от садизма и издевательств надо мной, и этим он отличался от остальных. Когда мой брат был уверен, что мать не узнает, он всегда был добр со мной. Уолли выглядел, как зубрила – большие очки с толстыми линзами в стиле Бадди Холли, короткая стрижка и веснушки. Я любил его за доброту. Только он был чем-то хорошим в моей жизни в те долгие годы.
Иногда, когда мама развлекалась в пабе, а остальные уже спали, Уолли украдкой пробирался ко мне и приносил немного нормальной еды. Он садился на вонючий матрас напротив меня и читал истории из книг про воинов и юношей, героев и злодеев. Сейчас мне кажется, что некоторые истории Уолли придумывал сам, потому что часто они были подозрительно похожи на мою. Сказки про злых матерей и маленьких мальчиков, которые в конце концов сбежали и жили счастливо до конца своих дней. Думаю, таким образом он хотел подарить мне надежду, что в один прекрасный день все изменится к лучшему, что этот кошмар не будет продолжаться вечно. Уолли относился ко мне как к взрослому, что до него никто никогда не делал. «Тебе уже почти семь, Джо, – говорил он, – пришла пора быть храбрым и сильным».
Я знал, что брат прав, потому что именно об этом были истории, которые он мне читал. Маленькие мальчики становились героями перед лицом опасностей и бед и побеждали зло. Но в то же время я думал, что ему легко говорить, имея свободу и прекрасную теплую спальню, куда можно сбежать от крика и насилия.
Когда мы оставались с ним вдвоем, он даже смеялся над мамой, называя ее забулдыгой. Я не знал, что значит «забулдыга», и у меня не было голоса, чтобы задавать какие-либо вопросы, но представлял, что это как-то связано с маминой работой, считая, что она отлично с ней справляется и получает очень много денег, раз может содержать такую большую семью.
Проводя столько времени в одиночестве и темноте, я все сильнее отставал от своих ровесников не только в представлении и понимании окружающего мира, но и в языке. Уолли был единственным, кто нормально со мной разговаривал; остальные же только ругали и насмехались надо мной, а он учил меня, от него я узнавал что-то действительно ценное. Но я не мог задать брату никаких вопросов, так что даже он мог обучить меня только до определенного уровня. Иногда ему удавалось меня рассмешить, и хотя я смеялся только мысленно, он все равно понимал, что я смеюсь, по выражению моего лица. От этого Уолли и сам начинал смеяться, и на несколько минут я становился счастливым, забывая о боли и отчаянии.
«У мамы в голове шарики за ролики заехали, – говорил он мне, но я не понимал, что это значит. Я смущенно смотрел на него. – Ну, знаешь, винтиков не хватает, – подбирал брат более понятное для меня выражение. – Тараканы в голове!»
Я представлял, как у кого-то в голове могут быть винтики и тараканы. Он часто говорил мне, что у мамы с головой не все в порядке, так что, может, тараканы, винтики и шарики были этому причиной. Маленькие дети почти все узнают о мире, спрашивая у взрослых. Когда у тебя нет такой возможности и ты сидишь целыми днями один и не испытываешь никакого умственного напряжения, то это, безусловно, имеет последствия для молодого, развивающегося мозга. Все это замедлило мое развитие в те годы, подавив способность понимать то, что другие дети моего возраста считали само собой разумеющимся. Я жил в вакууме, отрезанный от нормальной жизни и без необходимой интеллектуальной нагрузки, кроме мимолетных визитов Уолли.
Он пытался помочь мне начать разговаривать, терпеливо пытаясь добиться от моей парализованной гортани хотя бы простейших звуков и вернуть уверенность, которую начисто выбили из меня остальные члены семьи.
«Однажды ты вырастешь и станешь настоящим интеллектуалом, – говорил мне брат. – Это значит умным».
На самом деле я сомневался, что когда-нибудь вырасту, потому что мама часто говорила, что я не доживу до своего следующего дня рождения. Но все равно было приятно слышать это и думать, что кто-то верит в меня и что однажды настанет конец моим страданиям и я сбегу из своей тюрьмы.
Впрочем, время от времени Уолли разыгрывал меня и не всегда по-доброму. Как-то раз на первое апреля он спустился вниз и сказал, что мама упала с лестницы и умерла. У меня как будто камень с души свалился. Я был свободен, и Бог внял всем моим молитвам. Когда Уолли сказал, что это была первоапрельская шутка, я почувствовал, что тяжесть целого мира снова легла на мои плечи, словно я был древнегреческим атлантом.
– Ты не такой везучий, братишка, – сказал он перед уходом. – Но кто знает, может быть, твой день еще придет.
Однажды, когда ко мне пришел Уолли, я никак не мог перестать дрожать. Он сказал, что мое тело отходит от шока, полученного во время очередного избиения мамой пару часов назад. После ее побоев у меня болело все тело. Как-то мое сердце билось так часто и сильно, что Уолли испугался, что я взорвусь. Наверное, когда он это сказал, меня охватила настоящая паника, потому что, увидев выражение моего лица, брат засмеялся.
– Не волнуйся, – сказал он, – я не дам этому случиться.
Уолли всегда очень боялся, что его поймают, когда он спускался ко мне без разрешения, поэтому, как мне казалось, проводил у меня всего несколько минут. Если он слышал через вентиляционное отверстие мамины шаги на дорожке, то точно знал, что у него есть достаточно времени, чтобы вернуться наверх, прежде чем мама обойдет дом и откроет входную дверь. Ко времени своего возвращения мама почти всегда сильно напивалась. Ковыляя из бара, она во весь голос покрывала непристойной бранью обитателей дома. Это несколько замедляло ее движение, так что Уолли по крику всегда мог точно определить ее местонахождение. Я был готов на все, лишь бы не оставаться снова одному в темноте, и прижимался к ноге Уолли, как маленький ребенок, смотрел на него умоляющим взглядом и скулил, как щенок.
– Ты же не хочешь, чтобы твой брат попал в неприятности? – говорил он, пытаясь освободиться от моих объятий. – Ты должен отпустить меня, Джо.
В конце концов он отцеплял меня и легонько отталкивал, чтобы добраться до выхода. Продолжая заталкивать меня внутрь, он закрывал дверь, выключал свет и мчался наверх.
Обычно именно Уолли выносил мое «туалетное» ведро, но ему разрешалось это делать только по указанию мамы. Если она вдруг ловила его за чем-нибудь, что он делал для меня по доброте душевной, ему грозили серьезные неприятности. Уолли объяснял мне, что, когда рядом мама или другие братья, ему иногда приходится притворяться, что он относится ко мне так же плохо, как они. Он объяснял, что поддерживать этот маскарад в наших же с ним интересах. «Если она поймет, что я к тебе хорошо отношусь, – объяснял он, – она больше не даст мне спускаться сюда, и я ничем не смогу тебе помочь».
Однажды Уолли стало так жаль меня, что он взял упаковку печенья и в два часа ночи решил прокрасться вниз, думая, что мама уже спит, но она поймала его прямо перед дверью на лестницу, ведущую в подвал. Я слышал, как она кричит на брата.
– Какого черта ты тут делаешь? Да еще так поздно?! Куда это ты намылился со всем этим?
– Да так. Хотел немного его подразнить, – соврал он, – съесть это у него перед носом.
Но мать не поверила ему, я слышал, как его избивают за этот проступок. Я убедил себя, что это произошло по моей вине. Брат поплатился за сострадание ко мне.
Если бы не тайные посещения Уолли, я думаю, что точно умер бы от голода или просто окончательно сошел с ума за эти месяцы и годы. Только этих визитов мне и оставалось ждать, только они были утешением одиночеству и мукам моего существования. Я уверен, что ни за что не выжил бы без его доброты.
Я не знал, когда ожидать следующих побоев. Иногда мама забывала обо мне на несколько дней, а иногда наказывала меня регулярно. Бывали вечера, когда она была в настроении побить меня и пыталась добраться до подвала после посещения паба, но была слишком пьяна, чтобы попасть ключом в замочную скважину моей камеры. Я съеживался на матрасе, дрожа от страха и слушая, как по ту сторону двери мать шумит, ругается и кричит о том, как убьет меня, рассказывая, какой я маленький ублюдок и как пожалею, когда она доберется до меня. Я выдыхал с облегчением, когда она наконец сдавалась и, спотыкаясь, ковыляла обратно наверх, потому что знал, что проведу в безопасности следующие несколько часов, пока она спит и проходит действие алкоголя.
Я провел в заключении несколько месяцев, прежде чем мать перестала довольствоваться нерегулярными побоями.
Она решила сделать мое наказание более строгим, похожим на ритуал. Мама приказывала Ларри и Барри принести три прочных старых деревянных стула в подвал. Они втроем раздевали меня догола и растягивали на этих стульях. Братья держали мои запястья и лодыжки, пока мать неистово била меня бамбуковыми стеблями, украденными из ближайшего сада, или палкой от метлы.
– Ты дрянной маленький ублюдок, – говорила она, ударяя меня снова и снова. – Я ненавижу тебя! Если бы у меня был гребаный пистолет, я бы вышибла тебе мозги!
Ларри и Барри все время смеялись и подначивали ее:
– Давай всыпь ему, маленькой жопе!
Я хотел кричать, но не мог издать ни звука; вся боль застревала в моей голове. В конце концов я терял сознание, а когда приходил в себя, чувствовал, что снова брошен на матрас и все мое тело ноет от боли, задыхается и едва может пошевелиться.
Однажды я очнулся и обнаружил, что не лежу, как обычно. Пока я был без сознания, мои запястья были привязаны к железной водопроводной трубе над головой. Я все еще был абсолютно голым, и вся моя спина просто полыхала от боли после полученных побоев. Внезапно меня окатили холодной водой из ведра, полностью приведя в чувство. Я задыхался, отчаянно пытаясь вдохнуть достаточно воздуха, хрипел и визжал. Мама стояла и смеялась, держа в руках пустое ведро.
– Что, нечего сказать, маленький ублюдок? – спросила она. – Где твой поганый отец теперь, когда он тебе так нужен?
Мне удалось поднять голову и посмотреть ей в глаза. Я моментально понял, что этого не стоило делать, и отвернулся, но было слишком поздно. Мать набросилась на меня, схватила за волосы и ударила головой о трубу:
– Не смотри на меня так, ты, маленький кусок дерьма!
Я прикусил язык и почувствовал во рту вкус крови. Я помню, как в тот момент думал, что, будь у меня пистолет, пустил бы себе пулю между глаз, чтобы больше не пришлось терпеть все это. Мама вихрем вылетела из подвала, яростно топая по лестнице. Все мое тело безудержно тряслось, и я снова потерял сознание.
Затем, как я припоминаю, меня резко привел в чувство звук чьих-то шагов на лестнице. О нет, подумал я, только не это, только не снова. У меня раскалывалась голова, в ушах звенело, и я не мог разобрать, кто пришел. Несомненно, в этот раз мать пришла убить меня по-настоящему, как она всегда обещала, и положить конец моим страданиям. Должно быть, я зашел слишком далеко, осмелившись взглянуть ей в глаза, и она вышла из себя, решив, что я совсем обнаглел. Мне с трудом давался каждый вздох, и я чувствовал, как слезы медленно текут по щекам. Ключ дважды щелкнул при повороте.
– Все хорошо, Джо, – сказал Уолли. – Я один. – Он с грустью оглядел меня. – Зачем ты ее доводишь? – мягко спросил брат. – Что я тебе говорил? Никогда не смотри ей в глаза, глупыш! Всегда смотри в пол, когда она болтает.
Наверное, мать дала Уолли разрешение спуститься, потому что он отвязал мои запястья от трубы, на что никогда не решился бы сам. Как только мои руки освободили, я рухнул на твердый холодный пол замертво. Уолли осторожно массировал мои запястья, пытаясь восстановить кровообращение, потом поднял меня под мышки и очень аккуратно переложил на матрас, спиной кверху.
– Знаешь, это все твой отец виноват, – сказал он, нежно омывая мои раны соленой водой, но мне было не до этого. Я испытывал невыносимую боль, да и слушать одно и то же каждый день, пусть даже от Уолли, мне страшно надоело. – Сейчас будет немного больно, – предупредил он, и я стиснул зубы, чувствуя, как соль попадает в порезы.
Мне было приятно, что он обо мне так заботится, хотя соль ужасно жалила. Через некоторое время Уолли встал и сказал мне лежать тихо и ждать его возвращения. Я слышал, как снова закрывают дверь. Потом погас свет. Звук шагов Уолли постепенно удалялся и наконец совсем стих. Меня сильно тошнило, так что пришлось подползти к ведру-туалету. В тусклом свете, пробивающемся через вентиляционное отверстие, мне показалось, что я видел в рвотной массе кровь. Сил вернуться на матрас у меня уже не осталось, так что я просто положил голову на бетон и провалился в столь желанное забытье.
Меня разбудил грохот, с которым Ларри ворвался в подвал.
– Привет, говнюк, – сказал он, сильно шлепнув мне ладонью по спине. – Ой, прости, – засмеялся он, – забыл, что у тебя все болит. Наслаждайся лимонадом, кретин!
Ларри кинул на пол передо мной большую пластиковую бутылку. Когда он ушел, я попробовал ее открыть, и стало ясно, что они приклеили крышку. У меня не было сил сорвать ее зубами, я снова потерял сознание.
Мать оставила в подвале те три прочных стула, чтобы напомнить о том, что мне предстоит в ближайшем будущем. Как будто я мог хоть на секунду забыть. Я лишь мечтал, чтобы у меня снова прорезался голос и я мог бы сказать ей, как сожалею о том, что папа так ее разочаровал. Я мечтал, что могу сказать или сделать хоть что-ни будь, чтобы она перестала меня ненавидеть. Но я не мог, даже если что-то подобное и было возможно. Мамин гнев становился с каждым днем все более свирепым.
Из-за того, что я был измучен до предела и постоянно дышал влажным, затхлым, вонючим воздухом подвала, у меня начала развиваться астма. Я все время задыхался, особенно когда был испуган, а испуган я был большую часть времени. Хрип и свист, издаваемые мной при попытке набрать в легкие достаточно воздуха, стали еще одним раздражителем для мамы, еще одной причиной ударить меня или дать пощечину, от чего я только сильнее задыхался и хрипел. Я ничего не мог поделать. Я был в высшей степени беспомощен. Абсолютно беспомощен.
Обычно я не мог определить, как долго нахожусь в подвале, но день своего семилетия я узнал безошибочно, потому что Ларри и Барри прогремели вниз по ступенькам, начали включать и выключать свет в моей камере и кричать: «С днем рождения, ублюдок! Готов к сюрпризу, заморыш?» Они ворвались в дверь, смеясь без умолку, и я знал, что сейчас будет, потому что со мной делали такое и раньше. Я не был взволнован, только напуган.
– Ты не заслуживаешь никаких подарков, – сказала мама, войдя в подвал вслед за братьями, – потому что ты ребенок лживого, мертвого, ублюдочного предателя.
На каждый день рождения мои братья избивали меня изо всех сил, и в этом году не собирались делать исключения. Они подбросили меня как можно выше, и дали упасть на бетонный пол. Мама одобрительно кивала. Они хватали меня за руки и за ноги, а я неистово тряс головой, давая понять, что мне это не нравится, но они притворялись, что не понимают.
– Говори, если хочешь, чтобы они прекратили, – сказала мать, прекрасно зная, что я не могу.
От падений на пол я получил такой шок, что стал задыхаться.
Как раз когда они закончили, вошел Уолли с подарком в руках.
– С днем рождения, братишка, – сказал он, аккуратно передавая подарок мне прямо в руки.
Я с ужасом посмотрел на него. Что он творит? Это что, шутка? Почему он стал дарить мне подарок при маме? Он ведь точно знал, какова будет ее реакция.
Мама схватила подарок и бросила в стену со всей силы, разрушив его содержимое, каким бы оно ни было. Я слышал хруст. Резко повернувшись, она влепила Уолли сильнейшую пощечину и начала орать и ругаться на него за то, что он осмелился быть со мной добрым, хотя это было строго запрещено, что я не заслужил подарков и должен быть наказан, что мне нужно преподать урок.
– Успойся, мам, – сказал Уолли, стараясь выкрутиться. – Это была просто шутка. Я его просто дразнил, просто хотел побесить. Я надеялся, что ты окажешь нам честь и разобьешь подарок о стену прямо перед маленьким ублюдком.
Это была самая неубедительная ложь, какую я только слышал из уст Уолли. Я не мог поверить, что ему сойдет это с рук, но мама немедленно перестала кричать и начала извиняться за то, что ударила его.
– Прости, сынок, – сказала она, ласково улыбаясь. – Ты знаешь, на меня иногда находит. Маленький ублюдок ни хрена не заслужил! Пусть гниет. – Она рванулась ко мне и прокричала прямо в ухо: – Смотри, что ты заставил меня сделать с моим Уолли, маленький ублюдок!
Я не отрывал взгляд от пола, боясь посмотреть вверх, так что не видел кулак, пока тот не врезался в мою голову. Мать подняла сломанный подарок, развернулась и выскочила из подвала, приказывая Ларри и Барри следовать за ней, а Уолли – закрыть за собой дверь, когда он будет выходить.
Когда я убедился, что все ушли, я взглянул на Уолли, и он подмигнул мне, но я видел слезы, появившиеся на его лице и казавшиеся огромными через толстые линзы его очков. «Прости», – едва слышно прошептал он, прежде чем уйти из комнаты и закрыть дверь, как ему было велено.
Я не осуждаю его за ложь, зная, что он боялся матери не меньше меня. Удивительно, что Уолли вообще отважился рискнуть и принести мне подарок. Вряд ли он совершил бы такую ошибку снова.Я почувствовал, что последним ударом мама сломала мне еще несколько зубов. Я вспомнил, что мой дедушка раньше держал свои зубы в стакане на тумбочке рядом с кроватью, и вставлял их, когда вставал утром. Тогда я подумал: смогу ли иметь вставные зубы, как у дедушки, когда лишусь всех своих? Но идея вставить эти ужасные пластмассовые штуки себе в рот заставила меня вздрогнуть.
Несколько часов я провел сидя на матрасе, крепко обхватив себя руками и пытаясь сохранить тепло собственного тела, прежде чем снова услышал шаги. Сердце начало бешено колотиться, дыхание перехватило. Неужели очередное избиение? Ключ повернулся, и оказалось, что это Ларри.
– Ну что, недоносок. У меня тут для тебя вкусняшка – очередные объедки, – ухмыльнулся он, держа в руках собачью миску. – Прости, что съели твой праздничный торт, а тебе ничего не оставили. Но если ты будешь хорошо умолять, может, я не плюну в твою еду.
Я умирал с голоду, так что смотрел на него несчастным щенячьим взглядом. Ларри разразился смехом и все равно плюнул в миску, прежде чем вывалить ее содержимое на меня.
– Я добавил немного специй для вкуса, – крикнул он и покинул подвал.
Объедки были покрыты солью и перцем, что делало их практически несъедобными и вызывало тошноту от каждого кусочка, но я был так голоден, что заставлял себя есть. Если бы я не поел, боль в желудке стала бы еще сильнее, так что у меня просто не было выбора.
Шли месяцы, и я кое-как держался. Когда мышцы становились совсем деревянными, я ходил по камере, мечтал о папе или о своей идеальной семье, но в основном напрягал слух в надежде услышать шаги Уолли на лестнице, от которого получал немного еды и человеческой доброты.
Однажды брат сообщил мне новость: у него появилась девушка! Первой моей реакцией было: «Девушка! Фу!» Мне не очень-то нравилась эта идея. Я знал, что никогда с ней не познакомлюсь, потому что никто в здравом уме никогда не приведет девушку в такое отвратительное место, как моя камера. Да и мама все равно никогда этого не позволит. Я сомневался, что она вообще пустит девушку в дом, боясь, что та может все увидеть и кому-то рассказать. Не сказал бы, что и Уолли торопился приводить свою подругу домой. Как он мог показать, что семья сделала с его младшим братом, и ожидать, что она просто промолчит? Наверно, он боялся, что потеряет девушку, если та слишком много узнает. Уолли не мог гордиться тем, что его семья держит пленником в подвале маленького мальчика. Я понимал, и все равно хотел с ней познакомиться.
В то время я не знал, к чему приводит наличие девушки, но в следующие несколько месяцев посещения Уолли стали заметно реже. Думаю, он стал реже бывать дома, может быть, стал гостить у нее. Если у тебя есть выбор, то любое место будет лучше, чем дом нашей матери. Но это означало, что мое существование станет еще более жалким без его помощи.
Иногда я просто лежал на кровати и плакал несколько часов подряд. Из моего рта не вылетало ни звука, кроме слабенького хныканья, но все мое тело сотрясалось от рыданий, грудь болела, а горло словно чем-то заткнули, как будто на меня положили огромный тяжелый груз. В такие минуты я терял всякую надежду. Я действительно верил, что именно такой будет моя жалкая жизнь, день за днем, проведенные в муках, пока мама наконец не выполнит свое обещание и не убьет меня.Глава 7 Новый мамин ухажер
Думаю, прошло около восемнадцати месяцев с того дня, когда меня впервые посадили в подвал, и не так много времени после моего седьмого дня рождения, когда кое-что наверху изменилось. Мама все еще вела в одиночку свою военную кампанию против папы и его семьи, не позволяя себе упустить ни одного доступного шанса мести, несмотря на то что отец был мертв. Наверное, она встретила Амани, мужа Мелиссы, в пабе и сразу нашла возможность нанести решающий удар по чести отца, совратив мужа его сестры и разрушив ее брак.
Впервые я узнал об этом новом повороте событий в отношениях между членами нашей семьи однажды вечером, когда пытался услышать, что происходит в доме, прислонив ухо к двери подвала.
Иногда это помогало скоротать время. Я услышал, как мама говорит кому-то привести меня наверх, и пулей кинулся на свой матрас, подумав, что они разозлились, учуяв мой запах. Ключ повернулся, и на пороге появился Уолли, подав мне знак следовать за ним. Меня выпускали так редко, что это всегда становилось для меня событием, хотя с каждым шагом мое сердце начинало биться все сильнее от страха перед тем, что со мной произойдет дальше. Я не мог припомнить ни одной встречи с мамой, когда не получил бы хотя бы одного пинка или удара, а обычно она не могла устоять перед соблазном основательно меня избить, чувствуя знакомое раздражение, растущее внутри нее.
Уолли закатил глаза и прошептал: «Забулдыга хочет тебя видеть».
Я последовал за ним наверх, и он поставил меня рядом с Томасом, который уже стоял в коридоре по стойке «смирно», как на параде.
Уолли быстро убрался из дома, видимо, не желая присутствовать при нашем избиении. Я стоял не двигаясь, насколько это возможно, уставившись глазами в пол, прекрасно зная, что любое движение или смена выражения лица может сорвать чеку с гранаты маминой ярости (спровоцировать взрыв). Я слышал, что она что-то нам говорит, но не мог сконцентрироваться на ее словах. Я видел, как шевелятся ее губы, и вот она уже кричит в нескольких сантиметрах от моих ушей, заставляя их звенеть.
Краем глаза я заметил знакомую фигуру. Это был Амани, мой дядя, женатый на папиной сестре.
Мама говорила нам больше не называть его «дядя Амани» и что теперь мы должны звать его «папочка».
– Почему? – наивно спросил Томас, и она влепила ему пощечину за то, что он осмелился говорить.
Его вопрос показался мне забавным, и я не мог перестать улыбаться, чем тоже заработал себе пощечину.
– Наш папочка умер, – не сдавался Томас. – Я не хочу другого папу.
Я окинул его взглядом, восхищаясь его смелостью, но надеясь, что он замолчит. Моему братику было только четыре года, и, очевидно, он еще не научился заботиться о себе в этом доме. Мама злобно хлопнула дверью, а потом ударила Томаса по лицу, приказав отправляться в свою комнату. Он убежал, держась за щеку, а мать схватила меня за горло.
– Хочешь что-нибудь мне сказать? – спросила она. Я почувствовал на лице ее плевок.
Я, как мог, отрицательно покачал головой и закрыл глаза, прежде чем меня настиг сильный удар в ухо. Мать открыла дверь, ведущую на лестницу к подвалу, и бросила меня вниз; в ушах все еще звенело, когда я приземлился внизу, ударившись о пол и стены. Сверху доносился ее крик: «Возвращайся в свою дыру!»
Я проковылял в свою камеру, закрыл дверь и упал на матрас. Правая сторона моего тела была покалечена и словно разбита, особенно в тех местах, на которые я приземлился при полете с лестницы. Я жалел Томаса, который остался с матерью наверху. В такие моменты я был почти рад иметь убежище, пусть даже такое, как моя тюрьма в подвале.
Чуть позже ко мне вдруг вернулась надежда. Может быть, Амани окажется моим спасителем? Хотя папа, в сущности ладивший со всеми, кроме мамы, и недолюбливал его, Амани всегда достаточно хорошо ко мне относился, когда я бывал у тети Мелиссы. Я думал, что, как только он узнает, как мама со мной обращается, сразу сообщит моей тете, что здесь творится, и вместе они помогут мне сбежать. Я помнил, как свирепо тетя Мелисса дралась с мамой в мастерской и как мама боялась ее. Если она придет меня спасать, то шансы на успех были весьма неплохими.
Но когда Амани позднее спустился ко мне в подвал, он не выглядел шокированным от моего состояния и не показал никаких признаков расположения ко мне или просто сочувствия.
Он был высоким, уродливым и жутким. Я хорошо помню родимое пятно около его длинного, толстого носа. Кожа Амани была очень темной, почти черной, а волосы – густыми и вьющимися. Войдя в подвал, он сразу прикрыл нос своей гигантской рукой, чтобы приглушить запах от меня, от матраса и от туалетного ведра. Я уже привык к подобной реакции, потому что все реагировали точно так же, когда входили; даже Уолли иногда сильно тошнило. Запах заставлял маму, Ларри и Барри ненавидеть меня еще сильнее, усиливая их представление обо мне как о каком-то грязном животном неизвестного вида, нарочно издающим такую вонь, чтобы досадить им.
Амани дымил большой сигарой, что, видимо, немного помогало ему справиться с запахом, и разглядывал меня так, будто я был комком грязи, прилипшей к подошве его ботинка. Я осторожно улыбался, надеясь, что он просто изображает ненависть ко мне ради мамы, как всегда поступал Уолли, но в его глазах не было ни намека на сочувствие, только отвращение.
Я был потрясен, когда Амани вышел из камеры, не сказав ни слова, хлопнул дверью и запер ее. Я все еще пытался убедить себя, что он расскажет о происходящем тете Мелиссе, как только ему удастся выбраться из дома, а она приведет кого-нибудь мне на помощь. Но вскоре я осознал, что вызволять меня вообще не входило в его планы. За те несколько минут, что он провел в подвале, рассматривая меня, Амани обнаружил для себя неплохие возможности и намеревался полностью воспользоваться ими.
Чего я тогда не понимал, так это того, что Амани был человеком, который «трахает все, что движется». Он появился в нашем доме, чтобы спать с мамой – или со всеми, с кем еще можно переспать, – и не собирался добровольно рассказывать о своих планах тете Мелиссе. Ему было плевать на мое ужасное положение, на мое состояние; на самом деле, мое заключение натолкнуло его совсем на другие мысли, чем мою мать.
Когда Уолли снова удалось пробраться ко мне в камеру, он рассказал мне немного о нашем новом «отчиме», догадываясь, что меня очень интересует этот вопрос. Не каждый день тебе говорят, что теперь у тебя новый отец.
– Амани приехал из Нигерии, – сказал Уолли, но я понятия не имел, где находится эта Нигерия. Я думал, что это где-то в Шотландии, единственной стране, кроме Англии, о которой я когда-либо слышал. Я поднял брови, чтобы показать свое недоумение. – Это очень жаркая страна, – объяснил брат, – далеко-далеко отсюда, в Африке.
Мне стало любопытно, не солнце ли сожгло лицо Амани в этой жаркой стране, сделав его таким непохожим по цвету на меня, мальчика, чья кожа уже давно не видела дневного света.
– У них там есть слоны, и жирафы, и львы.
Еще он рассказал, что Амани любит целыми днями курить какой-то табак и что я, может быть, уже чувствовал странный запах.
Как только Амани узнал, что я заперт в подвале и никак не могу себя защитить, и понял, что мама будет рада не только позволить ему делать со мной все, что он пожелает, но и понаблюдать за этим, он стал наведываться в подвал достаточно часто. Вскоре звук его шагов приводил меня в такой же ужас, как и шаги матери, Ларри и Барри.
Иногда Амани приходил один, когда в доме становилось тихо. Думаю, все остальные уже спали, когда он рыскал вокруг. Или, возможно, они прекрасно знали, что происходит в это время, но им было абсолютно наплевать. Я слышал, как со скрипом открывается дверь наверху лестницы. Я научился узнавать его шаги так же, как походку остальных. Если я слышал Амани, я знал, чего ожидать. Я лежал с плотно закрытыми глазами, притворяясь, что сплю, но его не беспокоило отсутствие света в подвале, так что я просто зря тратил время на разыгрывание этих спектаклей. Ему было все равно, сплю я или нет. Амани ложился рядом со мной на мерзкий матрас и шептал мне на ухо, чтобы я был «хорошим мальчиком», запуская руку в трусы, если они на мне были, и терся об меня всем телом. Когда он впервые проделал это, я оттолкнул его и затряс головой, показывая, что мне это не нравится и я хочу, чтобы он прекратил. Уолли как-то сказал мне, что никто не имеет права трогать меня в таких местах, и я ему верил. Так что я отбивался и пытался освободиться. Даже в темноте Амани должен был чувствовать, что я сопротивляюсь.
«Не отказывай мне, малыш», – сердито шептал он, хватая меня за гениталии и до боли теребя их. Я не осмеливался снова сопротивляться, потому что Амани был таким же, как мать, – одним их тех людей, которые не терпят неповиновения и не заботятся о том, какую боль причиняют другим при достижении своих целей. Я очень хотел громко закричать, но звук не появлялся, так что я просто лежал неподвижно и надеялся, что будет не слишком больно.
«Если ты кому-нибудь расскажешь об этом, я выколю тебе глаза и отрежу твое хозяйство», – предупредил Амани перед уходом. Но все угрозы были бессмысленны – я не мог разговаривать, так как же я тогда мог рассказать кому-нибудь хоть что-то?
После его прибытия мне дали грязную простыню подходящего размера, чтобы накрыть матрас, и Амани вытирался ей, оставляя после себя мокрое и холодное пятно. Потом он выходил из комнаты, как будто ничего и не было, и закрывал за собой дверь.
Я скоро осознал, что в его понимании меня держали в доме только для его удобства, и мама была счастлива поддержать эту идею. Они с матерью любили вместе спускаться в подвал и насмехаться надо мной и говорить, что я – пустая трата времени и места. Амани быстро перешел от «трений» об меня к тому, чтобы заставлять меня вытворять что-либо перед ним или для него. Я не всегда понимал, чего он от меня хочет, и если не выполнял какое-то из его приказаний должным образом, особенно когда внизу была мать, они оба избивали меня. Казалось, они наслаждаются насилием почти так же, как и сексуальными утехами. После избиения я должен был правильно повторить какое-то действие. Мать оставалась смотреть. Как только Амани заканчивал со мной, он снова бросал меня на матрас, называл «грязным маленьким ублюдком», и они вместе уходили наверх с довольным смехом.
Я часто догадывался заранее, когда должен прийти Амани, потому что перед этим Уолли обычно посылали вылить мое ведро с нечистотами, а мама приходила и разбрызгивала освежитель воздуха, чтобы сделать воздух менее удушливым и отвратительным. Но освежитель мало что мог изменить, когда вонь пропитала уже все предметы в подвале. Я быстро понял, что не было никакого смысла сопротивляться Амани, потому что, будучи в тысячу раз сильнее меня, он мог сделать со мной что угодно. Его руки были просто чудовищно большими. Он смыкал их у меня на шее и говорил, что мне делать, сжимая их ровно с такой силой, чтобы я понял, что выпустить из меня дух для него так же просто, как зажечь спичку.
– Если ты не будешь делать все как надо, – говорил Амани каждый раз, – я убью тебя.
И я был абсолютно уверен, что он на это способен. Я уже знал, что они могут делать со мной все, что им взбредет в голову, и никто не придет меня спасать, так почему они не могут меня убить? Ни у кого в доме не хватало духу пожаловаться на них, даже у Уолли. Если бы я умер, обо мне забыли бы через несколько дней, но, по крайней мере, я был бы с папой и освободился бы от всей этой боли.
– Мама и Амани мастера, – сказал мне однажды Уолли. – Они любят промывать всем мозги, и ты должен быть сильным, чтобы выстоять против них.
Мне нравилось видеть себя воином, противостоящим силам зла, но я не мог постоянно быть сильным, и обычно мои схватки с ними заставляли чувствовать себя не просто побежденным, а разгромленным.
Иногда Амани брал меня наверх, в ванную, и заставлял вставать в ванну перед собой. Он запирал дверь и снимал трусы. Во время одного из таких походов я увидел себя в зеркале и ужаснулся. Кости были видны прямо через кожу. Я смотрел на все испуганным, затравленным взглядом.
– Смотри на меня, – прикрикнул Амани, а потом стал онанировать. Сначала я пытался не смотреть, но он сильно ударил меня по лицу. – Я сказал, смотри на меня! Лучше не беси меня, а то я сделаю тебе чертовски больно!
Потом он поставил меня перед собой и заставил мыться. Мне было стыдно и противно. Никто не говорил мне, что происходящее абсолютно ненормально, но я понимал это на уровне подсознания. Папа никогда не стал бы так делать, не говоря уже о других отвратительных вещах, которые заставлял меня делать Амани. Казалось, будто во время каждого посещения ему в голову приходит новое ужасное сексуальное извращение, и через некоторое время он стал меня насиловать. Поначалу было так больно, что я терял сознание. Меня оставляли истекающим кровью и трясущимся в агонии. После его визитов у меня болели многие части тела, и они не успевали зажить до следующего изнасилования. Для меня началась новая ужасная пытка, отправляющая меня на самое дно отчаяния.
Когда я подумал, что хуже быть уже просто не может, меня лишили последнего оплота счастья и добра. Однажды Уолли спустился ко мне, и по выражению его лица я понял, что он хочет сообщить нечто очень важное.
– Я ухожу, – сказал он.
Должно быть, его поразил появившийся в моих глазах ужас, потому что он быстро отвернулся, как будто чувствовал вину за то, что делает со мной.
– Я собираюсь жить со своей девушкой и наконец отделаюсь от забулдыги.
Ему удалось найти способ сбежать из ада, из окружения нашей семьи, и я завидовал ему. Мне не терпелось последовать за ним, если, конечно, я выживу здесь еще хоть немного.
– Я вернусь за тобой, как только смогу, – сказал Уолли. – Обещаю, я не брошу тебя здесь.
Во мне вспыхнула надежда. Если мне удастся прожить еще несколько недель, говорил я себе, Уолли вернется, чтобы спасти меня, и возьмет меня жить с собой и его милой девушкой, и мы будем счастливой семьей.
Но проходили дни, и ничего не менялось. Я оставался в той же обстановке и ждал, воображая, что Уолли рассказал обо мне кому-то за пределами этого страшного дома. Конечно, они скоро придут искать меня и спасут, вышибив двери и победив мать, Амани и братьев, словно несущаяся на выручку кавалерия.
Я представлял, как их поразит мой вид, когда они меня найдут, и как будут жалеть, и как захотят помочь и будут кормить меня вкусной-превкусной едой и укладывать в чистую, теплую постель. Прошла неделя, другая… и еще много времени, прежде чем моя надежда начала угасать.
Думаю, Уолли никому ничего не рассказал; а если и рассказал, то ему никто не поверил. История о матери, которая держит пленником в подвале немого маленького брата, мучает его голодом и издевается над ним забавы ради, звучала бы как выдумка. И еще, наверно, хотя Уолли и выбрался из дома, он все еще ужасно боялся матери, боялся выступить против нее, потому что она могла придти за ним или сделать что-нибудь с его девушкой.
Так что Уолли просто исчез из моей жизни, и я больше ни разу его не видел. Могу представить, какое облегчение он почувствовал, сбежав от матери, но как он мог оставить меня на их милость, зная, как они со мной обращаются? Как он мог засыпать ночью, зная, что я все еще сижу под землей без единого союзника там, наверху?
– Я присмотрю за тобой, – пообещал мне Амани, и, несмотря на все те мерзкие вещи, которые он творил со мной, это все же пробудило в моем сердце крошечный лучик надежды. – Я буду стараться куда лучше, чем пытался Уолли. Если ты будешь хорошим мальчиком, то получишь его спальню.
Он так часто обещал мне спальню Уолли в последующие несколько недель, что меня захватила эта идея. Я не мог не улыбаться от мысли об удобной, мягкой кровати или даже о нескольких старых детских игрушках Уолли, с которыми я мог бы играть.
– Если будешь делать то, что я говорю, мы хорошо поладим, – заверил меня Амани. Я надеялся, что это правда, потому что теперь он был моим единственным шансом.
Но прошло совсем немного времени, прежде чем мама решила, кто какую комнату получит, и разрушила все мои мечты о том, что я наконец покину подвал. Элли и Томас перебрались в комнату Уолли, а я остался там же, где и был.
Может, Амани и был физически крепким и сильным парнем, но заправляла всем по-прежнему мама. Да его, по сути, ничего и не беспокоило, потому что от нашей семьи он получал ровно то, что хотел. А о большем Амани и не мог мечтать.
Глава 8 Освобождение из подвала
Меня держали в заточении в подвале около трех лет, с пяти до восьми, и никто из внешнего мира не заметил, что я исчез с лица земли. День за днем я проводил в темноте, ожидая нового избиения или изнасилования, голод и жажда разъедали мои внутренности, холод пробирал до костей, а астма сковывала легкие. После того как Уолли бросил меня, никто больше ни разу не проявлял ко мне доброту. Теперь лучше всего было проводить время наедине с самим собой и мысленно разговаривать с отцом, находясь за запертой на два оборота дверью в сохранности от мучителей по другую сторону.
Насколько мне известно, никто из служб социальной опеки не приходил меня искать. Может, я выпал из системы из-за какой-то бюрократической неразберихи, а может, мама спутала им все карты – не знаю. Никто даже не заметил, что меня не определили ни в одну из местных школ, пока Томас не упомянул при своем учителе, что у него и Элли есть еще один старший брат, кроме Уолли, Ларри и Барри. Мать, должно быть, забыла объяснить ему, что мое имя не должно упоминаться нигде, кроме нашего дома.
А может, она ему объяснила, но Томас был достаточно уверен в себе, чтобы не подчиняться ей время от времени.
– У тебя есть еще один брат? Правда? – Учитель был явно удивлен такой новостью. – Как его зовут?
– Джо, – бесхитростно ответил Томас.
– В какую он ходит школу?
– Он не ходит в школу.
Озадаченный таким ответом, учитель должен был передать содержание разговора директору школы, который позднее пригласил маму поговорить об этой проблеме.
– Томас сказал нам, что у вас есть еще один мальчик по имени Джо, – сказал директор.
– О да, – ответила мать. Она была достаточно умна, чтобы понимать, что отрицать мое существование бессмысленно.