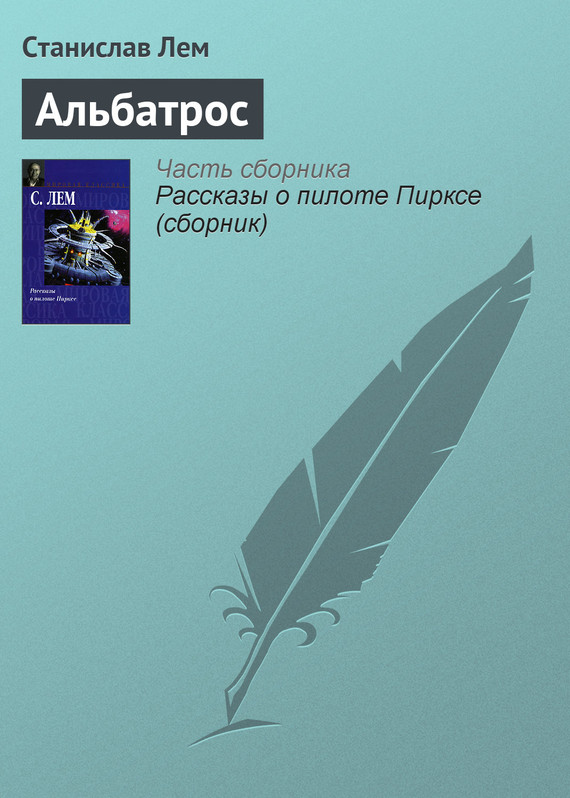Уцелевший Паланик Чак

В той части города, куда я каждое утро езжу на работу, в домах на стенах висят картины. Входишь в дом – и там комнаты, комнаты, множество комнат, куда никто никогда не заходит. Кухни, в которых никто не готовит. Ванные, которые никогда не бывают грязными. Деньги, которые оставляют хозяева, чтобы проверить меня – возьму или нет, – всегда не меньше пятидесяти долларов одной бумажкой, как будто случайно завалившейся за комод. Одежда, которую они носят, всегда смотрится так, словно ее не художник придумал, а проектировал архитектор.
Рядом с телефоном на кухонной стойке – толстый ежедневник, куда хозяева записывают мне поручения на неделю: расписывают буквально по часам. Поручение за поручением. На десять лет вперед. При таком отношении вся твоя жизнь превращается в список по пунктам. Сделать то-то и то-то. И со временем ты замечаешь, как твоя жизнь выравнивается и сглаживается.
Кратчайшее расстояние между двумя точками – временная прямая, расписание, карта твоего времени, план маршрута на всю оставшуюся жизнь.
Список – кратчайший путь. Прямая дорога отсюда до смерти.
– Я хочу заглянуть в ежедневник, – кричит на меня телефон, – и точно знать, где тебя можно найти ровно в четыре часа пополудни в этот же день, только через пять лет. Я к тому, что ты должен быть очень точным. Чтобы я всегда знал, где тебя найти. Даже через пять лет.
Когда вся твоя жизнь расписана по пунктам, почему-то она никогда не оправдывает ожиданий. Столько всего надо сделать, а ты сделал так мало. Краткая аннотация твоего будущего.
Два часа пополудни, суббота, и согласно сегодняшнему расписанию я сейчас должен сварить пять омаров, чтобы хозяева поупражнялись, как их правильно есть. Вот у них сколько денег.
А я позволяю себе есть телятину только тогда, когда удается стащить кусок у хозяев.
Варить омаров совсем не сложно. Никакого секрета тут нет. Наливаешь в кастрюлю холодную воду и добавляешь щепотку соли. Можно налить в воду вермут или водку в пропорции один к одному. Можно добавить немного морских водорослей – для аромата. Это – основы, которым нас учат на домоводстве.
Всему остальному я научился сам, убираясь в чужих домах за чужими людьми.
Спросите меня, как удалить пятна крови с меховой шубы.
Нет, правда спросите.
Давайте.
Надо посыпать мех кукурузной мукой и расчесать против шерсти. И самое главное – не сболтнуть чего лишнего.
Чтобы очистить от крови клавиши пианино, протрите их тальком или сухим молоком.
Вряд ли вам пригодится на каждый день, но если вдруг будет нужно смыть кровь с обоев – хорошо помогает кашица из кукурузного крахмала, разведенного в холодной воде. Точно так же можно очистить от крови матрас или обивку дивана. Главное, не задумываться о том, как быстро все это случается. Самоубийства. Несчастные случаи. Преступления по страсти. В состоянии аффекта. Главное – тут же об этом забыть.
Сосредоточься на пятнах. Чисти, пока не отчистишь – и пятна, и память. Мастерство и вправду приходит с практикой. Если можно назвать это мастерством.
Старайся не думать, как это обидно, когда твой единственный настоящий талант – скрывать правду. Умение, данное Богом: совершать тяжкий грех. Твое призвание. Врожденный дар к отрицанию и отречению. Божье благословение.
Если можно назвать это благословением.
Шестнадцать лет я убираюсь в чужих домах, но мне все еще хочется думать, что мир становится лучше. Хотя я знаю, что нет. Мне все еще хочется, чтобы люди вокруг стали лучше, хотя я знаю, что этого никогда не будет. И мне по-прежнему хочется думать, что я могу что-нибудь сделать, чтобы люди и мир все-таки стали лучше.
Каждый день я убираюсь в одном и том же доме, но если что и становится лучше, то только мое мастерство отрицать все, что неправильно.
Не дай Бог мне когда-нибудь встретиться с теми, на кого я работаю.
Вы, пожалуйста, только не думайте, что мне не нравятся мои хозяева. Из тех вариантов работы, что мне находила психолог из социальной службы, это еще далеко не худший. Я их не ненавижу, своих хозяев. Да, я их не люблю, но и не ненавижу. Я работал на людей и похуже.
Спросите меня, как удалить пятна мочи со штор и со скатерти.
Спросите меня, как по-быстрому залепить дырки от пуль в стене в гостиной. Ответ: зубной пастой. Если стреляли из крупнокалиберного оружия, пасту надо смешать в равных пропорциях с крахмалом и солью.
Называйте меня – голос опыта.
Пять омаров – я думаю, хватит, чтобы они научились мудреным приемам, как расколоть панцирь на спинке. Называется щиток. Внутри – мозги или сердце, за которыми вы вроде как и стремитесь. Варят омаров так: кладут в холодную воду и постепенно доводят до кипения. Главное – не торопиться. Вода должна нагреваться медленно: до ста градусов – как минимум в течение получаса. Предполагается, что при таком способе варки омары умрут безболезненно.
Справляюсь по ежедневнику, что еще нужно сделать сегодня. Медные ручки и фурнитуру лучше всего очищать половинкой лимона, предварительно окунув его в соль.
Эти омары, с которыми будут практиковаться мои хозяева, называются гигантскими, потому что они большие – весом около трех фунтов каждый. Омары весом менее фунта называются «в весе цыпленка». Омары без одной клешни называются отбракованными. Омары, которые я вынимаю из холодильника, завернуты в сырые морские водоросли. Их надо будет варить полчаса, не меньше. Этому тоже учат на занятиях по домоводству.
Передние клешни у омаров – разные. Та, что побольше, утыкана штуками наподобие коренных зубов и называется давящей. Клешня поменьше, тоже утыканная наростами, только в виде резцов, называется режущей. Боковые ножки – они значительно меньше передних – называются ходильными ногами. В нижней части хвоста, с обратной стороны, располагается пять рядов крошечных плавничков. Они называются плавательными ножками. Это тоже – из домоводства. Если плавательные ножки в переднем ряду мягкие и как будто пушистые, наподобие перышка, значит, это омар-самка. Если передний ряд шершавый и твердый, значит, это омар-самец.
Если вам попадется самка, обратите внимание на костяное отверстие в форме сердечка между двумя задними ходильными ногами. Если за последние два года эта самка спаривалась с самцом, в том отверстии еще должна была остаться живая сперма.
Телефон начинает звонить, когда я ставлю кастрюлю с омарами на плиту – три самца и две самки, без спермы.
Телефон звонит, пока я включаю плиту на самый маленький огонь.
Телефон звонит, пока я мою руки.
Телефон звонит, пока я делаю себе кофе с сахаром и со сливками.
Телефон звонит, пока я беру из пакета, где были омары, горсть морских водорослей и кладу их в кастрюлю. Один омар поднимает давящую клешню как бы в знак протеста. Давящие клешни, режущие клешни – они все скреплены резинкой.
Телефон звонит, пока я еще раз мою и вытираю руки.
Телефон звонит, и я отвечаю.
Дом Гастонов, говорю.
–Резиденция Гастонов! – кричит на меня телефон. – Повтори: резиденция Гастонов! Скажи, как мы тебя учили!
На занятиях по домоводству нам тысячу раз повторяли, что называть домрезиденцией допустимо только в печатных изданиях и на табличке у входа.
Я отпиваю кофе и чуть прибавляю огонь под омарами. Телефон продолжает орать:
– Ты меня слышишь? Алло? Нас там не разъединили?
Пара, на которую я работаю, оказалась однажды единственной из гостей на каком-то там званом обеде, кто не знал, куда нужно потом класть салфетку, которую принесли вместе с полоскательницей для рук. С тех пор они просто зациклились на изучении этикета. То есть они по-прежнему заявляют, что это вообще никому не нужно, но одна только мысль, что они могут чего-то не знать в плане застольного этикета, повергает их в тихий ужас.
Телефон продолжает орать:
– Отвечай же, ну! Черт! Расскажи про сегодняшний ужин! Чем нас будут кормить, чем-нибудь заковыристым? А то мы уже извелись за весь день!
Я открываю шкафчик над плитой и смотрю, все ли на месте: специальная вилочка и лопаточки для омаров, щипцы для орехов, палочки для извлечения ореховых ядер и два фартука.
Благодаря мне эти люди теперь знают, как разложить десертные приборы всеми тремя допустимыми способами. Это я научил их правильно пить чай со льдом – чтобы длинная ложка оставалась в бокале. Тут есть свой секрет: нужно придерживать ложку, захватив ее между указательным и средним пальцами и прижав ее к краю бокала точно напротив рта. Пить следует осторожно, чтобы не выколоть глаз. Вот такой хитрый способ, и о нем мало кто знает. Обычно люди вынимают ложку и ищут, куда бы ее положить, чтобы не испачкать скатерть. А то и кладут ее прямо на скатерть, оставляя мокрое пятно.
Только когда телефон умолкает, я начинаю говорить.
Я говорю телефону: вы меня слушаете?
Я говорю телефону: представьте себе столовую тарелку.
Сегодня, говорю я, суфле из шпината будет располагаться на позиции один час. Свекольный салат – на позиции четыре часа. Мясо с миндальной крошкой – на другой половине тарелки, на позиции девять часов. Есть его нужно ножом и вилкой. Мясо будет с костями.
На самом деле это лучшее место из всех, где мне приходилось работать – ни детей, ни кошек, ни вощеных полов, – и я не хочу его потерять. Если бы я не держался за это место, я бы сейчас от души позабавился. Например, я сказал бы хозяевам, что фруктовое мороженое едят, вылизывая языком из вазочки – ну, как собаки вылизывают свои миски.
Или: отбивную из молодого барашка берете в зубы и энергично мотаете головой из стороны в сторону.
Уж я бы придумал, что им присоветовать. И что самое страшное: они, вероятно, меня бы послушались. Потому что я еще ни разу их не подвел. Они мне доверяют.
Помимо этих уроков по этикету, самое сложное для меня – оправдывать ожидания хозяев, подстраиваться под их представление обо мне.
Спросите меня, как заделывать дырки в ночных рубашках, шляпах и смокингах, дырки, которые остаются после ножевых ударов. Мой секрет: немножко прозрачного лака для ногтей – наносить на прокол с изнанки.
На занятиях по домоводству учат совсем не тому, что может тебе пригодиться в работе, но со временем ты сам всему учишься. В церковной общине, где я родился и вырос, нас учили, как сделать так, чтобы свечи не оплывали: их надо вымочить в сильном растворе соли и держать в холодильнике. Такой вот полезный совет по хозяйству. А зажигать свечи следует соломинкой сырого спагетти. Шестнадцать лет я убирался в домах у людей, и за все это время меня ни разу не попросили зажечь свечи горящей спагеттиной.
Все, чему учат на домоводстве в церковной общине, вряд ли тебе пригодится во внешнем мире. А вот тому, что тебе пригодится, никто не учит.
Например, нас не учили, что красноту от шлепков и ударов на коже можно убрать увлажняющим кремом зеленого цвета. И любой джентльмен должен знать, как полезно иметь при себе кровоостанавливающий карандаш – на тот случай, если вдруг леди ударит тебя по лицу и рассечет тебе кожу кольцом с бриллиантом. Замажьте рану суперклеем – и можете смело идти на премьеру фильма, и если вас будут фотографировать, улыбайтесь и ничего не бойтесь: шрама видно не будет.
Всегда держи где-то поблизости красную тряпочку для мытья посуды, чтобы вытирать кровь, и тебе не придется возиться еще и со стиркой тряпки.
В ежедневнике сказано, что сейчас я точу ножи.
Да, что касается званого ужина. Я продолжаю рассказывать этим людям, на которых работаю, что их сегодня ждет.
Главное, не впадать в панику. Да, там будут омары.
На столе будет только одна солонка. Блюдо из дичи подадут после жаркого. Это будут голуби. Есть голубей – это даже сложнее, чем есть омаров. Все эти мелкие косточки, которые нужно вынуть. И не заляпать при этом жиром вечерний костюм. Иными словами, сплошная мука. После аперитива подадут вино: шерри – к супу, белое – к омару, красное – к жаркому, и еще одно красное – к голубям. К тому времени весь стол уже будет заляпан пятнами соуса и подливки. По белой скатерти расплывутся подтеки пролитого вина.