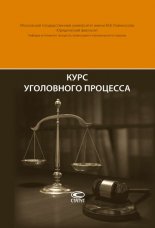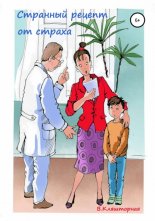Тысяча осеней Якоба де Зута Митчелл Дэвид

– А свидетели кто? Господин ван Клеф? Фишер? Ваша ручная обезьяна?
Сниткер досадливо вздыхает.
– Что за ребячество! Пустая трата времени. Ладно, можете откромсать свою десятину, но ни на йоту больше, не то, Богом клянусь, я эти чертовы штуковины утоплю в заливе!
Со стороны Нагасаки доносится шум веселья.
Капитан Лейси громко сморкается в капустный лист.
Почти совсем стершееся перо в руке Якоба цепляется за бумагу; руку сводит от усталости.
– Не понимаю… – Ворстенбос озадачен. – Что за десятина такая? Господин де Зут, может, вы меня просветите?
– Господин Сниткер пытается предложить вам взятку, минеер.
Фонарь под потолком качается, шипит и чадит; потом пламя вновь разгорается ровным светом.
На нижней палубе матрос настраивает скрипку.
– Вы полагаете, моя честность – продажная? – Ворстенбос моргает, глядя на Сниткера. – Как какой-нибудь гнилой начальник порта на Шельде, донимающий незаконными поборами баржи с грузом сливочного масла?
– Ну, одну девятую тогда, – рычит Сниткер. – Клянусь, больше не предложу!
– Добавьте в список обвинений: «Попытка подкупить ревизора». – Ворстенбос щелкает пальцами, обернувшись к секретарю. – И перейдем к окончательному решению. Сниткер, обратите сюда свой взор, это вас непосредственно касается. «Пункт первый: начиная с сего числа Даниэль Сниткер освобождается от занимаемой должности и с него взимается всё – да, всё – полученное жалованье, начиная с тысяча семьсот девяносто седьмого года. Пункт второй: по прибытии в Батавию Даниэля Сниткера заключить под стражу в Старом Форте; пусть ответит за свои деяния. Пункт третий: его частный груз будет продан с аукциона, полученная сумма пойдет в уплату убытков, причиненных Компании». Вижу, мне удалось завладеть вашим вниманием.
– Вы… – Сниткер уже не хорохорится. – Вы меня по миру пустите!
– Пусть суд над вами послужит примером каждому начальнику фактории, который наживается за счет Компании. «Правосудие настигло Даниэля Сниткера – настигнет и вас» – так скажет им сегодняшний приговор. Капитан Лейси, благодарю за ваше участие в этой плачевной истории. Господин Вискерке, будьте так любезны, выделите господину Сниткеру подвесную койку на баке. Пусть отрабатывает свой проезд на Яву наравне с другими матросами. К тому же…
Сниткер, опрокинув стол, бросается на Ворстенбоса. Якоб тщится перехватить занесенный над головой начальника кулак; перед глазами его вспыхивают огненные павлины; стены каюты вращаются; пол ударяет по ребрам, а во рту привкус оружейного металла – наверняка кровь. Где-то вверху раздаются хриплые стоны и хеканье. Якоб успевает заметить, как первый помощник обрушивает на Сниткера сокрушительный удар под дых. Писарь невольно сочувственно вздрагивает, валяясь на полу. В дверь врываются еще два моряка, и в этот самый миг Сниткер, пошатнувшись, падает.
Скрипач на нижней палубе играет «Темноглазую красотку из Твенте».
Капитан Лейси наливает себе виски, настоянный на черной смородине.
Ворстенбос бьет Сниткера по лицу тростью с серебряным набалдашником, пока не устает рука.
– Заковать этого рукоблуда в кандалы и поместить в самый вонючий угол кубрика!
Первый помощник с двумя матросами уволакивают стонущее тело. Ворстенбос, опустившись возле Якоба на колени, хлопает того по плечу:
– Спасибо, что приняли на себя удар, мой мальчик! Боюсь, нос вам расквасили знатно…
Боль такая, словно нос сломан, однако руки и колени липкие не от крови. Чернила, догадывается писарь, с трудом принимая сидячее положение.
Чернильница треснула, от нее разбегаются ярко-синие ручейки и речушки…
Чернильные струйки просачиваются в щели, впитываются в пересохшую древесину…
«Чернила, – думает Якоб, – самая плодотворящая из жидкостей…»
III. На сампане, пришвартованном возле судна «Шенандоа» в гавани Нагасаки
Утро 26 июля 1799 г.
Без шляпы, изнемогая от жары в своем синем парадном вицмундире, Якоб де Зут мыслями погрузился в прошлое – в тот день, десять месяцев назад, когда разъяренное Северное море кидалось на дамбу в Домбурге и ветер гнал мелкую водяную пыль по Церковной улице, мимо домика священника, где дядюшка торжественно вручал Якобу клеенчатую сумку. В сумке лежала Псалтирь в потертом переплете из оленьей кожи. Якоб и сейчас может по памяти повторить дядюшкину речь почти слово в слово.
– Небу известно, племянник, сколько раз ты уже слышал историю этой книги. Когда твой прапрадед был в Венеции, нагрянула чума. Он весь покрылся язвами размером с лягушку, но непрестанно молился вот по этому сборнику псалмов, и Господь излечил его. Пятьдесят лет назад твой прадедушка Тис воевал в Пфальце. Их полк попал в засаду. Пуля, летевшая в сердце твоего прадеда, застряла в обложке. – Дядюшка тронул свинцовую пулю, прочно вмятую в переплет. – Этой книге и я, и твой отец, и ты, и Гертье в буквальном смысле обязаны тем, что живем на свете. Мы не паписты, мы не приписываем чудесных свойств гнутым гвоздям и старым тряпкам, но ты понимаешь – эта священная книга связана с жизнью нашего рода. Она подарена тебе предками и взята тобой взаймы у потомков. Что бы ни принесли тебе грядущие годы, помни: эта Псалтирь… – Он коснулся клеенчатой сумки. – Это твой пропуск домой. Псалмы Давида – Библия внутри Библии. Молись по ним, внимай им, учись у них, тогда не собьешься с верного пути. Защищай их даже ценой своей жизни, и пусть они питают твою душу. А теперь ступай, Якоб. Господь с тобой!
– «Защищай их даже ценой жизни», – шепчет Якоб себе под нос…
…«В этом-то все и дело», – думает про себя.
Десять дней назад корабль «Шенандоа» бросил якорь у скалы Папенбург – названной так в память о мучениках истинной веры, сброшенных с высоты в море. Капитан Лейси приказал сложить все предметы христианской веры в бочку, накрепко забить и сдать японским властям – все вернут, когда бриг будет отплывать из Японии. Исключений не делают ни для кого, даже для нового управляющего факторией Ворстенбоса и его подопечного-писца. Матросы ворчали, что скорее расстанутся со своими детородными органами, чем с распятием, но когда на борт поднялись инспектора-японцы в сопровождении вооруженной охраны, все распятия и образки Святого Христофора мигом скрылись в заранее заготовленные тайники. Бочку наполнили четками и молитвенниками, которые капитан Лейси привез с собой специально для этой цели; Псалтирь де Зута не была в их числе.
«Как бы я мог предать своего дядю, – мрачно размышляет писарь, – свою церковь и своего Господа?»
Псалтирь запрятана меж другими книгами в сундуке, а на сундуке сидит де Зут.
«Вряд ли риск так уж велик», – уговаривает он сам себя. В книге нет ни пометок, ни иллюстраций, указывающих на то, что это христианский текст, а переводчики наверняка плохо знают голландский, где им разобрать архаичный библейский язык. «Я – служащий Объединенной Ост-Индской компании. Что могут японцы мне сделать?»
Ответа Якоб не знает, и, честно говоря, ему страшно.
Проходит четверть часа; о Ворстенбосе и его двух слугах-малайцах ни слуху ни духу.
Бледная веснушчатая кожа Якоба поджаривается, словно бекон на сковородке.
Над водой проносится летучая рыба, стрижет плавниками.
– Тобио! – кричит один гребец другому, показывая пальцем. – Тобио!
Якоб повторяет это слово, и оба гребца хохочут так, что лодка раскачивается.
Пассажир не возмущается. Он молча рассматривает кружащие вокруг «Шенандоа» сторожевые лодки; рыбачьи суденышки; жмущийся к берегу японский торговый корабль, крутобокий, как португальский галеон, только еще более пузатый; увеселительную барку знати, увешанную занавесями в черно-голубых цветах княжеского рода, в сопровождении лодок с прислужниками; и остроносую джонку, совсем как у китайских торговцев в Батавии…
Город Нагасаки, придавленный подошвами гор, словно сочится из-под пальцев дощатой серостью и бурыми земляными оттенками. От бухты тянет водорослями, отбросами и дымом бесчисленных труб. По горным склонам до самых зубчатых вершин ступеньками поднимаются рисовые поля.
«Безумец мог бы представить, что находится внутри надтреснутой нефритовой чаши», – думает Якоб.
Перед ним раскинулся его будущий дом: Дэдзима, обнесенный высокими стенами искусственный остров в форме веера, примерно двести шагов по внешней дуге, восемьдесят шагов в глубину. Остров образован из насыпей, как и бльшая часть Амстердама. За прошедшую неделю, рисуя наброски фактории с фок-мачты «Шенандоа», Якоб насчитал около двадцати пяти крыш: перенумерованные пакгаузы японских купцов; жилища капитана и управляющего; дом помощника управляющего с Дозорной башней на крыше; Гильдия переводчиков; больничка. Из четырех голландских пакгаузов – Рус, Лели, Дорн и Эйк – только последние два пережили, как выразился Ворстенбос, «Сниткеровский пожар». Лели сейчас отстраивают заново, а выгоревший дотла Рус подождет, пока фактория хоть чуть-чуть не расквитается с долгами. Сухопутные ворота связывают Дэдзиму с городом Нагасаки – одним пролетом каменного моста через ров с жидкой грязью, который заполняется водой во время прилива. Морские ворота открываются только в торговый сезон; здесь разгружают сампаны Объединенной Ост-Индской компании. Рядом – здание таможни, где всех голландцев, кроме капитана и управляющего, обыскивают, проверяя, нет ли у них запрещенных предметов.
«И во главе списка – предметы христианской веры», – думает Якоб.
Вернувшись к наброску, он углем заштриховывает морские волны.
Гребцы с любопытством вытягивают шеи; Якоб показывает им рисунок.
Старший из гребцов корчит рожу, как бы говоря: неплохо.
Оклик с дозорной лодки вспугнул гребцов; оба стремительно возвращаются на свои места.
Лодка качнулась под весом Ворстенбоса: хоть он и поджарый, сегодня у него под шелковой рубашкой выпирают куски рога «единорога», то есть нарвала – в Японии он ценится как лекарственное снадобье, исцеляющее все болезни.
– Я намерен искоренить этот балаган! – Управляющий постукивает костяшками пальцев по вшитым в одежду буграм. – Спрашиваю эту змею, Кобаяси: «Почему бы просто не уложить товар в ящик, открыто и законно, не отвезти его на корабль, открыто и законно, а потом продать с аукциона, открыто и законно?» И что он отвечает? «Никогда так не делалось». Я ему говорю: «Так будем первыми!» А он на меня смотрит такими глазами, как будто я себя объявил отцом его детей.
– Минеер! – кричит помощник капитана. – Ваши рабы с вами на берег поедут?
– Отправишь их вместе с коровой. А мне пока послужит черномазый Сниткера.
– Хорошо, минеер; тут еще переводчик Сэкита просится на берег съездить.
– Ну, спускайте сюда уродца, господин Вискерке.
Над фальшбортом показывается объемистый тыл Сэкиты. Ножны цепляются за веревочный трап; за эту незадачу служитель получает оплеуху. Когда переводчик и его слуга наконец усаживаются, Ворстенбос приподнимает щегольскую треуголку.
– Божественное утречко! Скажите, господин Сэкита?
– А-а… – Сэкита, ничего не поняв, кивает. – Мы, японцы, жители островов…
– Ваша правда, сударь. Море, куда ни глянь, голубой необозримый простор.
Сэкита изрекает очередную заученную фразу:
– У высокой сосны глубокие корни.
– И за что наши тощие денежки уходят на ваше перекормленное жалованье?
Сэкита поджимает губы, как бы в задумчивости.
– Доброго вам дня, господин.
«Если мои книги проверять будет он, – думает Якоб, – то я волновался попусту».
– Пошел! – командует Ворстенбос, указывая гребцам на Дэдзиму.
Сэкита без всякой нужды переводит приказ.
Гребцы под ритмичную песню-шенти двигают лодку вперед плавными, словно извивы водяной змеи, взмахами весел.
– Что они поют? – задумчиво рассуждает Ворстенбос. – «Вонючий голландец, отдай нам свое золото»?
– Вряд ли, минеер, при переводчике-то.
– Для него такое наименование слишком великодушно. Хотя лучше он, чем Кобаяси, – может, нам не скоро еще выпадет случай поговорить без посторонних ушей. Как окажемся на берегу, главной моей задачей будет – обеспечить фактории выгодный торговый сезон, насколько позволит дрянной наш груз. А у вас, де Зут, работа другая: разберитесь в счетах фактории, начиная с девяносто четвертого года, и в том числе по частным сделкам. Только когда мы будем точно знать, чт покупали и продавали сотрудники, сможем в полной мере оценить размах злоупотреблений.
– Приложу все силы, минеер.
– Заключив Сниткера под стражу, я всем продемонстрировал свою позицию, но если мы поступим так же с каждым, кто балуется контрабандой на Дэдзиме, на свободе останемся только мы вдвоем. Лучше покажем, как честный труд вознаграждается продвижением по службе, а воровство наказывается тюрьмой и позором. Только так мы сможем расчистить эти авгиевы конюшни. О, а вот и ван Клеф пришел нас встретить!
От морских ворот к причалу идет помощник управляющего.
– «Каждое прибытие – это чья-то смерть», – цитирует Ворстенбос.
Помощник управляющего Мельхиор ван Клеф, рожденный в Утрехте сорок лет назад, срывает с головы шляпу. Лицо у него смуглое и бородатое, как у пирата; прищуренные глаза друг назвал бы «внимательными», враг – «мефистофельскими».
– Доброго утра, господин Ворстенбос! Господин де Зут, добро пожаловать на Дэдзиму! – Рукопожатие Мельхиора ван Клефа способно дробить камни. – Желать вам приятного здесь пребывания было бы слишком радужно…
Он замечает недавно возникшую кривизну писарского носа.
– Премного обязан, господин ван Клеф.
У привыкшего к морю Якоба земля покачивается под ногами. Кули уже выгрузили его сундук и тащат прочь.
– Минеер, я бы хотел присмотреть за своими вещами…
– Вполне справедливое желание. Раньше нам частенько случалось поучить грузчиков кулаком, но недавно градоправитель издал указ о том, что побитый кули – оскорбление для Японии, так что теперь – нельзя. С тех пор их канальство не знает границ.
Переводчик Сэкита, не рассчитав прыжок с носа лодки на пристань, проваливается одной ногой в воду по колено. Выбирается на твердую землю, огревает слугу по физиономии веером и несется впереди троих голландцев с криком:
– Ходить! Ходить! Ходить!
Ван Клеф поясняет:
– Он хочет сказать: «Идемте».
По ту сторону Морских ворот их сейчас же проводят в помещение таможни. Здесь переводчик Сэкита спрашивает имена иноземцев и выкрикивает их пожилому чиновнику, а тот – своему помощнику помладше, который заносит имена в книгу. Вместо «Ворстенбос» он пишет «Борусу Тэнбосу», вместо «ван Клеф» – «Банкурэйфу», а «де Зут» превращается в «Дадзуто». Инспекторы протыкают вертелами круги сыра и бочонки с маслом, только что выгруженные с «Шенандоа».
– Проклятущие негодяи, – злится ван Клеф. – Бывало, и куриные яйца разбивали – вдруг там кто-то запрятал дукат-другой!
К ним приближается дюжий стражник.
– Знакомьтесь, это он будет вас обыскивать, – объявляет ван Клеф. – Для управляющего сделают исключение, но к подчиненным, увы, это не относится.
Подходят еще несколько молодых людей; у них выбриты лбы, а волосы связаны узлом на макушке, как у инспекторов и переводчиков, посетивших на этой неделе «Шенандоа», только одеяния не такие пышные.
– Переводчики без ранга, – поясняет ван Клеф. – Надеются подольститься к Сэките, выполняя за него его работу.
Они хором повторяют для Якоба слова стражника, проводящего обыск:
– Руки поднимать! Открывать карманы!
Сэкита, шикнув на них, приказывает Якобу:
– Руки поднимать! Открывать карманы!
Тот подчиняется. Стражник обхлопывает ему подмышки и шарит в карманах.
Находит альбом с эскизами, осматривает мельком и выдает очередной приказ.
– Господин, туфли показать! – выпаливает самый расторопный переводчик.
Сэкита сурово фыркает.
– Сейчас показывать туфли.
Даже грузчики бросили работу и смотрят.
Некоторые без всякого стеснения тычут в писаря пальцами и во весь голос комментируют:
– Комо, комо!
– Это они о ваших волосах, – объясняет ван Клеф. – Европейцев здесь часто называют «комо». «Ко» значит «красный», а «мо» – волосы. Сказать по правде, среди нас немногие могут похвастать шевелюрой такого оттенка, как у вас; «рыжеволосый варвар» – зрелище, на которое поглазеть не грех.
– Вы изучаете японский, господин ван Клеф?
– Вообще-то, это запрещено, но я кое-чего нахватался от своих жен.
– Я буду весьма обязан, если вы меня научите тому, что знаете.
– Да какой из меня учитель, – отнекивается ван Клеф. – Доктор Маринус болтает с малайцами, словно родился чернокожим, но и он говорит, что японский выучить тяжело. А если кто из переводчиков возьмется нас учить и его на этом поймают, могут обвинить в государственной измене.
Стражник, проводящий обыск, возвращает башмаки Якобу и отдает очередной приказ.
– Одежду снимать, господин! – хором подхватывают переводчики. – Снимать одежду!
– Одежду снимать никто не будет! – огрызается ван Клеф. – Господин де Зут, служащие фактории не раздеваются! Это отребье хочет нас унизить! Один раз подчинитесь – и всем прибывающим в Японию чиновникам придется делать то же самое до скончания века.
Стражник возмущается. Переводчики галдят:
– Снимать одежду!
Переводчик Сэкита спешит уползти от греха подальше.
Ворстенбос, ударив тростью в пол, восстанавливает тишину.
– Нет!
Недовольный стражник решает не настаивать.
Другой таможенник стукает копьем о сундук Якоба и произносит несколько слов.
– Открывать, пожалуста, – переводит кто-то из безранговых. – Открывать большой ящик!
«Ящик, – дразнится внутренний голос, – где лежит Псалтирь».
– Давайте, де Зут, не то мы тут все состаримся, – поторапливает Ворстенбос.
Борясь с тошнотой, Якоб послушно отпирает сундук.
Стражник снова что-то говорит, хор переводит:
– Назад, господин! Шаг назад!
Больше двадцати шей с любопытством вытягиваются. Стражник, откинув крышку, вынимает и осматривает пять сорочек тонкого полотна; шерстяное одеяло; чулки; мешочек с пряжками и пуговицами; потрепанный парик; набор писчих перьев; пожелтевшее исподнее; циркуль, что Якоб хранит еще с детства; полкуска виндзорского мыла; две дюжины писем от Анны, перевязанных подаренной ею лентой; бритвенное лезвие; курительную трубку дельфтского фарфора; зеркальце с трещиной; переплетенные ноты; побитый молью бархатный жилет бутылочно-зеленого цвета; оловянную тарелку, ложку и нож. В самом низу – стопки книг. Таможенник обращается к подчиненному, и тот выбегает за дверь.
– Приводить дежурный переводчика, господин, – объясняет один из толпы переводчиков. – Смотреть книги.
– А разве… – У Якоба сдавило ребра. – Не господин Сэкита будет проводить экзекуцию?
Ван Клеф, сверкнув коричневыми зубами, усмехается в бороду:
– Экзекуцию?
– Инспекцию, минеер! Я хотел сказать, инспекцию.
– Переводчику Сэките папаша место в гильдии купил, но запрет… – Ван Клеф одними губами выговаривает «на христианскую веру», – слишком важен, это не для тупиц. Книги проверяет кто-нибудь с соображением. Ивасэ Бнри или, может, кто-нибудь из семейства Огава.
– Что за Огава? – Якоб поперхнулся собственной слюной.
– Огава Мимасаку – переводчик первого ранга, их всего четыре человека. Сын его, Огава Удзаэмон, – третьего ранга, а…
В помещение таможни входит молодой человек.
– Ага! О черте речь, а черт навстречь! Теплого утречка, господин Огава!
Огаве Удзаэмону на вид лет двадцать пять, лицо у него умное, открытое. Безранговые переводчики сгибаются в низком поклоне. Сам он кланяется Ворстенбосу, затем ван Клефу и наконец – новенькому.
– С прибытием, господин де Зут!
У него отменное произношение. Переводчик протягивает руку для рукопожатия, на европейский манер, в тот самый миг, как Якоб отвешивает поклон в азиатском стиле. Огава Удзаэмон ответно кланяется, Якоб подает руку. Присутствующие веселятся.
– Мне сказали, господин де Зут привез много книга… И вот они здесь… – Переводчик указывает на сундук. – Много, много книга. «Изобилие» книг – так у вас говорят?
– Несколько книг. – От страха Якоба подташнивает. – Да, некоторое количество.
– Позволите взглянуть?
Не дожидаясь ответа, Огава начинает вынимать книги из сундука.
Для Якоба мир сузился до узкого туннеля между ним и Псалтирью, втиснутой в середку двухтомного издания «Сары Бургерхарт».
Огава хмурится:
– Много, много книг. Времени чуть-чуть, пожалуста. Я известить, когда закончить. Это есть приемлемо? – Он неверно истолковывает колебание Якоба. – Книги не повреждать. Я тоже библиофил. – Огава прижимает ладонь к сердцу. – Это правильное слово? Библиофил?
Во дворе, где взвешивают товары, солнце печет, раскаленное, как железо для клеймения.
«С минуты на минуту мою Псалтирь обнаружат», – думает контрабандист поневоле.
Небольшая группа японских чиновников ждет Ворстенбоса.
Раб-малаец кланяется, держа в руках бамбуковый зонт для управляющего.
– У нас с капитаном Лейси, – говорит управляющий, – встречи с местным начальством назначены одна за одной, до самого обеда. Выглядите неважно, де Зут; сейчас ван Клеф вам покажет, что здесь и как, а потом зайдите к доктору Маринусу, пусть выцедит вам полпинты кровушки.
Кивает на прощание помощнику и уходит в сторону отведенного ему дома.
Посреди двора стоят весы-треножник, высотой в два человеческих роста.
– Сегодня мы взвешиваем сахар, – говорит ван Клеф, – хоть и дрянь первостатейная. Из Батавии какие-то оскребки прислали, что в пакгаузах завалялось.
На крохотном клочке земли толкутся больше сотни купцов, переводчиков, инспекторов, слуг, соглядатаев, лакеев, грузчиков и носильщиков с паланкинами. «Вот они какие, японцы», – думает Якоб. По цвету волос – от черных до седых – и по оттенкам кожи они в массе выглядят более однородно, чем голландцы, а одежда, обувь и прически, кажется, строго различаются по рангам. На балках строящегося пакгауза, как на насесте, устроились человек пятнадцать-двадцать полуголых плотников.
– Бездельники, хуже пьяных финнов, – бурчит себе под нос ван Клеф.
С крыши таможни за ними наблюдает обезьянка с розовым личиком и шерстью цвета сажи на снегу, одетая в курточку из парусины.
– Вижу, вы заметили Уильяма Питта.
– Простите, минеер?
– Да-да, премьер-министр короля Георга. Только на это имя откликается. Лет шесть-семь назад его купил какой-то матрос, но в день отплытия макака сбежала, а назавтра объявилась вновь, свободным гражданином Дэдзимы. Кстати, о макаках… – Ван Клеф указывает на человека с короткой косицей и впалыми щеками, вскрывающего ящики с сахаром. – Это Вейбо Герритсзон, один из наших работников.
Герритсзон складывает драгоценные гвозди в карман куртки. Взвешенные мешки с сахаром тащат дальше, мимо японца-инспектора и поразительно красивого юноши-иностранца лет семнадцати-восемнадцати: золотые, как у херувимчика, волосы, пухлые губы яванца и по-восточному раскосые глаза.
– Иво Ост, чей-то незаконнорожденный сынок с щедрой добавкой смешанной крови.
Мешки с сахаром заканчивают свой путь у стола на козлах, рядом с весами.
За взвешиванием наблюдают еще трое чиновников-японцев, переводчик и два европейца лет двадцати с небольшим.
– Слева, – показывает ван Клеф, – Петер Фишер, пруссак из Брауншвейга…
Фишер – загорелый до черноты, темноволосый, с залысинами.
– Он конторщик с образованием стряпчего… Хотя господин Ворстенбос говорил, вы тоже специалист высокого класса, так что у нас теперь специалистов в избытке. Рядом с ним – Кон Туми, ирландец из Корка.
У этого Туми словно вдавленный профиль и акулья улыбка; коротко стриженные волосы, грубая одежда из парусины.
– Не волнуйтесь, если новые имена забудутся; после отплытия «Шенандоа» у нас будет целая вечность, успеем со скуки выучить друг о друге все, что только можно.
– Неужели японцы не догадываются, что у нас не все из Голландии?
– Мы сказали, якобы у Туми зверский акцент, потому что он из Гронингена. Когда это компании хватало чистокровных голландцев? Тем более теперь. – Выделенное слово намекает на деликатную историю с заключением Даниэля Сниткера под стражу. – Обходимся тем, что есть. Туми у нас плотник, а в дни взвешивания – еще и за инспектора. Если за этими кули не смотреть в оба глаза, мешок сахара умыкнут, черти, оглянуться не успеешь. Да и стражники не лучше, а купцы – самое жулье: вчера один сукин сын подсунул каменюку в мешок, а потом будто бы «обнаружил» и нас же обвинил, стал требовать, чтобы скидку на тару понизили.
– Господин ван Клеф, мне приступать к исполнению своих обязанностей?
– Пусть сперва доктор Маринус вам кровь отворит, а как устроитесь, милости прошу на поле боя. Приемная Маринуса – в конце Длинной улицы, вот этой самой, там еще лавровое дерево растет. Не заблудитесь. На Дэдзиме еще никому не удавалось заблудиться, если только грогом не нагрузиться по самую ватерлинию.
– Ваше счастье, что я по пути подвернулся, – произносит сиплый голос десять шагов спустя. – На Дэдзиме заблудиться – что гусаку посрать. Ари Гроте меня зовут, а вы, стало быть, – он хлопает Якоба по плечу, – Якоб де Зут из славной Зеландии. Ух ты, лихо вас Сниткер по носу приложил, аж на сторону своротил, ага?
У Ари Гроте щербатая улыбка и шляпа из акульей кожи.
– Нравится моя шапка? Это ко мне в хижину в джунглях острова Тернате заполз боа-констриктор, когда я там ночевал с тремя туземными девицами. Я сперва подумал, кто-то из них меня этак нежно будит, понимаете? Ан нет, нет, легкие как стиснет, и три ребра хрустнули – крак! грюк! хрясь! И смотрю, при свете Южного Креста прямо в глаза мне уставился, гад ползучий. Это его и сгубило. Руки-то у меня были зажаты, зато челюсти свободны. Я его и цапнул за голову со всей дури… Когда змея визжит – такое не скоро забудешь! Гад ползучий все дрыгался, сдавил меня еще крепче – а я ему в горло вцепился и яремную вену перекусил начисто. Благодарные туземцы сделали мне из его шкуры накидку и провозгласили меня этим самым, Повелителем Джунглей – змеюка-то на все деревни в округе страх наводила. Да только… – Гроте вздыхает. – Сердце моряка навеки отдано морю, ага? В Батавии мне из той накидки шапок наделали, по десять рейхсталеров за каждую… Только одну себе оставил, последнюю. Ни за какие деньги не отдам – разве что по доброте душевной готов поделиться с новеньким, вам же нужнее, ага? Отдам красоту такую, и не за десять рейхсталеров, не за восемь даже, всего за пять стюверов. Хорошая цена, не прогадаете!
– Увы, шляпник в Батавии подменил вам змеиную шкуру на дурно выделанную акулью.
– Спорим, вы из-за карточного стола с набитым кошелем уходите! – заулыбался Ари Гроте. – Мы тут собираемся иногда по вечерам в моей скромной квартирке, пообщаться по-дружески и рискнуть парой монет… Вроде парень вы свойский, не задаетесь. Присоединяйтесь к компании, а?
– Боюсь, вам будет скучно с пасторским сынком. Пью я мало, а в азартные игры играю и того меньше.
– Да кто на Востоке не игрок? Мы тут собственную жизнь на кон ставим! Из десяти человек хорошо если шестеро вернутся домой с прибытком, а четверо-то сгинут где-нибудь в болоте. Шестьдесят к сорока – не слишком хорошие шансы. Кстати, на дюжину дукатонов или драгоценных камней, зашитых в подкладку, одиннадцать перехватывают у Морских ворот, хорошо если один проскочит. Лучше всего их прятать в заднем проходе, и, кстати, господин де З., если ваша грешная дыра, э-э, начинена подобным образом, я вам предложу лучшую цену…
На Перекрестке Якоб останавливается. Впереди продолжается плавная дуга Длинной улицы.
– Там – Костяной переулок. – Гроте указывает вправо. – Он ведет к улице Морской Стены, а в той стороне, – он машет рукой влево, – Короткая улица и Сухопутные ворота…
…«А за Сухопутными воротами, – думает Якоб, – Сокровенная империя».
– Не-не-не, господин де З., для нас эти ворота не откроются. Управляющего с помощником и доктора М. иногда пропускают, а нам – нетушки. «Заложники сёгуна» – так нас местные называют, и прямо в точку, ага? Но послушайте, что скажу! – Гроте подталкивает Якоба в спину. – Я не только с драгоценностями да монетами дело имею. Не далее как вчера, – он переходит на шепот, – я добыл для одного проверенного клиента с «Шенандоа» коробку чистейших кристаллов камфоры, прогнившую дыхалку лечить, – на родине такие из канала не выудишь!
«Он мне приманку приготовил», – думает Якоб, а вслух отвечает:
– Господин Гроте, я не занимаюсь контрабандой.
– Да что вы, господин де З., я вас и не обвиняю, чтоб мне сдохнуть тут же на месте! Так просто, для сведения обмолвился, что обычно беру четверть продажной цены в виде комиссии, но такому прозорливому юноше, как вы, готов отдать семь десятых пирога. Люблю я дерзких зеландцев, ничего с собой поделать не могу! Кстати, с удовольствием договорюсь насчет вашего порошочка от французской болезни. – Гроте произносит это с небрежностью человека, который старается скрыть, что речь зашла о важном. – Тут некие купцы, называющие меня «братец», взвинтили цену быстрей, чем у хорошего жеребца причиндал приходит в боевую готовность, и происходит это прямо сию минуту, господин де З., так-таки в эту самую минуту, а почему?
Якоб замирает:
– Откуда вы знаете, что я привез с собой ртуть?
– Выслушайте же мою благую весть, ага? Этой весной, – Гроте понижает голос, – один из многочисленных сыновей сёгуна испробовал лечение ртутью. Способ здесь известен уже лет двадцать, только в него никто не верил, да что делать: у княжонка огурчик уже весь протух, так что прямо позеленел и светился как гнилушка. Один курс голландского порошка и – о радость – полное исцеление! История разлетелась как лесной пожар; каждый аптекарь в Японии с воплями требует чудесного эликсира, и вдруг являетесь вы и с вами целых восемь ящиков! Доверьте переговоры мне – и получите такую прибыль, что на тысячу шляп хватит; а если возьметесь за дело сами, друг мой, вас обдерут как липку, из вашей собственной шкуры шапок наделают.
Якоб снова идет вперед:
– Как вы узнали про мою ртуть?
– Крысы, – шепотом отвечает Ари Гроте. – Да-да, крысы. Я их прикармливаю, а они мне рассказывают то да се. Вуаля, вот и больничка; в хорошей компании дорога вдвое короче, ага? Значит, договорились: отныне я действую в качестве вашего агента, ага? Контрактов подписывать не будем, незачем – благородный человек не нарушит слово. Пока, до встречи!
Ари Гроте поворачивает назад, к Перекрестку.
Якоб кричит ему вслед:
– Я не давал вам своего слова!
За дверью госпиталя начинается узкий коридор. Впереди похожая на трап лестница ведет к открытому люку в потолке; справа вход в приемную врача – просторную комнату с распятым на раме в виде буквы «Т» потемневшим от времени скелетом. Якоб старается не думать о том, что Огава уже, быть может, нашел Псалтирь. Операционный стол заляпан кровью, к нему крепятся веревки и ремни, чтобы удерживать пациентов. У стен – подставки для хирургических пил, ножниц, скальпелей; на столе рядами ступки и пестики; в углу большой шкаф – там, наверное, лекарства; рядом тазы для кровопусканий, столики и лавки. Пахнет свежими опилками, воском, целебными травами и чуточку требухой. За дверью – больничная палата, три пустые койки. Глиняный кувшин с водой искушает; Якоб пьет прямо из половника – вода холодная и вкусная.
«Почему здесь никого нет, вдруг воры?»