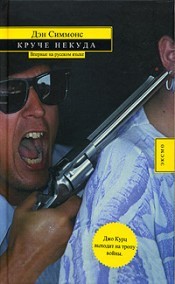Магелланово Облако Лем Станислав
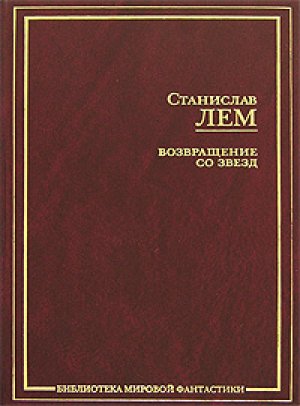
Все рассмеялись.
– Это, конечно, шутка,– продолжал я,– но создаваемые теперь машины отличаются друг от друга так же, как отличаются от подобных себе деревья, цветы и люди: рисунком листьев, оттенком лепестков, цветом глаз, волос – чертами малосущественными, но придающими физическую индивидуальность.
– Ты прав,–отозвался один из собеседников,– но это индивидуальность нового типа, прежде она была результатом отсутствия знания, а теперь, скорее, вытекает из его избытка.
В тишине, воцарившейся после его слов, от столика, где сидел Гообар, донесся взрыв смеха. Заинтересованный тем, что развеселило астрофизиков, я подошел к их столику и услышал голос Тер-Аконяна:
– Слово имеет профессор Трегуб.
– Что здесь происходит?– шепотом спросил я Зорина, который стоял у пальмы.
– Это такая игра: выдумывание «возможных миров», – так же тихо ответил он мне. – После Трегуба будет говорить Гообар.
Наступила полная тишина. Мне предстояло услышать нечто похожее на состязание знаменитых ученых в остроумии и находчивости.
Трегуб покачал головой, насупил брови и очень серьезно начал:
– Можно себе вообразить, что мир, в котором мы живем, существует не непрерывно, а периодически, что материя, из которой он образован, «мигает» подобно прерывистому лучу света. Материя соседнего мира в периоды его существования может «разместиться» в промежутках существования нашего мира. Оба эти мира мы можем назвать «взаимно совмещенными» в одном и том же пространстве. Если могут быть два таких мира, их может быть и значительно больше – тысячи и даже миллионы. Все они могут сосуществовать в пространстве и обладать совершенно независимыми физическими законами, за исключением того, который регулирует их частоты, чтобы не могло произойти «столкновение» материи двух или нескольких миров. Таким образом, можно представить себе, что через пространство, которое занимают наши тела, в данный момент проникают вереницы существ из Вселенной № 5678934, существ, которые обсуждают выдвинутую в настоящее время мной возможность.
Раздались аплодисменты и смех, которые, однако, быстро смолкли. Все с интересом ожидали выступления Гообара.
Он стоял, расставив ноги и слегка покачиваясь, как бы испытывая прочность пола. Наконец он сказал:
– Предположим, что какая-то метагалактика стала на путь последовательного усложнения своей структуры, выражающегося в том, что отдельные звезды начинают соответствовать нервным клеткам мозга. Через определенное время эта метагалактика, объединяющая несколько миллиардов галактик, становится как бы единым «мозгом» шарообразной формы, диаметром, скажем – мы люди смелые, – миллиарда в четыре световых лет…
– Ужасная фантазия,– прошептала сидевшая недалеко от меня Калларла.– Какой это был бы гениальный урод из пылающей материи…
– Ты ошибаешься, моя дорогая, – очень спокойно возразил Гообар. – Я боюсь, что это был бы– по крайней мере, по нашим критериям – кретин из кретинов. – Он достал карманный анализатор и, произведя небольшой подсчет, продолжал: – В таком «мозгу» галактики соответствовали бы нервным ядрам, а световые лучи –нервным импульсам.Чтобы представить мысленно самое простое понятие, например «я существую», понадобилось бы около 1019 , то есть свыше ста триллионов лет… Я полагаю, что такое замедленное мышление трудно назвать гениальным.
Все рассмеялись; одна Калларла казалась разочарованной.
– Значит, это невозможно, – сказала она. – Жаль…
Мне уже несколько минут казалось, что в зале слышно какое-то низкое ворчание или гул, но я не обращал на него внимания. Теперь, когда после слов Калларлы наступила тишина, отдаленный гром усилился. Он доносился как будто из-под земли, несколько раз я ощутил тяжелые удары. Пол затрясся под нашими ногами. Все вскочили с мест и стали всматриваться в открытые настежь двери террасы. Из мрака, пронизываемого холодным ветром, теперь доносился непрерывный грохот.
– Ого, там происходит что-то интересное, – сказал Гообар и первый двинулся на террасу.
За ним поспешили все.
Здесь царила такая густая тьма, что, казалось, она обрушивается на нас огромной тяжестью. Над горизонтом вспыхнуло багровое зарево: из конуса вулкана вырвался короткий сноп пламени. Воздух заколебался, задрожали каменные плиты террасы. Над вулканом стояла туча, ее пронизывали молнии, один за другим раздавались удары грома. Вдруг эти низкие звуки заглушило пронзительное шипение, клубы как бы окрашенного кровью пара вырвались из океана: лава попала в воду.
Сначала все молчали, потом послышались возгласы:
– Великолепно!
– Кто это придумал?
– Конечно, Ирьола!
– Смотрите, как все дрожит!
Ирьола был найден, к нему потянулись десятки рук, каждый хотел поздравить и похлопать его по плечу. Он уверял, что не имеет к этой выдумке никакого отношения.
– Бывает, конечно, что вулканы начинают извергаться, но при чем здесь я?
Зарево все росло, над вулканом появились огненные змеи и зигзаги – это взлетали ввысь вулканические бомбы. Над нашими головами несколько раз слышался пронзительный вой.
– Пойдемте отсюда, друзья! – послышался вдруг чей-то молодой голос. – Вы не знаете видеопластиков: для усиления иллюзии они готовы обрушить нам на головы дождь из огня и серы!
Вулкан грохотал так сильно, что заглушал наши голоса и смех.
Наконец Тер-Аконян от имени всех присутствующие обратился к конструкторам этого зрелища, и те, поспорив с нами, на минуту исчезли. Вскоре извержение начало ослабевать, и мы вернулись в зал. Прежние группы распались, одни подзывали автоматы и, столпившись вокруг их серебристых фигур, поднимали бокалы с игристым вином, другие устроились в креслах под пальмой и забавлялись какой-то игрой. Смех раздавался все чаще, кое-где послышались песенки, появилось несколько огромных светящихся баллонов, которые перелетали с одного конца зала на другой.
Я нерешительно потоптался около столика, на котором пилоты, руководимые Аметой, расставляли сложные телевизионные приборы для игры в «погоню за ракетой», и наконец пошел на галерею. Она опоясывала весь зал. Огромные насекомые, изваянные из драгоценных камней, производили вблизи ужасающее впечатление. Я уже хотел уйти, когда услышал голос, доносившийся из-за скульптуры, у которой я стоял. Прошло некоторое время, прежде чем я сообразил, что, как и морской пейзаж, скульптура – дело рук видеопластиков, однако, прежде чем двинуться прямо на искрящуюся шероховатую поверхность, я должен был преодолеть в себе инстинктивное сопротивление. Перед моими глазами вспыхнули, потом исчезли огромные бриллиантовые глаза паука. Я прошел через пустоту и очутился в полумраке. У гладкой стены сидели Соледад и Анна. Устремив на меня невидящий взгляд, Анна говорила:
– Скажи, был ли у тебя когда-нибудь в жизни вечер, который, как тебе казалось, закрывает дорогу к завтрашнему дню, совершенно бесполезный, который нужно убить, уйти от него, словно сняться с мели? Вечер, когда тебя охватывает сомнение во всем, к чему ты стремишься, вечер, в который ты оставляешь все, за что принималась раньше, и, если приходит человек, совершенно тебе безразличный, ты рада, потому что его приход снимает с тебя последнюю ответственность за время, которое ты не знаешь, как убить?
– Если такой вечер случается раз-другой в год, это ничего, – ответила Соледад. – Но, если это происходит часто, смотри!.. Тебе тяжело с ним?
– Очень,– ответила Анна. Она продолжала смотреть на меня.
В этот момент я понял, что она говорит обо мне, но не видит меня: я, вероятно, не вышел из зоны миража.
– Тут тебе никто не поможет, – продолжала Соледад, – но ты и он…
Сдерживая дыхание, стараясь шагать как можно тише, я поспешно отошел и снова очутился перед искрящейся мозаичной скульптурой. Мне не хотелось думать о случайно подслушанном разговоре.
На противоположном конце галереи стояли сотрудники Гообара Жмур и Диоклес.
Они смотрели на ту часть зала, где не было столиков: там двигались десятки людей. Мы увидели большую группу, в центре которой находилась молодая девушка в светло-голубом платье. Время от времени там слышались взрывы смеха. Потом девушка запела. Это была забавная, веселая песенка; пропев первый куплет, она показала пальцем на одного из стоявших рядом с ней, и тот, на кого пал выбор, должен был продолжать. Так, перебрасываясь от одного к другому, песенка под шутки и смех кочевала по всему залу, пока наконец не забралась под колонны. Там, в нише, из которой ушел автомат, стоял Гообар. Какой-то юноша, только что закончивший свой куплет, встал перед ним и указал на него пальцем. Мгновение царила тишина. Потом ученый запел хрипловатым баритоном следующий куплет. Слушатели наградили его бурей рукоплесканий, он, в свою очередь, указал на кого-то, и песня ушла в глубь зала. Гообар, все еще сохраняя на лице улыбку, с которой он выполнял свою обязанность певца, незаметным движением достал карманный автомат и стал что-то вычислять.
– Вот он, Гообар,– сказал Диоклес.– Ты можешь с ним играть,танцевать,петь, говорить про рай и ад, но он никогда не будет целиком с тобой.
– Но ведь он действительно любит веселиться, – заметил Жмур.
– Я знаю, что он не притворяется, ну и что же? Он любит людей, но сам не такой, как все мы. Когда новый сотрудник находится вблизи него, – продолжал Диоклес, – он не может отделаться от желания задать Гообару целую кучу разных, в том числе довольно смешных, вопросов. Эти наивные попытки ни к чему не ведут, потому что он – неразрешимая загадка. Не раз я удивлялся той старательности, с какой он пытался отвечать…
– Например? – спросил я.
Мы продолжали смотреть на великого ученого, который в этот момент остановил проходивший мимо автомат, снял с подноса бокал и начал отпивать вино маленькими глотками.
– Начиная от вопроса, как он добивается великих результатов…
– Да, это действительно не очень умный вопрос, – согласился я. – Ну, и что же ответил Гообар?
– Он отвечал долго и серьезно и под конец сказал: «Может быть, потому, что я неустанно думаю…» В этой фразе, несмотря на ее кажущуюся банальность, есть великая и простая истина: его ум непрерывно создает мысленные конструкции и сталкивает их одну с другой; это похоже на не прекращающиеся никогда попытки великого синтеза, растянутые на многие месяцы и годы; у него хватает смелости додумывать до конца гипотезы, которые кажутся совершенно абсурдными, и делать из всего необходимые выводы. Я никогда не пойду с ним больше в горы. Я не хочу погибнуть.
– Что общего между твоим инстинктом самосохранения и Гообаром?
– Есть общее. Мы как-то совершали подъем на восточный траверс Памирского заповедника…
– Извини,– прервал его я, – а он хороший альпинист? Как он ведет себя в горах?
– Ты сейчас услышишь, я к этому подхожу. Конечно, альпинист он неплохой. Там было небольшое, но дрянное ущелье. Прежде чем мы вошли в него, Гообар вдруг остановился и сказал, что у него возникла одна идея., Я сказал ему, чтобы он записал ее, но он возразил, что и так не забудет. Он не забывал идеи; он забывал лишь то, где находится и что делает. Из-за этого он едва не сломал себе шею и не убил нас. Он не видел ни гор, ни пропасти, вообще ничего. Когда закончил в голове подсчеты, уже по дороге к лагерю он стал просить у нас извинения, но я видел, что он делал это, так сказать, по обязанности, не ощущая при этом ни малейшего угрызения совести, не говоря уж о страхе. Я говорю вам: этот человек совершенно лишен инстинкта самосохранения.
Последние слова Диоклес произнес с нескрываемым раздражением.
Пение внизу прекратилось, несколько минут оттуда доносился неясный шум, отдельные голоса еще пытались продолжать песню, но их заглушал общий гул. Наконец прекрасный женский альт запел протяжную песню, похожую на колыбельную.
– Он везде и всегда остается самим собой, – сказал Диоклес, как бы не имея силы уйти от затронутой темы. – Ты слышал о том, как он начал свою деятельность? Бабка обычно оставляла его – тогда шестилетнего мальчика – дома под присмотром дяди. Его дядя, Клавдий Гообар, довольно известный математик, в то время работал над созданием теории магнитного поля. Дядя сажал его где-нибудь в уголке, давал игрушки, а сам продолжал работать. Ребенок тихонько играл: он в детстве был очень молчалив. Однажды вечером, решая какую-то трудную задачу, старый Клавдий яростно заспорил с автоматом. Вдруг ребенок сказал из угла: «Надо ввести матрицу линейных операторов…» и продолжал играть, будто не сказал ни слова. Дядя, словно пораженный молнией, раскрыл рот: это было искомое решение задачи…
– Редко случается, – заметил я, – чтобы так называемые гениальные дети действительно оправдывали потом возлагаемые на них надежды. Он же не только оправдал, но и превзошел все ожидания.
Мимо нас двигался автомат. Диоклес выпил сразу два бокала вина. У него покраснели щеки, на висках забилась жилка. Я хотел сказать ему, чтобы он больше не пил: во всем, что он говорил о Гообаре, ощущались тревога и горечь. Это чувствовалось не только в словах, но в выражении лица, в голосе. Жмур оставил нас, его высокая фигура промелькнула на фоне мозаики и исчезла за колоннами галереи. Несколько секунд мы молчали.Внизу напевали плясовую, в центре группы кто-то начал хлопать в такт мелодии в ладоши, затем послышалось ритмическое притопывание: один из юношей начал танцевать в широком круге, вдруг он выхватил из круга девушку и так закружил ее в танце, что видно было лишь мелькающее светлое платье да золотистые волосы. Диоклес смотрел на танцы невидящими глазами, но вдруг повернулся ко мне с искаженным лицом. Он, видимо, выпил еще, и вино плохо действовало на него. Я взял его за руку, пытаясь проводить домой, но он вырвался и тоном неожиданного признания сказал:
– Поверь, я не какой-нибудь тупица: я написал шестнадцать работ, и все они были опубликованы. Две из них в самом деле неплохи, но про меня никогда не скажут: «А, знаем, это тот Диоклес, который разработал вопроси мнемоники», а всегда говорят: «Диоклес? Ага, это ассистент Гообара». Я бы поговорил с грядущими поколениями, я бы сам им представился: биотензоры реальных объемов, инерция отраженной памяти – мои создания. Есть у меня и другие, еще не законченные работы, но последняя – это моя гордость. Однако все это ни к чему. Я – ассистент Гообара, войду в историю лишь как один из его группы, у которого нет ничего своего, пустой звук, тень одного из ста тысяч листьев в кроне дерева. Я знаю, что тут ничего не поделаешь… Так должно быть…
– Что ты говоришь?
Я был ошеломлен. На лице этого низенького человека вдруг выразилось такое страдание…
– Ведь ты мог бы работать самостоятельно в другой группе. Во всяком случае, ты можешь в любое время уйти от Гообара…
– Что?– воскликнул Диоклес. Лицо его сжалось и стало похоже на темный кулак.– Уйти от Гообара?
- Уйти?– повторил он. – Да что ты говоришь? Мне– добровольно уйти? Где же я найду другого такого?
– Если он так подавляет тебя своим величием… – осторожно начал я.
– Что ты говоришь?– спросил пораженный Диоклес и, притянув меня к себе, страстно зашептал:– Да, он выше меня, выше всех нас. Ну и что же? Мы продолжаем идти дальше; за семь лет мы выполнили в институте огромную работу, я не хвалюсь, это подтвердит каждый. Знаю сам, что сейчас я способен сделать больше, чем вначале, что мой умственный горизонт расширился, но, когда я дохожу до той точки, где только что был Гообар, он уже опять далеко и по-прежнему впереди нас на несколько этапов. Атака следует за атакой, и каждый раз он остается победителем, а я – побежденным. Горько ли это? Бесспорно, да! Но каждый раз меня побеждает нечто большее, чем в предыдущий раз!
Он виновато улыбнулся, кивнул мне и удалился легкими, как всегда поспешными шагами. Я стал смотреть в зал.
Ниша, где до этого стоял Гообар, была пуста. Я вышел на террасу. Там не было никого, приглушенные голоса звучали издалека. Я подошел к балюстраде и долго, закрыв глаза, вдыхал холодный, соленый воздух. Легкий ветерок овевал мою разгоряченную голову. Горизонта не было видно; его можно было лишь угадывать по контуру вулкана, очерченному тонкой пурпурной линией. Усталость, незаметная до сих пор, охватила меня, наливая свинцом руки и ноги. Повернувшись спиной к холодной каменной балюстраде, я широко раскинул руки и оперся о ее край. И тут, в самом отдаленном углу террасы, я заметил утонувшую во мраке фигуру женщины. До меня донесся чуть слышный в тишине голос Гообара, низкий и сильный.
Я узнал женщину: это была Калларла. На ее лицо падал чуть заметный отблеск света, и вся она с сосредоточенными и одновременно ушедшими вдаль глазами, окруженными тенью, казалась бесплотной и нереальной; ее полуоткрытые губы словно пили что-то, чего нельзя было увидеть. Не вникая в то, что говорил Гообар, она вслушивалась в его низкий голос, как бы вверяя ему всю себя. Она любила его. Любила за то,что он был именно таким и никогда нельзя было предвидеть, что он сейчас сделает или скажет; любила его внезапную нежность, которую он проявлял почти бессознательно, любила его пальцы, всегда холодные от соприкосновения с металлическими клавишами, упрямый поворот его головы и улыбку, с которой он спорил со своими автоматами; любила его манеру молча прищуривать глаза, словно он радовался тому, что эти машины, по сути дела, ничего не понимают. Иногда, когда он привлекал ее к себе, его голова замирала у нее на груди, потом он вдруг поднимался и смотрел ничего не видящими глазами:это вырывалось наружу неустанно бушевавшее в нем внутреннее движение. Он переставал видеть ее, улыбка, которую она посылала ему, исчезала; их разделял один из тех безграничных миров, которыми он играл. Легкость, с которой он отрывался от нее, причиняла ей боль. Она страдала от этих внезапных приступов слепоты, понимая, что ее любовь– лишь слабый, падающий издали свет, а он сам то появляется в его лучах, то вновь исчезает.
Но среди всего этого была какая-то минута, когда, пробуждаясь от своих мыслей, он одними губами произносил ее имя, как бы призывая ее, хотя она была так близко, что их не разделяло ничто, кроме их мыслей.
Вспоминая пору своего девичества, светлую и спокойную, как ожидание музыки, она внезапно понимала, как ей тогда недоставало того, что нес сейчас каждый новый день. Если бы можно было выбирать и начать жизнь сначала, она еще раз отдала бы свое сердце этим непрерывным поражениям и снова с открытыми глазами принимала бы все удары, которые он невольно наносил ей, делила бы с ним все, кроме своих страданий, которые она так хорошо умела скрывать. Но, хотя она не могла охватить его всего, как парус не может обнять весь ветер, дующий в пространстве, она любила его, и больше всего то, что было в нем от наивного ребенка, смотрящего на мир удивленными глазами; любила, когда он, засыпая, тихо дышал возле нее, любила слабое движение его губ, что-то шепчущих во сне. Она любила больше всего именно то человеческое, что было в нем и что могло существовать, лишь пока он был жив, чтобы потом исчезнуть навсегда.
ЗВЕЗДНАЯ АННА
Наше путешествие длилось уже второй год. Жизнь на корабле шла своим чередом. Лаборатории работали, на межгрупповых конференциях происходил обмен результатами исследований.
Мы внешне сумели преодолеть начавшееся отчуждение между членами экипажа. Все охотно сходились вместе, наши товарищеские встречи происходили так же часто, как научные собрания. Мы много говорили о повседневных мелких делах, о прослушанных концертах, прочитанных книжках, о знакомых. Однако о Земле никто не упоминал, про нее вообще не было слышно в беседах. Могло показаться, что все забыли о ее существовании. Люди не вспоминали близких, оставшихся на ней, и не говорили о самом путешествии.
На эту тему беседовали лишь специалисты. Они открыли немало интересных фактов. Так, например, через несколько месяцев после того, как ракета достигла полной скорости, они заметили, что температура внутри корабля начинает возрастать, хотя и весьма незначительно. Инженеры занялись поисками причины этого явления. Оно было тем более странным, что двигатели корабля уже не работали; источник повышения температуры мог лежать лишь вовне, а там была пустота. В кубическом сантиметре этой пустоты едва встречалось несколько атомов, поэтому она практически могла считаться абсолютной по сравнению со средней плотностью газа в земных условиях, когда в одном кубическом сантиметре заключается несколько десятков триллионов атомов. Но «Гея» двигалась с такой быстротой, что каждый квадратный сантиметр ее поверхности сталкивался в секунду с восьмьюстами миллиардами атомов; этого было достаточно для возникновения трения и нагревания ракеты. Более того: оказалось, что, пронизывая этот межзвездный газ, ракета постепенно обрастает тонким слоем атомов, как бы вдавленных стремительным движением в ее внешнюю оболочку. Возникающий таким образом прирост массы был крайне незначителен, однако точная аппаратура сумела его измерить.
В амбулатории у меня бывало по нескольку пациентов в день; они приходили с разными, часто очень неопределенными жалобами; иногда казалось, что эти жалобы– лишь предлог для беседы с врачом, во время которой можно пооткровенничать. Это привилегированное положение позволило мне добраться до истоков событий, происшедших несколько лет спустя.
Постепенно всех охватывало какое-то ощущение «легкой жизни». Люди охотно шутили, смеялись, играли, но все это носило поверхностный характер. Время от времени в разгар ничего не значащей беседы у кого-нибудь вырывалась фраза, которую все старались обойти молчанием. Помню, как однажды в саду при обсуждении работ тектонофизиков и возможности их использования в дальнейшем была упомянута Земля. Какая-то женщина при этом вполголоса сказала: «Да вернемся ли мы туда вообще?» Одно мгновение царило напряженное молчание, потом несколько человек сразу поспешно заговорили на другую тему.
Наши юноши и девушки кончали школы, вступали в брак. Рождались дети.
Я уделял детям много внимания. Особенно тщательно я обследовал матерей, посещавших амбулаторию. Кроме научной добросовестности, мной руководило неясное подозрение, что непосредственное соседство вечного мрака и звезд, от которых мы пытались отгородиться толстым слоем броневой оболочки ракеты, окажет неведомое нам влияние на формирование и развитие маленьких человеческих существ. Поэтому я с некоторым недоверием помогал пеленать розовых плачущих малюток, словно ожидал, что у них внезапно проявятся какие-то «звездные» черты. Однако эти ожидания – я сам понимал, насколько смешны были они, – не оправдались. Все проходило совершенно нормально, дети были здоровы и веселы, самые старшие уже ползали по газонам сада, а их жалобный плач, неожиданно доносившийся из какой-нибудь квартиры, когда я проходил по коридору, согревал и делал удивительно близкими окружавшие нас стены, будто здесь сохранилось теплое дыхание нашего собственного детства.
Заниматься детьми приходилось больше всего мне: Шрей был хирургом, а Анной овладела какая-то неприязнь к детям, которую я не мог объяснить себе: в начале путешествия она живо интересовалась судьбой первых новорожденных.
Были ли мы с Анной счастливы? Не знаю.
Любовь не поддается научному исследованию, ее нельзя выразить ни в формулах, ни в таблицах, нельзя ни предвидеть, ни выразить ее величину. И все же жизнь без нее не была бы полной. Любовь порождает единство мечтаний, когда любящий видит мир глазами другого;приносит радость проникновения в его заботы и принятия на свои плечи его бремени, которое никогда не кажется слишком тяжелым. Страсть становится тогда лишь одним из многих звеньев, связывающих двух людей, а нежность превращается в тот язык без слов, который начинается там, где прекращается обычный, будничный язык. Так любить можно лишь один раз.
Когда головы двух людей сближаются для поцелуя, лица другого нельзя охватить взглядом, потому что оно находится слишком близко; эта близость ничего не решает, ни к чему не обязывает. Напрасно я хотел насильно вызвать у себя чувство, напрасно искал его в жарком поцелуе, в горячем объятии, – оно было в вечернем молчании, в полускрытой улыбке, в случайном, неожиданном прикосновении рук, когда рука одного хочет погладить руку другой и несмело останавливается на полпути. Как мало понимал я Анну, как бесконечно мало касалось меня то, чем она жила!
Я неоднократно замечал, что она помнила все– вплоть до самых мелких– детали наших первых встреч, в то время, как я не помнил почти ничего; я приписывал это свойственной женщинам способности запоминать, которая часто отсутствует у мужчин.
Однажды вечером мы сидели на тахте, покрытой тяжелым белым мехом. Усталый, я положил голову на руки Анны и смотрел в пространство невидящими глазами. Комнату освещала низко висевшая голубая лампочка. Я часто говорил Анне, как мы найдем планету, такую маленькую, что на ней хватит места лишь для двоих, именно для нас. Мы останемся на ней и будем жить в маленьком домике среди звезд. Лениво, полушепотом я повторял то же самое и теперь, как вдруг увидел в зеркале на стене лицо Анны.
Она слушала меня с еле уловимой горькой гримаской, исказившей ее губы, которая как бы говорила: «Я знаю, что все это – ложь, и ты твердишь это лишь для того, чтобы заполнить молчание, что ты забудешь каждое слово, едва успев произнести его, – и все же продолжай, говори, говори дальше».
И в это мгновение я понял, что не давал ей ничего. Она для меня была лишь теплым, тихим убежищем от пустоты длинных часов, недель и месяцев. Ее любовь не страшилась звезд, а я думал лишь о том, какие у нее душистые волосы и нежная, кожа. Анна понимала это с самого начала и шла на все с каким-то спокойным отчаянием: она любила меня. Я был для нее самым дорогим и в то же время чужим человеком; равнодушный и холодный человек этот вошел в ее жизнь, стал перебирать самые интимные воспоминания, копался в них, как ребенок в игрушках, на мгновение подносил к глазам, чтобы тут же со скукой отбросить прочь; иногда он бывал нежен – и это было еще хуже.
Я умолк, не будучи в состоянии выжать из себя хоть одно слово.
– Ну, а дальше что?.. – спросила она тихо, слегка покачивая мою голову.
Я не мог говорить, будто железная рука сжала мое горло; я притянул ее голову к себе и спрятался за поцелуем, чтобы она не могла прочитать на моем лице, что я понял все.
О, как бы мне хотелось сказать вам, что в ту же минуту я полюбил Анну и мы были очень счастливы! К сожалению, дела человеческие не решаются так просто.
Минула вторая зима нашего путешествия, настала вторая весна. В саду под лучами искусственного солнца все деревья испытывали обычные перемены: как только солнце начинало пригревать сильней, они покрывались листвой и зацветали; когда лучи его становились слабее, они загорались прелестными красками осени… Лишь канадская ель над ручьем, покрытая темной, почти черной хвоей, не меняла своей внешности. Ботаники впрыскивали в землю, откуда она черпала живительные соки, специальные гормоны и другие препараты, но ель стояла неподвижная, мрачная и равнодушная, как бы презирая их наивную заботу; не желая быть частью фальшивого миража, она замерла в вечном сне. Но однажды утром по всему кораблю словно электрическая искра пробежала весть: черная ель поверила в весну и ночью выбросила зеленые побеги…
Большая толпа собралась в саду. Никто не говорил ни слова. Подгоняемые непонятным чувством, люди торопливо приходили, останавливались, молча смотрели на проснувшееся дерево и тихо уходили поодиночке. Наконец в саду осталось несколько человек; кому-то захотелось сорвать светло-зеленую иголку, растереть ее между пальцами и вдохнуть запах смолы, но другой сделал ему за это строгое замечание. Наконец я остался один, сел под деревом и опустил голову на руки. К наивной радости, какую доставил мне вид дерева, примешивалась глухая жалость. Я почувствовал на себе чей-то взгляд. Подняв голову, я увидел Амету и Зорина: они стояли рядом со мной.
– Пойдем с нами, – сказал Амета. – Прогуляемся по смотровой палубе.
Мне совершенно не хотелось идти, особенно теперь.
– Не хочешь? – сказал Амета. – Пойдем все-таки.
Я рассердился на Амету за его назойливость, но все же встал и неохотно двинулся за пилотами. Лифт поднял нас на палубу, и через минуту мы очутились в звездном мраке. Я не хотел смотреть на звезды и отвернулся, но всем своим существом чувствовал бездну за собой. Так мы стояли в темноте, пока Амета не сказал, как бы ни к кому не обращаясь:
– Мы живем не в доме, над которым бегут облака; мы несемся в Космосе. Можно обманывать себя, поступать так, словно этого нет, но лучше раз навсегда сказать себе: мы находимся в пустом пространстве, и сделать вывод из этого факта. Наш ум пытается любой ценой набросить на действительность занавес какой-то огромной лжи. Этого делать нельзя. Нам не нужна уютная, лишенная всяких событий уверенность. Разве неизвестность не больше отвечает человеческому характеру? Мы раздвигаем горизонты, открываем новое. Так не будем же закрывать глаза! Вот единственное мужество, какое нужно нам. Не отталкивай бездну, не возмущайся против нее: мир, наш мир, именно таков. И, чтобы все, что кажется чуждым и ужасным, стало целью, к которой мы уже давно стремимся, необходимо лишь понять, что чем страшнее явление, тем оно ближе нам, людям.
Я молчал. Амета заговорил вновь, как бы продолжая прерванную беседу:
– Ты собираешься куда-нибудь сегодня вечером?
– Нет.
– Приходи через час в детский парк. Хорошо?
Детским парком назывался зал, похожий на небольшой ботанический сад. Деревьев здесь было не очень много, все они были низкорослы, с толстыми изогнутыми стволами, по которым так хорошо было взбираться. Для самых младших были сделаны песочницы и маленький грот в скалах. В центре сада бил фонтан.
Сегодня не было ни деревьев, ни песочниц: видеопластики превратили зал в заколдованный сад, где должно было состояться необыкновенное состязание: участники его собирались оспаривать звание лучшего сказочника. Претендентов на это звание было много. Каждый по очереди занимал место на возвышении, и его окружала толпа внимательно слушавших детей, державших в руках маленькие серебряные колокольчики.
Когда сказка кончалась, они трясли колокольчиками, давая выход своим чувствам, а большой автомат в смешной одежде, наполовину скрытый в тени пальмы, измерял общую силу издаваемых колокольчиками звуков. Одним из лучших рассказчиков оказался Зорин; обычно неразговорчивый, он удивил нас сказкой «О радиоактивных великанах со звезды Алголь». И все же пальму первенства завоевал Тембхара. Одетый волшебником автомат под аккомпанемент вспышек бенгальских огней назвал его имя.
Воспитатели начали разводить детей на отдых, при этом дело не обошлось без плача: младшим все казалось мало. Осмотревшись вокруг, я увидел, что в зале остались лишь взрослые. Внезапно на опустевшую трибуну легкими шагами поднялась Калларла и, улыбаясь, спросила:
– А не рассказать ли еще одну сказку? Если хотите, я расскажу, чтобы вы все не чувствовали себя такими старыми-престарыми…
Мы начали подбирать брошенные детьми серебряные колокольчики, и скоро весь зал наполнился их веселым звоном, а Калларла с таинственным видом начала:
– Сказка, которую я расскажу вам, похожа на быль. Она называется «Рассказ о смеющемся Тюринге».
В наступившей тишине некоторое время еще слышались шаги обслуживающих автоматов. Потом утихли и они, а Калларла все еще не начинала, как бы ожидая чего-то. На ее губах блуждала легкая улыбка. Чего она ждала? Может быть, чтобы вернулось то настроение, которое охватило всех нас, когда в зале были дети?
Наконец она сказала:
– Слышала я этот рассказ от своей бабушки, женщины очень консервативной, которая… но, может быть, при сказках комментарии не нужны? Итак, я начинаю.
Она не смотрела на нас. Глаза ее, обращенные к искрящейся струе фонтана, стали неподвижными, а приглушенный голос смешивался со звуком воды, падающей в каменную чашу.
– Давным-давно, больше тысячи лет назад, мир делился на две части. В одной правили атлантиды. Они хотели уничтожить другую половину мира, которая не подчинялась их власти. Они накапливали яды, взрывчатые и радиоактивные вещества, при помощи которых можно было бы отравить воздух и воду. Но чем большие запасы таких веществ они делали, тем больший страх охватывал их.
Они покупали за золото ученых, чтобы те создавали самые совершенные машины для убийства. Однажды им стало известно, что на далеком острове за океаном живет ученый, по имени Тюринг, умеющий создавать автоматы. Тогда об автоматах знали еще очень мало и никто точно не представлял себе, какую пользу они могут приносить. Тюринг строил различные автоматы: одни делали машины, другие выпекали хлеб, третьи вычисляли и обладали способностью логически рассуждать. Он трудился сорок лет, пока не изобрел автомат, который мог делать все.
Этот автомат мог выплавлять металл из руды и шить сапоги, превращать один элемент в другой и строить дома, он мог и работать физически и думать обо всем. Он мог ответить на любой вопрос и решить любую задачу; не было дела, которого бы он не выполнил, если оно ему было поручено. Властители Атлантиды направили своих агентов с заданием купить Тюринга, но ученый не согласился на это. Тогда они заключили его в тюрьму и похитили чертежи его изобретений. Старший из атлантидов просмотрел эти чертежи, созвал других и сказал: «Если у нас будет такой автомат, спросим его, как уничтожить тех людей, которые хотят навсегда устранить войны». А другой властитель добавил: «Он, кроме того, скажет нам, как отучить наших подданных от мышления, потому что мыслящие люди неохотно умирают во славу нашего золота».
Все присутствующие, зааплодировали ему и решили: построим Большой Генеральный Автомат Тюринга, будем всемогущими, и никто в мире не сможет противостоять нам.
Затем собрали семь тысяч счетных работников (тогда люди еще считали в уме), чтобы те подсчитали, сколько золота понадобится на оплату строительства. Вслед за ними собрали семь тысяч инженеров и конструкторов, которые семь лет чертили проекты… Еще до того, как проекты были закончены, первые бригады рабочих отправились готовить строительную площадку.
В Аламогордо, в центре огромной песчаной пустыни Новой Мексики, было собрано семь раз по семи тысяч рабочих. Они жили в железных бараках, по ночам страдали от холода, а днем изнывали от страшной жары. Болезни истребляли их, но на смену умершим сгоняли все новых рабочих, которые копали огромные котлованы под фундаменты,пробивали шахты и галереи в скалах, а над ними возвышались землеройные машины, похожие на гадов, живших сто семьдесят миллионов лет назад.
Эта стройка длилась семь лет и еще семь лет, и через четырнадцать лет сто тысяч акров земли были покрыты металлическими башнями и домами и отгорожены от остального мира высокими стенами. Наступил день, когда ушли последние из тех, кто выполнил эту гигантскую работу, и ворота закрылись.
Строительные площадки опустели, кругом воцарилась тишина, и лишь ветер свистел высоко в натянутых проводах да по извилистым дорожкам шагали охранники с собаками. Так продолжалось семь дней, пока однажды темной, безлунной ночью у восточной стены не остановился экипаж, который назывался бронированным автомобилем. Из него вышли семь человек, управляющих Атлантидой. Первый был хозяином ее железа, второй– угля, третий– нефти, четвертый– дорог, пятый– хлеба и мяса, шестой– электричества, а седьмой – армии. С ними приехал восьмой, бледный юноша, сын одного из властителей.
Навстречу им из-под земли вышел главный инженер стройки и низко поклонился прибывшим. Властителя вышли из автомобиля и увидели раскачивающиеся высоко за стенами лампы, привешенные на проволочных канатах, а в их неспокойном свете– черные блоки и башни, стоящие рядом, как шеренги солдат: это была лишь видимая, находящаяся на поверхности земли, небольшая часть Генерального Автомата Тюринга, который уходил глубоко под землю, в галереи и залы, просверленные в скалах пустыни. Охранники с обеих сторон приблизились к черным дверям в стене, двери открылись, и посетители вошли внутрь, где их ожидала застекленная вагонетка, которая сейчас же двинулась в путь.
Они ехали по залам, залитым холодным синим светом, по зданиям, как бы перевернутым вверх ногами и вдавленным в скалу, а над их головами темнели лианы проводов, висевших на огромных грибообразных изоляторах. Они проезжали мимо вмонтированных в стены триггерных ячеек; миновали шахты, у которых стояли на страже бронированные автоматы; вагонетка углублялась все дальше, а инженер объяснял им все н говорил, что в подземельях одних лишь главных приборов больше, чем секунд в жизни человека. Они ехали дальше, спускаясь с одного этажа на другой; за стеклом извивались коридоры, взгляд терялся в лесу проводов. Вагонетка скользила под толстыми медными трубами. Иногда где-то в глубине сверкал рубиновый фонарик, мрак густел, а вагонетка с ритмическим стуком опускалась все ниже и ниже. И весь этот необъятный и неизмеримый лабиринт был мертв: ни один импульс тока еще не прошел через миллиарды километров проводов, оплетавших медный мозг машины.
Властители ехали долго, пока за стеклами не засверкали лампочки, осветившие влажные стены туннеля. Вагонетка затормозила и остановилась. Они были у цели. На самом нижнем этаже под этой гигантской стройкой находилась небольшая бронированная комната яйцевидной формы. Они вошли туда. На черных стенах виднелись контрольные часы – семьдесят семь часов. Посреди комнаты было возвышение. На нем стоял черный микрофон, а под бриллиантовым колпаком виднелась кнопка. И больше ничего. Отсюда надо было отдавать приказы Большому Генеральному Автомату Тюринга.
Инженер объяснил, что автомат может выращивать экзотические цветы, закладывать сады и уничтожать людей. Он не имел никаких предохранительных устройств, подобных тем, какие есть у современных автоматов, и вообще совершенно не был похож на них. Это был дикий, варварский автомат, своими размерами в миллионы раз превышавший пирамиды.
Они стали у возвышения. Наступила тишина. Хотя под сводами пылали семь люстр, черные стены поглощали свет. Пуск Автомата Тюринга должен был состояться позднее, но главный инженер, стремясь заслужить благоволение властителей, посоветовал произвести его испытание теперь. Уже несколько лет его самого мучило ожидание, и в глубине его сознания таилась сокровенная мысль: он понимал, что тот, кто станет у микрофона пущенного в ход Тюринга, будет самым сильным в мире человеком, сильнее ассирийских и вавилонских магов, которым служили демоны. И, когда первый властитель спросил: «А что нужно сделать, чтобы пустить автомат в ход?» – он ответил: «Нажмите вот эту черную кнопку, она поднимет затворы в плотинах, воды реки Святого Хуана устремятся на лопасти семидесяти семи турбин, возникнет ток, который насытит металлические внутренности Тюринга, и тогда в его органах забьется электрический пульс».
Властитель был немного взволнован: он любил великие и удивительные дела и, как бы нехотя, нажал кнопку. Вспыхнул свет, стрелки на всех циферблатах вздрогнули, лампы открыли свои красные глаза и взглянули на людей, а над их головами вздрогнуло и пришло в движение все пространство площадью в сто тысяч акров.
Вращались и пыхтели машины, тысячи вакуумных трубок раскалились докрасна, реле начали включаться и выключаться, и через все катушки, соленоиды и обмотки прошел ток. Но в черной комнате виднелись лишь неподвижные циферблаты часов, а в репродукторе слышался глухой шум:, гигант, обладавший медным мозгом, был уже оживлен, но еще спал и, казалось, храпел.
Тогда властители поняли, что перед ними находится всемогущее существо, которое они сами создали и которое сделает все, что ему прикажут. Когда они вдумались в это, то в глубине души испугались, как бы заглянув в пропасть: они не привыкли к тому, что можно быть всемогущим.
Каждый подумал, что автомат по его приказу может уничтожить сокровища и лишить жизни шестерых других властителей, но отгонял эту назойливую мысль во имя интересов новой войны, которую они решили затеять.
Восьмому из них было всего восемнадцать лет, он был сыном хозяина железа, самого богатого из всех, потому что из железа производились все орудия истребления. Этот властитель умел как никто другой торговать кровью, на его заводах стучали тысячи стальных молотов для того, чтобы в далеких землях перестали биться тысячи живых сердец. А его сын был еще мальчиком, бледным и печальным. Он познал вкус всех плодов земли, всех ядов, возбуждающих расслабленные нервы, и все удовольствия, которые можно получить за золото. Поэтому мир казался ему полным безграничной скуки, и в поисках неизвестных ему волнений он охотно погружался в лабиринты темных философских учений.
Люди стояли неподвижно, подавленные собственным ничтожеством по сравнению с машиной, не пытались промолвить ни слова и лишь вслушивались в мерный гул, говоривший о том, что чуткий и покорный гигант замер в ожидании. Тогда бледный юноша неожиданно вышел вперед и задал вопрос:
– Зачем мы живем?
Охваченный ужасом, его отец хотел наказать юношу, но не успел открыть рот, как Тюринг пришел в движение. Лампочки начали мигать, свет ослабел, темные стены подползали к ним и снова отступали; из репродуктора вырвался железный вздох, за ним другой, третий, четвертый, с каждым разом все сильнее. Пол задрожал, с него поднялась пыль, у присутствующих, потрясенных ужасными толчками, подкосились ноги. Вдруг в грозовом скрежете и грохоте все бросились к двери, толкаясь и в панике сбивая друг друга с ног: они поняли, что машина смеялась…
ПЕТР С ГАНИМЕДА
Я давно не писал о юноше с Ганимеда. Первая операция спасла ему жизнь – и только. Повреждения мозга преградили путь мыслям. Он не умел ни говорить, ни писать, ни читать и, в довершение всего, страдал слепотой. Нет, он не был совершенно слеп, он видел, его глаза реагировали на свет, но находящийся в мозгу центр зрения был как бы островом, отделенным шрамами от центров памяти, и поэтому он воспринимал лишь бесформенный хаос цветных пятен и фигур. Мы сделали ему новую операцию, и теперь он медленно выздоравливал; стало восстанавливаться нормальное мышление, он вновь научился говорить.
К концу второго года юноша почти ничем не отличался от любого из нас, с той только разницей, что факты из своей биографии он знал не потому, что пережил, а потому что выучил их. Он снова узнал, что его зовут Петром. Мы рассказывали ему про его собственную жизнь то, что нам передали по радио с Земли; задержка сигналов в пути, к счастью, в этом случае не имела значения: если бы передачи пришли вовремя, они были бы бесполезны.
Петр уже сидел в глубоком кресле: он очень исхудал, но силы его восстанавливались с каждым днем, и он все чаще говорил о своем намерении примкнуть к группе молодежи, занимающейся изучением звездоплавания. Мы искренне приветствовали это желание, так как были убеждены, что работа поможет ему вернуться к жизни. Однако он не знал, что произошло с ним за последние два года, и это беспокоило его. Решив, что ему уже можно знать все, мы с Тер-Хааром сообщили ему, каким образом он очутился на «Гее».
Потом я очень осторожно рассказал ему про эксперимент, который мы проделали при исследовании его мозга, о том, как Анна спросила его, любил ли он. Петр оживился, глаза его заблестели. Я испугался, не повторилась ли вновь нервная лихорадка, которая долгое время мучила его, но он сказал, что хочет поделиться с теми, кто спас ему жизнь, своим единственным уцелевшим воспоминанием. Я попытался было отговорить его от этого, но он так упорно настаивал, что, посоветовавшись с Анной и Шреем, я согласился. Кроме врачей и Тер-Хаара, при его рассказе присутствовал Амета, чье общество всегда самым удивительным образом ободряло нашего больного.
Петр говорил короткими фразами, часто останавливался и вопросительно глядел то на меня, то на Анну, как бы ожидая, что мы подскажем ему нужное слово. Рассказ прерывался долгими паузами. Иногда он задумывался и в молчании, закрыв глаза, силился восстановить какую-то стертую, утраченную деталь. Порой ему это удавалось, иногда же он покачивал головой со слабой, беспомощной улыбкой, которая означала «забыл». Он походил на человека, который возвратился в родные края и нашел пепелище на месте родного дома, поднял какой-то осколок и по нему воссоздает памятный лишь ему одному образ целого. Может быть, именно поэтому его суровый и простой рассказ потряс нас. Я передаю его вам не в том искаженном виде, в котором слышал сам, но переписав заново и заполнив все пробелы благодаря сообщениям с Земли.
Вот история Петра с Ганимеда, потерпевшего крушение в межзвездном пространстве, его единственное воспоминание, которое оказалось сильнее катастрофы.
Его детство было таким же, как и у его сверстников. До семи лет он жил у деда с бабкой в большом заповеднике евразийского парка природы на Памирском плоскогорье и лишь два месяца в году проводил в старом доме родителей на Висле. Затем он поступил в школу; отправился путешествовать по морям и континентам Земли, что было связано с изучением географии и геологии, посещал старые музеи и изучал коллекции, чтобы знать историю, совершал вылазки в горы, предпринимал летние экскурсии в поля и леса. Вместе со своими товарищами под наблюдением воспитателей он проводил самостоятельные физические и химические эксперименты, изучал модели планет в детском межпланетном парке, летал на ракетах и, наконец, впервые отправился на две недели в обсерваторию на шестой космической станции. Это было время ярких снов, мечтаний об открытиях далеких планет, о необычайных приключениях, о грозных силах, с которыми он намеревался бороться до победы.
Он рос; все вокруг него становилось понятным, и детские мечты о борьбе и победах уходили вдаль. Он уже изучал основы всеобщей науки и был убежден, что таинственное– если оно есть вообще– можно найти лишь в самых отдаленных уголках Вселенной. В семнадцать лет он стал посещать политехникумы, институты, лаборатории, чтобы познакомиться с безграничными просторами деятельности человека и выбрать ту отрасль, которой хотел бы посвятить себя. Вначале он интересовался астрономией, но в конце концов поступил в Институт общего и экспериментального звездоплавания.
Три года спустя он окончил вступительный курс и начал готовиться к четырехлетнему периоду самостоятельных исследований. Именно тогда он испытал первый успех: профессор Диаадик, оценивая результаты работы своих учеников, признал, что самые большие надежды подает Петр. Но скоро радость успеха была отравлена для юноши горечью поражения, которое он потерпел в борьбе с неведомой силой, открытой им не на далекой звезде, а в себе самом. Он познакомился с молодой девушкой, ровесницей, такой же, как и он, студенткой. Их объединяли общие интересы и надежды; через год они подружились. Им иногда было смешно оттого, что их мысли были одинаковы и чувство, возникавшее у одного из них под влиянием произведения искусства, дополнялось чувством другого. В эту пору он работал более интенсивно, чем когда-либо. Он никогда раньше не был так уверен в том, что сможет преодолеть любые препятствия, никогда не штурмовал их с такой страстью и решимостью. Он непрерывно искал новых дел и задач. Иногда им овладевало непреодолимое желание подняться одному на какую-нибудь горную вершину; в это время он совершил несколько смелых, рискованных восхождений. Однажды вечером, оставшись в лаборатории наедине с девушкой и увидев, как она, отвернувшись от него, легкая и сильная, работает у аппаратов, он вдруг с замиранием сердца неожиданно понял, что его борьба с самим собой, стремление уединиться, непонятная задумчивость, жаркие сны, невысказанная тоска,– все это объясняется одним словом: любовь.
Не сразу и не скоро он сказал ей это слово. Наконец пришла эта минута, и все было кончено: она ценила, уважала, но не любила его. После решительного объяснения он несколько месяцев избегал встречи. Когда же они увиделись вновь, он уже не сказал ничего, и, что самое удивительное, почти перестал думать о ней. Только изредка по ночам, сидя над раскрытой книгой при свете низко опущенной лампы, он вдруг поднимал голову и устремлял свой взгляд туда,где начиналась темнота, пустая и черная, как межзвездное пространство. Его пронизывала молния сожаления, такая сильная, что у него перехватывало дыхание. Он сутулился, опускал голову и возвращался к своим расчетам, бессмысленно повторяя последние написанные фразы.
Минул год и другой. Петр приступил к дипломной работе. Он жил в филиале звездоплавательного института на Луне. Там он закончил работу и прилетел на Землю, чтобы сдать ее своему воспитателю Диаадику. Он собирался вернуться на Луну в тот же день, но встретил одного из своих старших товарищей, который сказал полушутя: «Жаль, что ты не показываешься у нас. Дочка все ждет, когда ты расскажешь ей обещанную сказку».– «Ну, раз обещал, извинись и скажи, что я завтра приеду», – серьезно ответил Петр.
У него было несколько свободных часов. Он отправился в большой парк при институте и там встретил девушку. Они не виделись два года. Она очень обрадовалась ему и предложила погулять вместе. Они полетели з один из ближайших заповедников, ходили там до захода солнца по зарослям вереска; она нарвала огромный букет. Наконец, утомленные жарой, они сели отдохнуть на южном склоне холма, покрытого густой, высокой травой.
Солнце уже скрылось за горизонтом, листва трепетала под прохладным дыханием надвигающейся ночи. Вдруг в северо-восточной стороне вспыхнул ослепительно яркий свет, молния прорезала тучи, поднялась к зениту и исчезла; донесся затихающий грохот, похожий на раскаты отдаленной грозы.
– Это была последняя ракета на Луну, – сказала девушка. – Она улетела без тебя, теперь тебе придется остаться до утра.
Он не ответил. Сумерки сгущались. В тучах еще был заметен фосфоресцирующий свет; наконец он исчез. Лицо его спутницы становилось все менее различимо.
Долго длилось молчание.
– Пора идти, – сказала она полушепотом, словно кто-то, кроме них, стоял поблизости.– Уже поздно…
– Жаль, что я не вызвал гелиоплан, полетели бы, – сказал он вставая.
– Ничего… Только я не знаю, как нам выйти отсюда, Петр.
– Будем ориентироваться по звездам и поищем поезд. Он проходит где-то неподалеку. Смотри вверх. Видишь – Большая Медведица? А дальше – Полярная звезда.
Они добрались до голой, плоской вершины холма. Едва различимые звезды лишь усиливали темноту. Они стали спускаться вниз. Ноги путались в высокой, влажной от росы траве.
– Ты слышал, – спросила она его, немного помолчав, – что больше не будут сбрасывать воду из океанов за пределы земной атмосферы?
– Эта работа проводилась по плану расширения поверхности континентов?
– Да, до сих пор воду сбрасывали без пользы; теперь есть проекты использовать эту воду для орошения засушливых планет. Смотри-ка, здесь, кажется, можжевельник: я укололась. Ага, вот начинается тропинка! Все-таки мы куда-нибудь да придем. Так вот, профессор поручил нам новую работу, очень интересную.
Тропинка, по которой они шли, вилась вдоль высокого, буйно разросшегося кустарника. На повороте открылся вид на широкие просторы. Далеко в небе двигалось светящееся облако, потом оно остановилось и поползло назад.
– Видишь, – указала она спутнику, – Поздена производит свои опыты… Жаль, что ты не остаешься здесь… Я показала бы тебе все новое; мы ведь многого добились за последнее время.
– Нет, – вырвалось у него, – я не должен был сюда приезжать!
Она остановилась. У мелких листьев кустарника была светлая изнанка, и, когда под дуновением ветра они поворачивались, казалось, что из темноты смотрят десятки белесых глаз. Он не видел девушки, а видел лишь беспокойное трепетание листьев, на фоне которых, в ореоле призрачных огоньков, неясно выделялась ее фигура.
– Почему, Петр? – тихо спросила она.
– Не будем говорить об этом, – попросил он. Он внезапно почувствовал себя очень усталым.
– Петр… я думала… Ведь я, понимаешь ли, не хотела… Я думала, что за два года… – Она умолкла, не докончив фразы.
– Что за два года я забыл?– Он слабо улыбнулся.– Не говори этого,– добавил он, словно разговаривал с ребенком. – Ты не понимаешь… Впрочем, я тоже не понимаю. Дай руку.
Девушка протянула руку. Он продолжал говорить, и его легкий голос, какого она еще никогда не слышала, едва можно было различить среди непрекращающегося шума листьев.
– Ты всегда остаешься со мной. Я не знаю и не спрашиваю, почему это так. Твои пальцы, губы так же принадлежат мне, как мои собственные. Я не выбирал их: они существуют, и я не удивляюсь этому, хотя по временам могу против этого бунтовать… Но кто же, подумай, бунтует всерьез против собственного тела? Ты не дорога мне, как не дорого собственное тело, но ты необходима мне, как необходимо оно: без него я не мог бы существовать. Я касаюсь твоей руки. Как высказать тебе это? Бессмертия нет. Мы все это знаем и все так думаем. Но теперь, в эту минуту, бессмертие есть. Я прикасаюсь к твоей руке – и словно я знаю всех забытых и погибших, все страдания и горести людей и все миры. А что же такое бессмертие, как не это?
Ты молчишь. Это хорошо. Не говори мне– забудь, ведь ты умная.Если бы я забыл, то уже не был бы собой, ибо ты вошла в меня, слилась с самыми отдаленными воспоминаниями, дошла туда, где еще нет мысли, где даже не рождаются сны, и, если бы кто-нибудь вырвал тебя, осталась бы пустота, будто меня никогда не было: я должен был бы отказаться от себя самого.
Знаешь, почему я взял работу в обсерватории? Мне хотелось забыть тебя, но когда я смотрел на голубую Землю, то чувствовал, будто смотрю на тебя; ты всюду, куда я смотрю. Прости, не сердись… Ах, что я говорю! Ведь ты понимаешь, зачем я все это говорю? Не для того, чтобы убедить тебя или объяснить тебе что-нибудь: этого не нужно объяснять, как человеку не объясняют зачем он живет.
Я знаю: то, что я ощущаю, для тебя бесполезно. Но наступит время, когда у тебя будет многое позади, а впереди останется мало, и ты, возможно, будешь искать в воспоминаниях какую-то опору. И ты будешь совсем другой, и все будет другим, и я не знаю, где я буду, но это не имеет значения. Подумай тогда, что мое звездоплалавание, так же как мои сны, мой голос и мои заботы, мысли, еще неизвестные мне, мое нетерпение и моя робость – все это могло быть твоим, и ты могла приобрести целый мир. И, когда ты подумаешь так, будет неважно, что ты не сумела или не захотела этого. Важно будет лишь то, что ты была моей слабостью и силой, потерянным и найденным светом, темнотой, болью – то есть жизнью…
Наклонившись, Петр коснулся пальцами ее руки своего лба и висков.
– Ты ощущаешь вот здесь что-то твердое? Когда-нибудь здесь не будет тела, останется лишь чистая, голая кость. Но это ничего. Ведь хотя все изменяется и представляет собой лишь мимолетное сочетание атомов, вот это мгновение сохранится. Оно будет существовать даже во прахе, в который превратится моя память, сохранится навсегда, так как оно сильнее времени, сильнее звезд, сильнее смерти.
Он умолк. Потом осторожно отпустил ее руку, словно возвращая ей что-то очень хрупкое, и первый двинулся в путь.
Тропинка вела сначала прямо, потом повернула налево.
– Кто там? – сказал громко Петр, поворачиваясь, в ту сторону, откуда доносился звук.
– Это я… Сигма шесть, – ответил металлический баритон.
Петр пошел в этом направлении, но, наткнувщись на плотную стену колючего кустарника, остановился.
– Сигма шесть, как добраться до тебя? Есть ли тут дорога?
– Если не можешь пройти, значит, ты человек. Иди прямо – там есть просека.
– Сигма шесть, дай сигнал.
В глубине зарослей вспыхнул малиновый шар, прорезанный зелеными полосами. Петр и девушка пробрались сквозь кустарник на поляну. В зарослях на треножнике стояла машина. Одна из ее антенн была освещена сигнальной лампой, металлическая поверхность машины, покрытая срезанными ветвями и крупными каплями росы, похожими на слезы, тонула во мраке.
– Сигма шесть, где проходит поезд? – спросил Петр, подходя к машине. Он положил руку на ее холодную поверхность.
– Платформа находится в четырехстах метрах на северо-северо-восток, – сообщила машина.
Голос ее становился все тише, слова звучали с большими паузами.
– Похоже, она разряжена, эта Сигма, – сказал Петр. – Ты заметила, как смешно она заикается?
– Я не… раз… ряжена… – ответила машина с металлическим скрипом, в котором послышался странный оттенок обиды. – У меня… сгорела… обмотка.
Она вздохнула и умолкла.
Спустившись с покрытого кустами холма, Петр и девушка оказались на равнине, по которой проходила труба аэропоезда; ее стены тускло светились. Поодаль возвышался полукруглый купол станции. Здесь от магистрали отделялась ветка, состоявшая из более коротких труб. Петр нажал кнопку вызова; девушка оперлась о металлические двери. Ее лицо было задумчиво и спокойно.
Один раз губы ее дрогнули, но она лишь вздохнула. Наконец раздался сигнал, открылись двери маленького вагончика.
Петр протянул руку. Она проговорила поспешно:
– Петр, поверь мне… Я хотела бы… прости меня…
– Это ты меня прости, – прервал он спокойно. – Я иногда бываю безрассуден, особенно ночью…
– Ты не поедешь со мной?
– Нет, я пройдусь немного. Покойной ночи.
Двери закрылись. Вагончик, перескакивая из одного сегмента труб в другой, набирал скорость. Несколько мгновений на стеклянной ограде отражался пробегающий волнами свет, потом он угас, и остался лишь оранжевый отблеск.
Петр долго шел наугад, ощущая лицом, лбом, щеками к невидящими глазами прикосновение ветра, который овевал и его, и темневшие вокруг деревья и кусты. Он шел все быстрее, дыхание его стало прерывистым.
В разрыве между тучами печально мерцала одинокая звезда.
«Это Марс», – подумал он и пошел дальше.