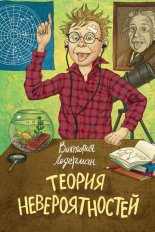Порою блажь великая Кизи Кен

— Никто и не заикался об охоте, Генри.
— Как же, как же! А то я совсем глухой! Думаете, старый олух совсем оглох, рассохся, и уж не может по лесу прошвырнуться? Мы еще поглядим!
— Давай же, папа, ступай. — Вив деликатно потянула его за рукав рубашки. — Сейчас мы с тобой поднимемся по ступенечкам, дойдем до кроватки…
— А что, это дело! — Генри вдруг сделался необыкновенно покладист. Он подмигнул Хэнку так похабно и потащил Вив по лестнице с такой прытью, что я ее предупредил: у нее три минуты, на крайний случай пять — а потом я снаряжаю экспедицию по ее вызволению из пещеры старого дракона.
Мы прислушивались к его громыханию и гиканью наверху.
— Порой сдается мне, — сказал Хэнк, качая головой, — что мой дражайший папаша окончательно съезжает с катушек.
— О нет. — Джо Бен вызвался в адвокаты Генри. — Здесь не то. Просто он заделался городской знаменитостью, я же говорю. В Ваконде его называют не иначе как «Старый Дикарь» или «Дедушка Йети». Детишки тычут в него пальцами, женщины здороваются на улице — и я ни секунды не сомневаюсь, что ему это все очень даже по кайфу. Нет, Хэнкус, на самом деле он нифига не расклеился. Ну, может, самую малость — глаз уже не тот, и что-то с памятью, — но в остальном он все больше комедию ломает, понимаешь?
— Я уж не знаю, что хуже…
— Ай, Хэнк, ну его ж это так прикалывает!
— Ну, может быть. Но в том-то и дело, черт побери, что доктор навесил на него весь этот гипс именно для того, чтоб на прикол его поставить, навроде якоря. Док сказал, что на самом деле старик не так уж круто поломался, но обязательно покалечится вдребезги, если не поумерить его прыть. Но похоже, его это только пуще раскочегарило.
— Да он просто языком чешет, в свое удовольствие. Ты так не считаешь, Ли? О! Послушай только, как он там наверху разоряется и радуется жизни: любо-дорого.
Но я был настроен пессимистически:
— Судя по звукам, он репетирует изнасилование.
— Ну нет, не всерьез. Это всего лишь комедия, — настаивал Джо. — Все это — просто комедия. Если он что и готовит, так скорее ответную речь на вручение Оскара за лучшую мужскую роль года.
Было слышно, как кандидат на Оскара тренирует дикцию, сквозь шамкающие десны призывая Вив: «вернишь, вертихвоштка, и брошай уже штроить иж шебя шелочку!» Когда Вив возникла на лестнице, ее волосы были растрепаны, а бледные щеки раскраснелись от недавней борьбы. Она объявила, что дает нам последний шанс перебить предложение Генри — два доллара и пинта красного. Хэнк посетовал, что ему это не по карману, но благородный Джо Бен заметил, что поскольку жена все равно его бросила, променяв на всякую сопящую мелюзгу, он так и быть накинет полбакса сверху. Вив, транспортируя грязные носки Генри к мешку, мимоходом спросила, не завалялась ли у меня, часом, лишняя пятерка. Я предложил ей обождать до получки в следующую субботу.
— Можно оформить кредит на завтра, — намекнула она, чуть покраснев, как только она умела: невообразимое сочетание невинного кокетства и бесстыжей скромности. — А муженька уговорю.
— Заметано. Значит, завтра. Где встречаемся?
Она развернулась, кружа и рассыпая блестки смеха.
— В городе у пристани. Завтра я буду собирать скальных устриц. Захвати молоток.
— Звучит романтично, — сказал я и глянул на братца Хэнка: не вышло ли перебора с романтикой? Но Хэнк стоял у окна и смотрел в ночь.
— Знаете, я вот прикинул, — сказал он задумчиво, — что с таким урожаем, как мы сегодня сняли, дела наши на подъеме. А ведь такая шикарная погодка долго не продержится. Да и выдохлись мы порядком. Так, может, возьмем этих спиногрызов, которые под домом, и прогуляемся малешко по лесу, косточки размять?
— В смысле, на охоту? — уточнил я.
— Да! — Джо Бен был готов.
— Поздно уже, — заметила Вив, полагая, что завтра нам вставать в четыре тридцать на работу.
— Самое время, — возразил Хэнк. — Я просто подумал, что при таких темпах завтра на работу можно забить. Мы ведь уж давно пашем без субботних выходных.
— Хорошее дело! — Джо Бен был вне себя от восторга. — О да! А знаете, что за день будет завтра? Хэллоуин. О да, вот ведь как все сложилось один к одному: в городе Хэллоуин, у нас охота на енотов, старик приносит домой бутылку, Лес Гиббонс плюхается в речку… Невероятно!
— А ты, Малой? Как, сдюжишь?
— Вообще-то не сказать, чтоб полуночный променаж был особо предусмотрен моими планами, но, думаю, не подохну.
— Я тебе вот что скажу, Хэнкус: давай-ка мы с тобой первыми отправимся на холм, разведаем все, подготовим. От собак в первый час все равно никакого толку не будет, после такого долгого простоя. А Ли с Вив тем временем посидят в хижине на холме, подождут, пока мы кого-нибудь выследим, а там уж примкнут. Никакого смысла всей толпой рыскать по кустам. Как вам такое, Вив? Ли?
Вив была не против, я же не видел никакого выхода из ловушки, которую сам себе подстроил, поэтому сказал: «Замечательно!» Кроме того, я искал случая поговорить с Вив наедине. В тот вечер, наряду с решимостью похоронить топор войны, возникло у меня желание воспользоваться импульсом своего благодушия и стариковского виски да выговориться, очистить душу. Моя закопченная совесть просила хорошенько ее проветрить. Мне необходимо было выложить кому-то все до дна, и я выбрал Вив как самую душевную из всей аудитории. Я раскрою ей свой зловещий замысел, обрисую все мои ужасные планы. Конечно, где-то что-то придется дополнить, где-то кое-что подраскрасить, заполировать кое-какие недоработанные детали моих дьявольских козней супротив брата — но в целом я решился поведать правду хоть кому-то, даже если это значило врать до посинения.
Однако дело обернулось не совсем по-моему.
В комнате наверху юный Генри, по компасу в каждом кармане и охотничий нож за голенищем, склоняется над старым Генри, хватает его за грудки и резким рывком вздергивает на ноги. «О'кей, старик, пусть они там, внизу, думают, будто тебя надули. Но прах меня разбери, если я позволю тебе думать, что ты сам себя надул…» Старик, опустив глаза, изучает домашний замшевый тапочек на здоровой ноге — тапочек, подаренный доктором при выписке; подмечает, как эта хлипкая дрянь успела износиться за такой-то смешной срок. Домашние тапки, господи Иисусе…
Так повернулось, что мне не удалось улучить наедине с Вив времени достаточно, чтоб завести свою исповедь… — «Потому что когда мы поклялись победить, — продолжает юный Генри, — речь шла не о паре-тройке первых раундов, речь шла о полной победе в этой гребаной драке! Поэтому вставай и выметайся отсюда…» — потому что как раз когда мы собирались уходить, старик Генри решил, что нам попросту не выжить в этих негостеприимных чащобах без его благословенного, бывалого-лесоповалого присутствия. Внизу, в прихожей, слышно, как шапочный шепоток сменяется тяжким сапожным топотом, разбавляемым смачным цоканьем резиновой подошвы на гипсе. «Чу!» — шепчет Джо Бен… — Так повернулось, что присутствие моего отца оказалось куда благодетельнее, чем он мог и помыслить. Пустись я в эту дурацкую исповедь, которую заготовил для Вив, уверен, я умер бы от одной лишь абсурдности положения, когда позже, по возвращении домой с охоты, мой братец наконец сбросил обманные покровы из оливковых ветвей да синих незабудок и явил истинный цвет своего чертополошного нутра… — «Чу! — шепчет Джо. — Звук такой, будто кто-то сменил тапочек на кованый ботинок…» — сбросил покровы, разверз утробу и доказал раз и навсегда, что всецело заслуживает самой лютой кары, какую только можно изобрести… — «И кто б это мог быть? — уже в полный голос интересуется Джо. — Кто крадется за нами в ночи в одном-единственном сапоге?» — все так повернулось…
— Есть у меня одно оченно резонное предположение на сей счет, — сказал Хэнк. — Но вопрос: за каким лешим?
Они с Ли помогали Вив натянуть упрямые ботинки, когда Джо заслышал первые башмачно-костыльные аккорды. Теперь же они все стояли и вслушивались в угрюмую увертюру мистически клацающей по ступенькам резины.
— Беда крадется к нам, — заметил Джо.
— Да уж точно беда, — отозвался Хэнк. — Отворяй ворота.
— А может, — прошептала Вив, — он просто вышел, скажем, в…
Хэнк ее перебил:
— Беру его на себя!
Она порывалась сказать что-то еще, но решила не усугублять суету. К появлению Генри они все выстроились в ряд. Вив видела, как он бредет в полумраке, силясь протолкнуть гипсовую десницу в рукав куртки лосиной кожи. Она заметила, что он отколол часть гипса с локтя и запястья, обеспечив себе большую свободу маневра. И вот он предстал перед ними в прихожей и воззрился сердито.
— Не спится что-то, если хотите знать: бессонница доконала! — Он перевел взгляд с Хэнка на Джо Бена, приглашая особо смелых хотя бы заикнуться на тему того, куда ему можно ходить, а куда нельзя. Но все промолчали, и он продолжил драку с курткой. Вив прислонила свою помповушку двадцать второго калибра к двери и шагнула к Генри, чтобы посодействовать.
— Значит, ладно, — проворчал он. — Там еще осталось бухло, что я притаранил, или вы, свинтусы, его прикончили?
— Тебе что, мало было пойла? — Хэнк ступил вперед, чтобы поддержать отца, пока Вив пыталась напялить рукав на перепачканный гипс. — Господи, Генри, да ты ж и так еле ноги переставляешь…
— Отойдите от меня, исчадия!
— Совсем инвалидом сделаться хочешь?
— Подите прочь, говорю! И без вас прекрасно оденусь. И да не покинет вас милость господня в тот день, когда Генри Стэмпер сделается инвалидом. Где мой табак?
Хэнк обратился к Ли:
— А ты что скажешь, Малой? Это более или менее твоя охота. Хочешь, чтоб этот старый бухой инвалид увязался с нами, или нет?
— Не знаю… Видок тот еще. Ты уверен, что он не распугает дичь?
— О нет! — Как обычно, Джо Бен принял сторону Генри. — Давно подмечено, что зверушки сбегаются со всей округи за многие мили, чтобы поглазеть на Генри. Он у нас — суперманок-мэн.
— Отчасти верно, Ли. Помнишь, Джо? Как мы взяли его поохотиться на кисок в Очокосе?
— Да ладно…
— Оставили его под деревом…
— Ладно, хватит! Вив, солнышко, ты не видела мой табак?
— …он закемарил, а когда мы вернулись в лагерь, застукали там какого-то облезлого койота, который мочился ему на ноги.
— Да, помню. О да. С деревом перепутал.
Генри, решив игнорировать беседу, сосредоточился на обшаривании захламленной полки, что тянулась по всей прихожей на высоте головы.
— Мне только и нужно, что моя жестянка с жвачкой, и цирк-шапито готов тронуться в путь.
— Так что, Малой, и ему может сыскаться применение.
— Тогда берем. Может, удастся приспособить его под наживку.
— В жизни не видал такого сборища всякого барахла. — Он разгребал завалы из коробок с охотничьими патронами, инструментов, обрезков ткани, старых кед, банок с краской и малярных кистей… — Никогда с самого рождения!
Вив, приподнявшись на цыпочках, тотчас отыскала целый ящик. Откупорила одну жестянку для Генри, поддев крышку ноготком. Генри не без подозрения оглядел предложенную банку, прежде чем брезгливо отщипнуть кусочек двумя пальцами.
— Премного обязан, — угрюмо поблагодарил он. И, поворотившись к остальным спиной, признался ей почти шепотом: — Я только хочу прогуляться не дальше чем до первого привала и немножко послушать собачек. А потом уйду. Просто не спится чего-то.
Она вернула крышку на место и сунула жестянку ему в карман куртки.
— Да просто ночь неудачная для сна, — посочувствовала она.
Хэнк и Джо Бен с собаками резво двинулись вперед, а они с Ли, составив компанию старику, тотчас отстали. Оно и ладно: она предпочитала держаться подальше от собак. Не потому, что ее раздражал лай — на самом деле, у иных из гончих были весьма даже мелодичные вокалы, — но своим шумом они безнадежно заглушали все прочие маленькие звуки большого ночного леса.
Перетряхивание полки вознаградило труды Генри фонариком, но через несколько ярдов лампочка перегорела. Ругнувшись, Генри отшвырнул фонарь прочь, и они продолжили свой путь по темной тропе к ближайшему холму. Облака, так самоцветно сверкавшие на закате, ныне размазались по всему небу, закрасив его черным и пригнув почти вплотную к земле своей тяжестью. Ночь обступала со всех сторон, и кончики пальцев вытянутой руки тонули в плотных складках черной портьеры; даже когда луна сумела прорезать щелочку своим острым краем, ее убогий свет больше подчеркивал тьму, нежели разгонял.
В безмолвии они брели гуськом; Вив ступала в нескольких ярдах позади Генри, Ли замыкал шествие. Фигура старика была обозначена в ночи лишь мутно-белесой кляксой его гипса, указующей путь на холм, но Вив следовала за ним без труда: к охотничьей хижине вели с дюжину тропинок, и все их Вив знала как свои пять пальцев. В свой первый год в Орегоне она наведывалась в эту хижину едва ли не каждый день, рано поутру или поздним вечером. И много раз возвращалась оттуда домой в полнейшей темноте, просидев там весь закат. В ясную погоду с вершины холма она наблюдала, как солнце тонет в море, а в ненастье слушала симфонию буйков в бухте — колокольные буи гремели тугим размеренным набатом, сирены кричали протяжно и тоскливо, вздымаясь на волнах. Хэнк ворчал, что зря она выбирает для прогулок раннее утро или поздний вечер, говорил, что полдень и теплее, и яснее. Пару раз она пробовала последовать его совету, но потом вернулась к прежнему расписанию. Вечерами она обожала смотреть, как идеально круглое светило скатывается за идеально ровный горизонт, столь непохожий на ломаную линию гор, которые солнце ее детства обращало в пламенеющие вулканы; здесь все было куда проще — просто, как апельсин, перекатившийся через край сине-зеленого бильярдного стола. По утрам же она наслаждалась шелестом темного, затянутого туманом леса внизу, пробуждающегося к наступлению дня.
В то первое лето прогулки к хижине сделались для нее почти каждодневным ритуалом. Когда мужчины отправлялись на работу, она составляла посуду в большую раковину, чтоб отмокла, заливала в термос кофе, брала одну собаку из своры, для компании, и шла к хижине слушать птиц. Первые минуты собака обнюхивала все вокруг, а Вив накрывала припасенным в хижине пластиковым пакетом большой замшелый пень, чтоб не сидеть на влажном. Потом пес метил тот же шест и ложился спать на ту же подстилку из мешковины, что и всякий его предшественник.
Потом и вовсе не было никакого движения — или же так казалось. Но постепенно ее слух улавливал крошечные нюансы кипучей жизни в окрестных кустах, где пробуждались дубоносы. Из чащи под холмом слышался печальный зов незримой горлицы — гулкий, чистый, упругий звук, словно теннисный мячик упал на нижнюю пластинку ксилофона: «Тууу… туу ту ту». И откуда-то издалека ему отвечала другая горлица. Время от времени они снова перекликались, с каждым разом все ближе друг к другу; затем их голоса сливались, сизокрылые птицы возносились над благодатным покровом сизой дымки, сами словно ее обрывки, и летели, крыло к крылу, точно отражения друг друга в небесном стекле. Красноплечие трупиалы просыпались все разом, будто солдаты на побудке. Они дружно вытряхивались из рощи, переносились мельтешащей оравой в ближайшие заросли дерна, где выжидали, пока туман не сойдет с зарослей рогоза, неустанно выводили рулады или же неторопливо чистили клювами свои гагатовые мундиры. Присутствие парадных алых эполетов в их черной униформе убеждало Вив в том, что всякий раз они готовятся не меньше чем к инспекции войск королем. Потом голубой тетерев барабанным клекотом призывал свое потомство на прогулку, а пугливый веретенник, завидев солнце, поднимал истошную тревогу. Дикие голуби, перелетая с ветки на ветку, соблазнительно ворковали голосом Марлен Дитрих. Дятлы принимались выстукивать завтрак в сосновых стволах… И лишь когда все прочие птицы уже проснулись и занялись своими делами — даже после сонной сойки, каждое утро взрывавшейся в тумане гневным криком, с праведным возмущением кляня всех этих чертовых ранних пташек, не дающих поспать собратьям, — следовало торжественное явление ворон. Они поднимались с макушек елей, в своем безжалостном веселье осмеивая всяких прочих пигалиц, и нестройными эскадрильями устремлялись на штурм взморья и плесов, временами порождая в Вив некое странное смятение. Возможно, потому, что они напоминали ей колорадских сорок — падальщиц, что облепляли тушки сбитых на шоссе кроликов, питались чужой смертью, — но она думала, что было за этим чувством и нечто большее. Сороки, в общем и целом, довольно глупы. Вороны же, несмотря на глумливый хохот, глупыми никогда не казались.
Когда же последние вороны скрывались из виду, она пила кофе, возвращалась в хижину, оставляла пластиковый пакет и свистом подзывала собаку. На обратном пути она заходила во фруктовый сад, пинками будила старую корову и возвращалась в дом, чтоб убраться после завтрака. К тому времени, когда она заканчивала мытье посуды, корова уже мычала у сарая, требуя, чтобы ее подоили.
Когда же Вив снова доила корову вечером, она часто видела в окошке сарая ворон, возвращавшихся после своего дневного сражения со свиньями. Порой кое-кто из ворон подозрительно припадал на крыло или вообще исчезал. Вив тогда не знала про свиней и про их ожесточенные бои с воронами, а последние, хоть побежденные, хоть триумфаторы, всегда хохотали одинаково — жестким, циничным хохотом существа, взирающего на мир прагматичным черным глазом. Хохот тварей менее искушенных, как те же сороки, порой выдавал и отчаяние, и тупость, но ничего подобного не слышалось Вив в смехе ворон. Нет, те были истинными корифеями мировосприятия сквозь кривую ухмылку, им был ведом главный секрет черноты: если тьму нельзя ни сгустить, ни развеять, то можно хотя бы сделать ее забавнее; и Вив смеялась вслед за ними.
— Чего это ты там хихикаешь? — поинтересовался как-то Хэнк, когда она возвращалась из сарая с марлей, чтобы постирать ее у заднего крыльца.
— Да так, девичьи секреты, — ответила она, забавляясь его любопытством.
— Там, в сарае? Понятно. С хахалем, что ли, кувыркаешься на соломенной подстилке?
Она загадочно мурлыкала, отжимая марлю и развешивая ее на колышках.
— Да какой еще хахаль? Ты ж томишь меня в темнице день и ночь, несчастную, одинокую и…
— Ой-ой! Значит, это зверье какое-нибудь? Кто — рысь? Я сверну шею этому нахалу. Скажи только, какая тварь пристает к моей женушке. Я ж все равно выведаю…
Она улыбнулась и направилась к кухонной двери:
— Потерпи уж пару месяцев — все и откроется.
Он поймал ее за свитер и привлек к себе, таранив ее изящной кормой свои брюки. Обхватил за талию, скользнул ладонью по ремню ее джинсов, ощупывая тугой бугор живота.
— Думаю, по-любому парень будет что надо, — прошептал он ей в затылок. — Главное, чтоб не черный. А то ж старик Генри всех нас перетопит, рысь, не рысь…
Она откинула голову для поцелуя, думая, как прекрасно быть юной, беременной и влюбленной. Она полагала, ей крупно повезло. У нее было почти все, о чем она мечтала. Она замурлыкала и прильнула к нему. А он окунул нос в волны ее волос. Потом отстранил ее на вытянутых руках, чтоб оглядеть прищуренным глазом:
— Интересно, как бы они смотрелись черными?
— Кто, младенцы?
— Да нет, — он засмеялся. — Твои волосы.
А сквозь темнеющую сетку на крыльце доносился грай ворон, оседавших в древесных кронах.
С приближением срока она прекратила свои восхождения на холм, хотя доктор утверждал, что прогулки, возможно, пойдут на пользу. Она не знала, почему прекратила свои походы; одно время ей думалось: потому, что шевеления в ней самой были куда занимательней, но потом она убедилась, что причина в ином, не то она бы возобновила прогулки, когда шевеления прекратились, а то, что было в ней, стало мертво. Когда через несколько месяцев Вив прошла обследование и ей сказали, что все последствия операции позади и можно в полной мере вернуться к прежней жизни, она первым делом снова отправилась к хижине. Но тогда моросил дождь, а из всех птиц в поле зрения оказалась лишь стая гусей, возвращавшихся с юга и смеявшихся смехом, которого она не поняла, и Вив вернулась к чтению. С тех пор она наведывалась на холм лишь несколько раз, а той самой тропкой, по которой они шагали теперь, не пользовалась уж несколько лет, хотя в памяти она сохранилась на удивление четко. На самом деле Вив предпочла бы возглавить шествие, чтоб умерить его стремительность. Генри не потерпел бы иного темпа, кроме как «полный вперед», желая показать, что ноги его по-прежнему не хуже любых прочих ног, в гипсе или без. И не то чтоб она не поспевала — не потому хотела она замедлиться, — но вот Ли действительно путался в незнакомой темноте. Вив слышала за спиной, как он продирался, воюя с кустами и зарослями по обе стороны тропинки. Она уж подумывала остановиться и взять его за руку, но не решилась, как не решилась и попросить старика позволить ей встать во главе.
Так их троица все более и более растягивалась по тропинке. Генри рвался вперед, Ли безнадежно отставал, а Вив все больше уединялась с мраком ночи.
Через несколько минут она могла уже различать знакомые контуры на тропинке и развлекалась, угадывая по ним предметы. Вот островок орешника у изгороди фруктового сада, вот заросли кизила, вот старый одинокий бук, букой чернеющий в лиловом небе, согбенный и обреченный, будто неприкаянный бродяга, ждущий, когда святой Винсент де Поль [51] ниспошлет ему костюм из ношеных листьев. Папоротники по обочинам щекотали ей лодыжки влажными пальцами, а порой слышалось сухое погромыхивание семян мышиного горошка в витых стручках. Из леса в предгорьях, оглашаемого радостным лаем, доносились густое зловоние ариземы — скунсова капуста, как называет ее Хэнк, — и приторно-кислый запах перезрелой черники. И над всей этой мелкотравчатой флорой, будто некая высшая форма растительной жизни, высились ели, попирая небо своими башенными шпилями, наполняя темный ветер своим терпким хвоисто-зеленым дыханием.
Чем больше увеличивались дистанции между Вив и двумя мужчинами, тем легче ей дышалось; до того Вив и не подозревала, какая теснота сводила ее плечи и спирала легкие. Вив растопырила локти и вдохнула полной грудью. Откуда-то из ореховых зарослей ее окликнул щебеток крапивника — «Тью! Тью!» — и Вив всплеснула руками, вообразив их крыльями. Она представила, будто летит, но не вышло достоверного ощущения полета, как бывало в детстве; если б не эти башмаки! Они весили сотню фунтов каждый. Если б не эти башмаки — я б уж точно полетела!
Хэнк непременно обувал ее в башмаки, когда они выбирались на охоту. Для него лес был полем битвы, где рыцари в доспехах из дюралевых касок, кожаных перчаток и шипованных башмаков сражались с ратью терниев. И приступом брали чащу. Вив же предпочла бы летать сквозь лес — не высоко над вершинами, подобно ястребу, но перепархивать в паре дюймов над землей, с камешка на кустик, с кустика на веточку, как тот крапивник в орешнике. Но для полета потребны крылья, а не шипы; кеды, а не стофунтовые говнодавы.
Ее вывел из раздумий и заставил замереть сдавленный вопль за спиной, в нескольких ярдах. Она обнаружила Ли в папоротниках, куда он забрел, сбившись с тропинки. Выводя его, Вив заметила, что его руки тряслись.
— На меня что-то налетело, и я споткнулся, — шепотом объяснял он не столько Вив, сколько себе самому. — По-моему, какой-то мотылек…
Он остановился, передернувшись. Само слово «мотылек», так нежно проворкованное им в ночи, перепорхнуло на щеку Вив.
— Знаю, — прошептала она в ответ. — Тут сейчас бражников полно. Они и меня пугают до смерти по ночам. — Она вела его за руку по тропинке. — Все потому, что они белые, — продолжала она. — В этом-то самый ужас. Я знаю, что они белые, понимаешь? Но кажутся — черными…
— Вот-вот! — Ли тоже перешел на шепот. — Именно.
— Хэнк надо мной подтрунивает, но они по правде иногда пугают меня до одури. Брр! А знаешь, что еще? — Она еще пуще понизила голос. — Ты когда-нибудь разглядывал их вблизи? У них на спинке рисунок — я не шучу ни капельки, — черепушка.
Они оба содрогнулись, будто дети, успешно нагнавшие на себя страху.
Дорога пошла в подъем, и впереди послышались тяжкое дыхание и брань старика, сражавшегося за точку опоры для скользкой подошвы своей гипсовой ноги.
— Поможем ему? — предложил Ли.
— Ни-ни! Лучше не стоит. Он и сам справится.
— Ты уверена? Ему точно помощь не нужна? А то впечатление такое, что ему там несладко…
— Ни-ни. Ты же видел его, тогда, с Хэнком и с этой курткой. Пусть сам справляется. Для того он с нами и увязался.
— Чтобы самому справиться?
— Именно. Сделать, что задумал. Без посторонней помощи. Как и ты, когда в одиночку отправился через реку на лодке.
Ли был впечатлен.
— Мадам, — вымолвил он, задыхаясь, — не могу сказать за… среднюю возрастную группу, но за себя скажу, что вы более чем… компетентны в душевных потребностях увечных старцев и перепуганных маленьких мальчиков.
— Почему ты всегда себя считаешь обузой или маленьким мальчиком?
— Не совсем так. Я был обузой, когда только приехал. Сейчас вроде уже нет. Но маленький мальчик — по-прежнему. Как ты — маленькая девочка.
Вдалеке лаяли собаки.
— Я уже давно не маленькая девочка, — просто возразила Вив, и Ли пожалел, что дал выход своему юмору.
На вершине холма перед трехстенной бревенчатой хижиной, потрескивая, разгорался костер. Рюкзак, что Хэнк повесил на шест, источал восхитительный запах тунца и сэндвичей — и крупный енот, встав на задние лапы, тянул черные передние к вожделенной снеди, а его тень лениво покачивалась на задней стене хижины. Когда в свете костра появился Генри, зверь негодующе возопил, требуя от незваного гостя объяснений касательно целей визита. И опустился на все четыре.
— А тебе что, закон не писан? — сурово вопросил Генри. Енот стоял перед ним, явно возмущенный вторжением. — Разве не знаешь, что по закону ты должен сейчас находиться в низине и развлекать наших собачек пробежкой, а вовсе не тырить наши припасы. Что, не знал?
Енот и понятия не имел о своих должностных обязанностях. Он заскреб грязь когтями, делая вид, будто охотится на мнимого жука.
— Вот ведь! Гляньте, ребята! Плевать он на нас хотел. Он и разговаривать не желает с какими-то лишенцами, которые его от дела отвлекают!
Зверь еще порылся в грязи, потом, уразумев, что намеков эта назойливая троица не понимает, распушил хвост, выгнул спину и сделал угрожающий выпад в адрес Генри. Тот расхохотался и носком башмака швырнул песок зверьку в морду. Енот сердито зафырчал.
— Ты что, свихнулся, а? В чем проблема? Может, нам уйти, чтоб не мешать тебе еду нашу лямзить? — Генри снова расхохотался и метнул еще один заряд песка. Что было уже чересчур для этого аристократа среди енотов. Пружинисто оттолкнувшись, он прянул на старика и, набросившись, обхватил гипсовую ногу всеми четырьмя лапами, будто желая сокрушить врага в зверских объятиях. Генри заорал и принялся охаживать драчуна шляпой. Енот раз-другой попробовал гипс на зуб, затем сдался и умчался во тьму, спесиво фыркая и голося в праведном гневе.
— Ё-мое! — Генри наклонился, изучая царапины на гипсе. — Вы видали? Готов спорить, этот ниггер теперь понарасказывает дружкам немало интересного о том, из чего сделаны двуногие. — Он отрывисто кивнул: — Ли, мальчик мой, думаю, нам лучше запалить костер поярче.
— Чтоб оградить себя от последующих нападений? — уточнил Ли.
— Чертовски верно. С этого психа станется притащить сюда целую шайку всяких отморозков. Мы в смертельной опасности.
Вив взяла его за руку:
— Что-то, папа, то один зверь пристает к твоей ноге, то другой…
— Ладно уж! Вы, сопляки, все нарываетесь, да? Посмотрим, как вы тут управитесь.
Вив нашла воду в сорокалитровой молочной фляге и принялась варить кофе, а Генри с Ли вытащили из хижины два холщовых мешка, набитых резиновыми утками-манками, и положили их у костра. Поставив котелок на угли, Вив отыскала свой пластиковый пакет и расстелила его на земле. Села, облокотившись на мешок, на котором сидел Ли. Пока они были заняты приготовлениями, никто не проронил ни слова, теперь же Генри, зарядив рот табаком, смачно почесался, подался вперед, вслушиваясь в собачий лай, и прочистил горло, будто спортивный комментатор перед матчем.
— Так-так, слыхали? — Отсвет костра выхватывал из темноты красно-кедровый рельеф его лица, казавшийся то выпуклым барельефом, то резным контррельефом. По ходу комментариев он нервно оглаживал рукой свои длинные белые космы. — Я не о тех недоносках, которые там, поодаль, но вот… слушайте… это ж старушка Молли рапортует! Слышите?
Вив все глубже зарывалась в упругую мякоть мешка, устраиваясь поудобнее в предвкушении неизбежной ораторики Генри. Когда же она прекратила ерзать, то обнаружила у самой своей шеи чью-то руку, затаившуюся под покровом ее волос.
— Ого! Слушайте! Нет, Молли говорит — не лисица. И не енот… Не знаю за остальных спиногрызов, но можете пометить в своих блокнотах, что старушка Молли так не докладывает ни о лисице, ни о еноте. Ни об олене — за оленем она ни в жисть не погонится. Ага… ага! Ах ты, так тебя растак! — Внезапно преисполнившись восторгом, Генри хлопает мозолистой ладонью по гипсу. — Она утверждает, что это медведь! — и ткнув в костер клюкой, взметает салют искр. — Черт побери… медведь!
Он подается вперед, его зеленые глаза горят во тьме над костром. Под ними, на западе, ниже по реке, повизгивая мчится стая собак; а с другой стороны, со стороны горного хребта, доносится четкий, размеренный, членораздельный лай. Каждая собачья фраза начинается глухим ворчанием — и взрывается нотой высокой, пронзительной и чистой, будто голос серебряного рожка.
— И она совсем одна, Молли, совсем. Другие псины небось увязались за старым Дядькой. Они, другие псины, обычно идут за Молли, а не за Дядькой, но когда светит встреча с медведем — нетушки. А Дядька — он больше не горит желанием якшаться с медведями, связался уж с одним таким о прошлом годе, глаз потерял. И он, значит, говорит: «Молли, хочешь медведя — он весь твой!» — Генри рассмеялся и снова хлопнул по гипсу. — Но послушай, парень, что творится там, на болоте… — Он ткнул Ли клюкой в бок. — Вся эта свора — слышишь, как они скулят-визжат? Какую шумиху подняли, а? Да кого они дурят-то? Ий-хи! О, они знают, все-то они знают, будь я проклят. И не говори мне, что не знают. Они пошли с Дядькой — за лисицей, скорее всего. Но ты послушай, каково им. Послушай, с какой песней они идут за этой лисицей, когда Молли одна-одинешенька гонит медведя…
Все прислушались. Действительно в их истерическом, бравурном лае безошибочно угадывался стыд — которого уж точно не было в голосе одинокой собаки.
— А где Хэнк и Джо Бен? — спросил Ли, а Вив почувствовала, как чуть шевельнулось его запястье.
— Да чтоб я знал. Я-то думал, они здесь нас дождутся. А теперь… я так понимаю, стая взяла один след, а потом переметнулась на другой. — Он нахмурился, почесывая кончик носа. — Да уж… Стал-быть, Молли вывела стаю прямехонько на медведя — о, слышали? Это лисица тявкнула, — но когда Дядька уразумел, во что ввязался, он сказал: «Пошли, ребята! Пусть эту малахольную Молли медведь сожрет, если ей больше всех надо. А мы пойдем лисичек погоняем». Да — тогда-то они и подняли шум в первый раз, у медвежьего лежбища. Поэтому, думаю, Хэнк с Джо туда намылились — слушайте! — чтоб обложить мишку. Но когда стая отвалила, Молли, понятное дело, одна медведя удержать не могла… и, значит, когда Хэнк с Джо туда прибежали…
Он замолк; что-то бормотал, качал головой, открывал рот, чтобы продолжить свои выкладки, но замирал, прислушиваясь, и его сощуренные глаза вспыхивали изумрудами во мраке, когда он расшифровывал сам для себя хронику охоты. Костер потрескивал, рассыпая искры, взвивался, открывая взору бреши в стене леса. Собачий лай встревожил тени. И Вив видит, как трепещут эти тени с черными плюмажами и черными клювами, самым краешком глаза видит. Слышит их возбужденный шепот. И чувствует, как чужая длань палачески изворачивается, пока кончики пальцев не касаются ее горла. Но остается неподвижна.
— А сейчас что творится? — спрашивает Ли рассеянно, из вежливости.
— Ась? Что ж, лиса — надо думать, это лиса, судя по их маршруту, — петляет туда-сюда, следы запутывает, чтоб ее не зажали между рекой и устьем ручья. И если она будет продолжать в том же духе, ей придется или на дерево лезть, или плыть, там нет ни дыр, ни нор подходящих, а купаться лисы смерть как не любят. Был бы это енот, давно бы уже рванул через болото к реке, но лиса мех мочить не хочет. А вот там Молли… хм… идет по краю болота, к скалам. Хм. Это не есть хорошо. Но вы слушайте…
И Вив вникает в звуки еще глубже и настойчивей, и уже слышит куда больше, чем старик. Она слышит журчание ручья, дыхание болота, стенание и колокольный звон буев, слышит, как последние цветы на холмах умирают под дуновением бриза — предсмертный рев львиных зевов, вой волчьих лютиков, шипение гадючьих языков. Далеко-далеко гроза с рьяностью туриста снимает пик Мэри, злоупотребляя вспышкой. Вив ждет, но не слышит грома. Любопытный бриз, просочившись сквозь темные ели, секунду кружит над костром, а потом отбрасывает ее волосы с кисти Ли. Пару прядей задувает ей в рот, и Вив задумчиво их покусывает. Ее влажные башмаки начинают дымиться, и Вив отодвигает ноги от костра. Обнимает колени руками. Холодные пальцы на ее шее приходят в движение, согреваясь.
— А… А что будет, если она, в смысле лиса, поплывет? — спрашивает Ли у отца.
— Если через ручей двинет — тогда все нормально. Но они не всегда такие сознательные. Порой бросаются прямо в реку. А это добром не кончится — ни для собак, ни для лисы, ни для кого.
— Что, переплыть не могут? — спрашивает Вив.
— Могут, конечно, лапочка. Здесь река не такая уж широкая. Но только они оказываются в воде — а кругом темень — они, вместо того, чтоб переправиться, заворачивают по течению, да и плывут-плывут, берега не видя, все вперед и вперед. Слушайте… Лиса пытается оторваться, срезает назад, к северу. Значит, от ручья они ее отсекли и теперь гонят к реке. Они возьмут ее, когда она не пустится вплавь.
Лай стаи достиг накала, что казался явно несоизмеримым с размерами зверька, которого гнали собаки. Особенно — в сравнении с тающим вдали зовом одинокой гончей, что шла за дичью куда крупнее.
— Вперед и вперед — докуда? — спросил Ли.
— До океана, — ответил Генри. — До самого моря — и дальше. Черт! Слушайте, как эти прохвосты навалились на бедную маленькую лисичку. Дерьмоеды!
Вив понимает, что ей следовало бы избавиться от этого прикосновения — заняться кофе, что ли, — но не шевелится. Генри, неодобрительно хмуря брови, прислушивается к тявканью стаи: не такие рапорты о собачьей работе греют ему душу. Слишком уж много значения придают они какой-то несчастной лисице. Наклонившись, он сплевывает свою табачную кашицу на угли, будто она вдруг прогоркла. Смотрит, как шкворчит и набухает его плевок.
— Бывает, — отрешенно говорит он, глядя на угли, — рыбаки подбирают зверушек в открытом море. Олени, собаки, рыси, лисиц целая куча — просто плывут и плывут, невесть куда, за мили и мили от берега. — Он взял палку и поворошил уголья, в глубокой задумчивости, словно разом позабыв об охоте. — Когда-то — о, это было лет тридцать назад, не меньше — я подрабатывал на крабовом сейнере. Вставал часа в три и отправлялся помогать этому старому шведскому козлу вытрясать крабов из ловушек. — Он протянул руку над костром. — Видите, у меня шрамы на мизинце? Это гребаные крабы мне оставили. И только не говорите мне, будто крабы не кусаются. Так вот, мы то и дело плывущих зверей встречали. В основном лисиц, но иногда и оленей. Обычно швед говорил: «Пусть плывут, плывут себе пусть; некогда возиться, возиться некогда, ей-богу, богу-ей!» Но однажды мы увидели здоровенного самца оленя, настоящего красавца, на восемь-девять зачетных баллов. И швед сказал: «Давайте-ка достанем-ка этого приятеля!» Мы линь сбросили, подцепили его и затащили на борт. Я так понял, швед прикинул, что ради этого оленя стоит «повозиться богу-ей», потому как его можно сожрать. И вот, значит, мы набросили ему линь на рога и затащили на палубу. И он там просто лежал. Уже тремя копытами на том свете. Дышал тяжело, закатил глаза, а в них такой страх смертный, какой только у оленей и бывает. Но даже не знаю — там не просто страх был. В смысле, испугался он не только потому, что едва не утоп, и не потому, что люди его поймали и на свою лодку заволокли. Не того свойства был просто страх — нет, я так скумекал, в нем был чистый страх, сам по себе который.
Он снова ткнул палкой в костер, послав в темноту очередной фонтан искр. Вив и Ли молчали, ждали продолжения. И ей казалось, что эти искры осыпаются ей на грудь.
— Что ж, он смотрелся таким уморенным, что мы даже не потрудились его связать. Он просто лежал, вроде как пришибленный, вроде как и глаза закрыть силенок уж не осталось. Он лежал, пока мы не подошли к самому берегу. И вот тогда, святые силы, он вдруг как вскочит, как растопырится во все стороны рогами да копытами — а уж через секунду перемахнул через борт, и поминай, как звали. Я-то поначалу думал, что он дурил нас, прикидывался, чтоб мы, значит, поближе к берегу подошли, чтоб ему доплыть было сподручней. Но все не так. Он развернулся прямиком назад, прямиком в открытое море, напуганный при этом до чертиков. Меня это прост-таки сразило, понимаете? Я давно слышал, дескать, олени и другие твари заходят в море, чтоб клещей и вшей извести, а их от берега относит. Но после того случая я решил, что тут другое. Тут что-то похлеще, чем клещи и блохи.
— Что именно? — очень серьезно спросил Ли. — Зачем же? Ты думаешь…
— Черт, парень, я не знаю, зачем. — Он бросил палку в огонь. — Ты образованный малый, а я — простой дундук-дровосек. Я знаю только, что, если башкой подумать, ни олень, ни медведь, — ни, скажем, лисица, которая вообще хитрюгой той еще слывет, — не пойдет топиться, чтоб смыть с себя пару блох. Слишком уж сильное лекарство. — Он встал и отошел от костра на несколько шагов, отряхивая штаны спереди. — Ого! Слушайте… они ее отрезали. Теперь уж точно возьмут бедолагу, если не поплывет.
— А ты что думаешь, Вив?
Пальцы снова легонько сдавили ее горло.
— О чем? — Она по-прежнему задумчиво глядит на костер, будто бы все еще не вынырнула из атмосферы, навеянной стариковской историей.
— Об этом «инстинкте лемминга» у иных млекопитающих. С чего бы лисе идти топиться?
— Я не говорил, что они хотят утопиться, — заметил Генри, не оборачиваясь, будто бы разговаривал с собаками, тявкающими вдали. — Чтоб утопиться, любое озерко, любая лужа сойдет. Но они не просто топились. Они плыли.
— Плыли к верной смерти, — напомнил Ли.
— Может, и так. Но это не называется «топиться».
— А как это называется? Даже человеку хватает ума сообразить, что если поплыть строго от берега, то его очевидное наме… — Он осекся на полуслове. Вив чувствует, как рука на ее шее немеет, кровь отливает от нее. Встревоженная, она оборачивается, смотрит ему в лицо — и там нет вообще ничего. Он словно оставил лицо, провалился куда-то внутрь себя, прочь от нее, от старика, от этого костра, в какое-то свое глубинное пещерное озеро (И тем не менее все в тот вечер обернулось к лучшему, и я собрал недурной урожай небесполезных сведений, которые весьма мне пригодились в последующих экспериментах…), пока Генри не подает голос:
— Что его очевидное?
— Что? А, его очевидное намерение заключается в том, чтобы не вернуться… на берег, (…первая охапка сведений касалась меня самого…) Соответственно, кто бы то ни был — лис, олень или пропащий пьяница, — в его намерения неизбежно входит самоутопление.
— Может, и так, но вот прикинь: с пьянчугой-то все ясно, но вот с какого перепугу старой лисице в такое отчаяние впадать, чтоб счеты с жизнью сводить?
— Да с того же самого! С того же самого! (…и глубины той неразумной беспечности, до которой я позволил убаюкать себя с тех пор, как уехал с Востока…) Ты уверен, что эта несчастная наивная зверушка не обладает той же способностью к восприятию жестокостей этого мира, что и пьяница? Ты уверен, что ее не преследуют такие же лютые сонмы демонов, как и депрессивного алкоголика? Ты только послушай демонов этой лисички…
Генри посмотрел на сына, порядком озадаченный:
— Но все равно это не значит, что так-таки уж непременно топиться надо. Она могла бы развернуться и принять драку.
— Со всеми сразу? Разве это не такая же верная гибель, как и в море? Только что куда болезненней…
— Может, и так, — медленно ответил Генри, решив, что, если уж ему все равно не дано постичь заковыристые ходы мысли сына, можно хотя бы над ними потешиться. — Да, может, и так. Говорю ж, ты малый образованный. И умом востер, как мне тут сообщали. Но то же самое… — улучив момент, он проворно ткнул кончиком клюки Ли под ребра, — …мне всегда твердили про лис. Йи-хо! — Плюхнувшись обратно на свой мешок, он наслаждался нервической реакцией Ли на клюку. — Йи-хо-хо! Видала, Вив, солнышко, как он с полтычка взбодрился? Видала, как он подскочил? И как мне сказывали, с лисицами точь-в-точь такая же фигня! Йи-х о-хо!
…Одна под истыканным иголками пологом неба, что покоится на массивных колоннах сосен и елей, гончая Молли, расплескивая брызги, устремилась через узкий ручей, по краям уж отороченный кружевными рантами льда. Вскарабкалась на берег, тычется носом в листья папоротников, мечется туда-сюда в поисках потерянного следа. МЫШЬ МЫШЬ ОЛЕНЬ ЕНОТ? МЫШЬ… и — гхав-УУ ГХАВ-УУУ!.. Ли в своей комнате прикидывает, как бы изложить в письме всю эту историю, без которой Питерсу трудновато будет уразуметь расклад.
Так много всего… И я бы извинился, что не писал столь долго, не будь я уверен, что куда больше любых извинений тебя порадует затейливая предыстория сего послания, описанная моим бесподобным слогом. Прежде всего, имела место грандиозная охота на лис (одну штуку), в ходе коей я предпринял попытку наладить контакт с женой моего братца (позже ты поймешь, зачем, если еще не догадался), и эта рутинная задача несколько обескуражила меня…
А Вив, сама несколько обескураженная, возлежит на мешке с резиновыми утками, чувствует, что рука Ли снова ожила, прикидывает, как бы пресечь эти тайные ласки, не привлекая к ним внимание старика, прикидывает, хочет ли их пресекать…
— Да, знаете, что? — Генри повел плечами, посмотрел сквозь сощуренные ресницы на сплетающиеся языки огня. — Мы вот про лисью охоту заговорили, и я тут вспомнил. Сколько-то годков тому назад, когда Хэнки было не то десять, не то одиннадцать, вроде того, мы с Беном взяли его на охоту в округ Лэйн — и вышел форменный анекдот. Значит, жил там один фермер, мой друган, и он клялся-божился, что, дескать, повадилась к нему лиса, да такая невообразимо ушлая, что ни отрава, ни капканы, ни пуля ее не берут. И он, значит, обещал нам пять долларов наличными, если мы покончим с этим рыжим дьяволом, во имя, значит, мира в его курятнике…
…Вив чувствует, как его ладонь скользит по ее шее, чашечкой накрывая горло, пальцы такие тонкие и нежные под свежим панцирем мозолей. Ли наклоняется, и его шепот шелестит по самой ее щеке:
— Помнишь тот первый день, когда мы встретились? Ты плакала…
— Шшш!
— …я и сейчас порой слышу, как ты плачешь по ночам… — Ох! Он чувствует, как маленькая жилка у нее там…
— А к тому времени, как я припоминаю, малютка Хэнки сам вырастил из щеночка отборную такую суку, кунхаунда голубого. Да, ей тогда месяцев шесть или восемь было, дивная молодая сучка. И Хэнк, значит, души в ней не чаял. Он до того уж ходил с ней на охоту, раз или два. Но только без своры, чтоб она показала, чего сама по себе стоит. И вот он решил, что эта невообразимая лиса — и есть настоящее боевое крещение…
…он ведь должен чувствовать, как затрепетала, забилась эта жилка; почему он не прекратит?
— Шшш, Ли: Генри заметит. Да и я, кстати, тоже слышу иногда, как ты плачешь по ночам. Теперь искры прянули наперегонки прямо в небо. Точно крохотные ночные фениксы…
— Правда? Так может, мне стоит объясниться… — …все выше летят эти ночные жар-пичужки, а затем исчезают…
— Но штука в том, что как раз когда этот мой кореш пригласил нас на свою лису, у голубой Хэнковой суки началась течка, и ее приходилось держать в сарае взаперти, чтоб не поимел какой-нибудь смердящий выродок. Хэнк, а он все горел желанием взять ее с собой, сказал-де, когда травля пойдет, другие собаки и думать забудут про его целочку. А Бен, значит, говорит: «Черт, парень, не рассказывай только своему дяде Бену, про что звери забывают, а про что нет: эти кобели промчатся мимо целого лисьего леса, чтоб залезть на твою девчонку… Уж я-то знаю толк в таких делах…» А Хэнк — тот говорит, мол, на сей счет не извольте тревожиться, мол, моя-то псинка удерет от любого, что бегает на четырех лапах, потому даже пофиг, кто там за ней погонится…
…Генри — ночной ястреб, угнездившийся в пламени костра.
— Шшш, Ли.
— За него не беспокойся, Вив… — Ему все равно, услышит ли Генри? — Он нас не услышит: слишком увяз в своем трепе. — И не хочет оставить меня в покое, чтоб мы могли просто посмотреть на эти искры, послушать далекий зов одинокой собаки? (разбрасывая когтями жидкую грязь, оскальзываясь, на полном скаку огибая пни… бревно по курсу! Не сбивая темпа, Молли ветром взмывает над ветровалом, поджав передние лапы к исцарапанной в кровь груди, раскинув уши подобно крылышкам-стабилизаторам; на пике прыжка, за невесомой, космической массой кустов она впервые видит его, впервые с того момента, как он проломился сквозь свору, — округлый черный увалень, испещренный бликами луны, продирается сквозь влажные папоротники: гхав-ОУУУРР! — и она распрямляет передние лапы, чтоб закогтить земную твердь и продолжить бег), одинокий лай, такой далекий и такой чарующий… не хочет? — Вив, выслушай меня, пожалуйста.
— Шшш, я слушаю треп Генри.
— А Бен — тот говорит: «Генри, я б, оно, конечно, разрешил парню взять эту самую егойную Иезавель… кабы вместо охоты хотел поглазеть на групповое изнасилование — тогда бы точно ни разу не сомневался!» А Хэнк, стал-быть, говорит, что нам придется взять ее, потому как другой такой охоты и другой такой лисы — еще сто лет ждать, и хоть говорят «век живи — век учись», да собачий век короток.
…рука давит, немощное отчаянное движение:
— Но я должен поговорить с тобой… с кем-то… пожалуйста! Быть может, другого шанса у меня не будет. — Но разве не чувствует он, как тяжко бьется сердце?
— Нет, Ли, не надо…
— Ну, шумели мы шумели по ентому поводу, и уж не знаю, каким макаром, но Хэнк уломал-таки Бена взять псину просто на прогулку, чтоб она просто посмотрела на охоту, но с поводка — ни-ни. И Бен махнул рукой. «Но слушай, — говорит Бен. — Ты повезешь свою потаскуху в кабине, на коленках или где хочешь, но только чтоб она за всю дорогу ни в какое развратное соприкосновение с остальной сворой не вошла. А то ж они так упреют ее переть, что к охоте не то что следа не найдут, но и света белого не взвидят. А все одно на уме у них будет — ейный хвост, и ничего они не выследят, акромя ее манды. Эт-если, конечно, у них вообще хоть какие силенки останутся выслеживать…»
…она пытается не пустить в уши слова, ласкающие ее щеки…
— Я должен кое-что тебе рассказать, Вив. О Хэнке, о том, что собирался учинить. И почему. — …силится увернуться от этого багра острейшей багровой боли, что готов ринуться к ней из-за слов, вонзиться в ее плоть. — Все это началось давным-давно… — Но вопреки всем заслонам перед его словами, нужда его просачивается к ней отчасти: я не так уж нужна ему, он не может…
— И вот Хэнк, значит, вез свою собачонку на коленочках всю дорогу. Мы прибыли как раз с рассветом, как мне помнится, солнышко только-только поднималось. И был там еще один парень, а при нем — шесть или семь собак. И когда он увидел, как Хэнк нянчится со своей псиной — то бишь на руках ее носит, в прямом смысле, — он полюбопытствовал, что это за хренова такая у нас животина, что такого особливого обхождения для себя требует. А Хэнк говорит: «Это лучшая хренова животина в своем роду и племени на весь округ». И этот парень, который тоже при собаках, подмигивает мне и говорит: «Что ж, проверим!» И лезет в карман за бумажником, выкладывает десятку на капот и говорит: «Вот мой заклад: десять моих баксов на один твой, что мой старый, хромый и безродный кабыздох словит лисицу допрежь того, как твое дворянское педигри вааще ее увидит!» И предъявляет свою псину… признаться, такого шикарного красавца уокера я с роду не видывал… И на ошейнике — штуки три-четыре медали собачьего клуба, за чемпионство по классу травли в поле. Ну, Хэнк немножко так губы покусал, а потом говорит, мол, не может он собачку свою пустить, потому как лапку подвернула и нынче не в кондиции. Тот парень заржал жеребцом, достает еще десятку, шлепает ее на капот и говорит: «Лады, вот двадцать баксов к одному, а я придержу свою блошиную ферму до счета в пятьдесят». Ну, Хэнк на меня смотрит, а я лишь плечами пожимаю: пикап Бена, охота Бена, и Хэнк уж совсем свои губы чуть не сожрал, как подходит Бен, кладет свой бакс на капот и говорит: «Заметано, старина!» Как же тот парень зубьями заскрежетал! Понятное дело: уж больно сильная фора, даже если собака и впрямь совсем юная, течная и неопытная. Но за язык его ж никто не тянул, верно? Потому сглотнул он крепко, но только не слова свои обратно, а лишь посмотрел на Бена этак тяжко и говорит, мол, лады…
…и нужда эта растет, зреет, как и ощущение бега, и скорость все стремительней, объяснение неминуемо…
— Прошлое — забавная штука, Вив: оно никогда и ничему не позволяет остаться завершенным и незыблемым… — и вот уж ей кажется, будто она сбегает по косогору, и он все круче, и надо остановиться, пока склон еще не слишком крут, успеть остановиться на краю, но скорость слишком велика… но… Что это? Край. Краешек лунной краюхи; как мило…
— И вот мы зашли домой к этому моему корешку, фермеру, а он объясняет, что если лис будет уходить так, как скорее всего и надо от него ждать, то мы большую часть пути можем проделать на колесах. И говорит, что взять след — никаких проблем, потому как эта ушлая зверина каждую ночь отирается у курятника. И вот Хэнк отводит свою собачину к изгороди, дает ей обнюхаться, спускает — и она уносится прочь, только ее и видели. А тот парень — он по-чесноку держит своего пса, но всячески подзуживает, покуда Хэнк считает до полусотни. А там уж — тоже «на старт — внимание — пыль столбом»… И всех прочих тоже спустили, больше, правда, чтоб глаза не мозолили. И вот этот парень садится к нам в пикап, и мы едем, и, клянусь, мы несколько часов мотались за собаками по этому несчастному каньону, который ненамного просторней нашего парадного крылечка будет. Туда-сюда-обратно, и куда дальше — непонятно. Вот я и говорю Бену: «Это самый хитрованнейший и хитрохвостейший лис в моей жизненной практике. Как только этот прохиндей умудряется этак увиливать от собак на таком-то пятачке? Черт, тут же и развернуться негде, чтоб бампера об скалы не отрихтовать — и где он только находит простор для маневру?»
…Она и не пытается сфокусировать зрение. Просто смотри — смотри просто. Вот ель, взъерошившая пламенеющие перья, вся раскинулась в огне.
— И иные явления из прошлого продолжают досаждать настоящему, моему настоящему… до такой степени, что порой я испытываю потребность уничтожить прошлое, стереть его. И это одна из причин моих слез по ночам. — Но ведь плач на самом деле не столь уж отличен от пения. Конечно. Или от лая той собаки. (Молли скребет когтями по гладкой скале, тянется к черной дыре, где скрылся медведь. Срывается, падает, не в силах ухватиться за край пещеры, как это сделал медведь. Гавкает и прыгает снова, но на сей раз соскальзывает в сторону, в расселину между скалой и соседним валуном, в тесный каменный мешок, набитый мраком. Выворачивается — и снова с яростным лаем бросается на скалу. Но внезапная жгучая тяжесть сковывает задние лапы, наваливается на спину, будто ее опутала, одернула немилосердно шлея из докрасна раскаленного железа) И не всегда плач подразумевает нужду…
— Что ж, как мы больше всего и боялись, лис-таки наконец прорвался. Мы были уж в самом конце каньона, когда услышали, что собачки повернули и понеслись обратно к ферме. Ну, развернулись, поехали за ними. Бен за рулем уж совсем упрел от этих танцев с лисицей. Мы знали, что там дальше, за фермой, что в горловине каньона, тьма речек и проселков. Легко заблудиться можно — неделю напролет этого лиса гонять. Поэтому, подъехав к ферме, захотели уточнить, как наши дела. И вот подкатили к изгороди, а тот старикан фермер на своем сторожевом посту, провожает взглядом эту великую погоню, а собачки с шумом и пылью к горизонту чешут. — Ой, почему бы ему не оставить меня в покое?.. — И вот Бен соскакивает на землю и орет этому фермеру: «Скажи, они ведь только-только тут промчались, ага?» И фермер отвечает: «А то как же!» И Бен запрыгивает обратно в пикап, чтобы двинуть дальше, но тут Хэнк — а он сзади сидел, я так думаю, сзади, а тот парень, с которым мы поспорили, в кабине, со мной и с Беном, — и вот Хэнк просит подождать и кричит: «А моя собака с ними? Голубая?» И тот фермер этак странновато ухмыльнулся и отвечает: «Молодая сука? Да уж, она впереди всех бежала, само собой!» Тут уж и другой парень завелся, которому двадцатку терять ну никак не хочется. И тоже спрашивает: «А мой уокер на каком месте в забеге?» А фермер этак сочувственно кивает и говорит: «На вполне почетном. Твой пес шел третьим, почти что ноздря в ноздрю с лисом!» С лисом! Йи-хо-хо… — Старик откинулся назад и ударил палкой по угольям. — Йи-хо-хо… ноздря в ноздрю с драным лисом, понимаете? Бен был прав: и кобели, и лис, и все прочие зверюги, забыв обо всем на свете, гоняли эту маленькую стерву ночь напролет, и ничего не видали, кроме хвоста бедной маленькой сучки! Йи-хо! Бен потом еще несколько месяцев Хэнка дразнил, сулил ему выводок кунхаундов с пышными рыжими хвостами! Ой-ё! Йи-хо-хо!
Старик покачал головой и поднялся, опираясь на клюку. Все еще похохатывая над своим анекдотом, отошел поодаль от костра. Услышав звук его невеликой потребности, справляемой на сухой валежник, Ли снова конспиративно зашептал:
— Понимаешь, Вив? Так было всю мою жизнь. Оно душило меня. Пока вдруг я не увидел, что нет смысла… бороться дальше за глоток воздуха. И не то чтобы я винил его во всех своих бедах, но я почувствовал, что пока я хоть однажды хоть в чем-то не сумею превзойти его, потеснить его хоть где-то — дышать не смогу. И вот тогда-то я решил…