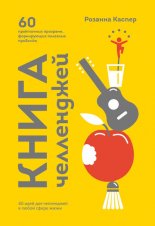По велению Чингисхана Лугинов Николай

Ей уже снились путеводные сны, земное время Ожулун источилось.
Приходил Джэсэгэй.
Он приходил в ее сны и раньше, но неясно и не тревожно. Теперь он приходит ощутимым, в полном боевом наряде, начищенный песком металл доспехов манит, притягивает сердце жены. Джэсэгэй наклоняется, нюхает ее лоб, и она чувствует холод куржака на его бороде, тонкая ткань платья пропускает холод его кольчужки. И она не поймет, готова ли идти за ним? Просыпается и не может уснуть до тех пор, пока не потускнеют звезды в отверстии дымохода сурта – тогда вздремнет.
А недавно пришел Борохул.
Пришел таким, каким она увидела его привезенным из ставки джирдженов, пятилетним мальчуганом в той же, кажется, одежде и с указательным пальцем в уголке рта. Он стоял и плакал, как плачут взрослые: молча, только носом похлюпывал. Ожулун чувствует, как саднит у нее изболевшееся сердце, она тянет руку, чтобы погладить его по волосенкам, но стена неведомого и невидимого разделяет их. «Борохул, сыночка! Иди же скорей сюда… Ну?» – зовет Ожулун, но малыш призывно шевелит пальцами правой ладони, и по движению его губ можно понять слова: «Иди ты ко мне, мама… Ты… Ты…»
Проснулась от собственных рыданий, с прикушенной больно губой и увидела неясное сквозь слезы лицо Хайахсын. Думала, что продолжение сна, но та заговорила:
– Бурджун… Бурджун… Хотун моя, проснись, успокойся, – и тянула к губам Ожулун туес с холодным кумысом. – Это сны. А это – кумыс. Сны проходят, а кумыс остае-оо-тся, попробуй-ка…
Но что осталось от Ожулун, которая могла в молодости разом выпить два таких туеска! Сейчас лишь пригубила. И говорит подруге, с трудом переведя дыхание:
– Кажется, отжила свое, отбегала…
«Мне и там быть рядом с тобой, – так думает Хайахсын. – Ничто нас не разлучит, моя хотун», – и успокаивает, как водится:
– О-о, нет! Не каждому сну суждено сбыться. Один китаец мне рассказывал, что увидел сон: рядом с ним лежит дочь императора Цин – справа, а слева – торба с золотыми слитками. Проснулся – хвать! Справа – черная собака выкусывает блох, а слева – конская глызка! Сухая, как его старуха!
Посмеялись – и то хорошо.
– Болтушка ты, сорока ты лесная, сойка ты трескучая! – утирает слезу Ожулун. – Все как молодая!
– Да куда ж тебе сбираться-то? Дети, посмотри, еще несмышленые! Нет уж, погоди лиса в капкан – охотник жениться уехал!
– Сухое дерево до первого ветра стоит… А дети уж пусть позаботятся сами о себе и о народах, что пошли за ними… Все решит судьба, и мы над нею не властны.
Она впервые сказала такое вслух, сняла с себя тяжкую ношу, решилась – и померкший было белый свет словно бы прояснился. Но и сила жизни ушла из нее с этими словами: казалось, подуй тот самый ветер – и унесет ее, как цветочную пыльцу, как пуховый клочок, выпавший из шерсти линючей верблюдицы.
И когда совсем уж собралась умереть, собрала к себе всех близких.
Первыми пришли приемные сыновья Сиги-Кутук, Кучу, Кекетей – сели в ряд перед ее одром. Ожулун поставила на крыло Тэмучина, Хасара, Хачыана, Аччыгыя, но продолжала жить своим двором, чтобы воспитать вот этих приемышей, и теперь ими можно гордиться – они в числе девяноста пяти облаченных высшими чинами воинов ила. И что те хлопоты перед сознанием радости, когда возле нее такие соколы!
– Борохул пал на далекой войне, дети, – сказала она, прикрывая глаза ладонью. – Хорошо ли вы помогаете семье вашего брата? или вам нужны указания матери? Скажи, Сиги-Кутук!
– Мы навещаем невестку нашу Алтану. Мы договорились, мама, что с каждой войны будем привозить равную долю добычи семье Борохула, – ответил Сиги-Кутук.
– А теперь слушайте внимательно и запоминайте навечно: вы – братья великого хана, вы один кулак. Никогда – слышите? – не завидуйте друг другу. Зависть – мать всех бед… Земли наши становятся всё обширнее – всем найдется удел и забота по плечу. Каждый палец на руке не лишний, но знайте, что не будет вам счастья на земле, если вы забудете о кулаке. Люди обычно идут путями, проложенными другими… Так не забывайте о Бодончоре, о Джэсэгэе, о своих великих предках, но сейчас путь прокладывает Чингисхан – помогайте ему, сыновья. – Ожулун устала. Ей уже и говорить было не по силам. И вместо того, чтобы по обычаю закончить словами «я сказала», она молвила: – Я устала…
И тихо обрадовалась, что дети поняли ее, когда ответили:
– Ты сказала! Мы услышали!
«Услышали…» – успокоилась Ожулун, впадая в забытье.
Глава девятнадцатая
Внутренние разногласия
Героизм и человеколюбие – почти одно и то же. Но стоит чувству этому хотя бы немного сбиться с пути, и любящий человечество герой превращается в свирепого безумца: освободитель и хранитель делается притеснителем и разрушителем.
Энтони Эшли Купер Шефтсбери. XVII век
Горе семьи, вызванное потерей Борохула, чуть смягчилось радостью возвращения в уорук[20] Джучи-победителя. Он покорил необъятные земли, не потеряв ни единого нукера, не покалечив ни одного боевого коня – остротой ума и силой слова он приобрел в дальних краях могущественных друзей и новых родичей. И Чингисхан отдал сыну под крыло все земли в окрестностях великой Алтай-горы со всеми живущими там племенами, птицами, зверем, рудой и водой. После праздничного тоя, после славословий и криков «уруй» в честь Джучи и нового ила, отец и сын остались наедине. Лишь теперь Джучи мог обговорить с отцом подоплеку похода и отделить масло от обрата – полезное от уже изжившего себя. Ночь шла, как резвый иноходец, и уже к утру Джучи напомнил отцу:
– Помнишь, когда ты провожал меня, то сказал, чтобы в походе я платил за добро – еще большим добром, за верность – еще большей верностью, и что лишь тогда я смогу окружить себя надежными людьми?..
Чингисхан ответил, что помнит, что рад и хорошей памяти сына. И Джучи тогда лишь сказал:
– Моя победа, отец, не была бы такой бескровной, если б не один мудрый человек… Зовут его Худухай-Бэки, он глава племени ойуратов… Не знаю, чем бы завершился этот поход, если б не он, – это правда. И если б ты особо отметил его, то слухи о нашем умении быть благодарными за добро как ветром по свету разнесет! Ведь так? Но мудрость Худухая-Бэки переполняет сосуд малого народа и малой земли, этот человек способен стоять на самых верхних уступах ила… Ведь способных размахивать пальмами да пиками у нас немало, и это хорошо, но управлять ими должны мудрецы, знающие язык душ. Чтобы окончательно приблизить к нам Худухая-Бэки, отец, нам неплохо было бы выдать за двух его сыновей двух моих сестренок, а твоих дочерей – как ты на это посмотришь? Чегейген – за Ыналчая, а Ойхулан – за Терелчюна!
Как на это смотреть? Чингисхан слушал Джучи со спокойным сердцем. Он не мог не быть доволен тем, что сын его возмужал не только как воин, но и как вождь и полководец. Ему хотелось обнять сына – он еще помнил молочный запах сыновнего тела, хотелось даже пожаловаться Джучи на усталость и на тревогу, но Чингисхан был еще очень силен и очень боялся проявлений того, что даже близкие люди могут посчитать проявлением слабости. Он сказал:
– Где же парни? Надо бы глянуть, что за родня!
– Я отправил их на выучку к старику Аргасу, отец, – склонил голову Джучи, как бы ожидая наказания за самоуправство. Но это было всего лишь жестом почтения и уважения к отцу. И это отметил хан, глаза его заблестели молодым огоньком: это вождь. Он взял Джучи за плечи, встряхнул его сильно и весело:
– А не ускакать ли нам на соколиную охоту, Джучи?! То-то повеселимся, а?!
И сын ответил ему согласными кивками и широкой белозубой улыбкой.
– Только дождемся Аргаса, отец. Он к вечеру будет, расскажет нам, достойны ли сыновья ойуратского вождя быть нашей родней. Но как скажешь ты, так и будет, соколы жаждут крови!
В прошлом году, сразу же после большого курултая, хан раздавал большим своим людям земельные наделы и поручал их опеке малые племена. Тогда Хасар, как всегда, остался недоволен полученным: ему отломилась доля, равная с какими-то неведомыми людишками, а он считал себя вторым человеком в иле после Чингисхана. И кому он мог высказать свою обиду? Только старой Ожулун, которая и сама-то рассуждала схоже: ей с младшим сыном досталась земля пустынная и далекая, одним словом – неудобица. Тогда старший сын смог объяснить ей свой замысел:
– Ты говоришь, что раздел земель не обдуман и кое для кого унизителен, что тебе даны окраинные земли, а Хасару – рядом со ставкой даны земли, иссеченные дорогами…
Ожулун напомнила:
– И племя будаа – непочтительное, мрачное, росточком мелконькое, как рубленый конский волос. Ф-ф-фу на него, оно и развеется!
– Этот дележ не навечно – пойми! – устало говорил Чингисхан. – Надо видеть дальше кончика своего носа! Ну что мне с вами делать?
– Ишь ты, умник какой! – возмутилась Ожулун и поджала губы, готовая, впрочем, слушать доводы сына, зная, что тот ничего попросту не делает. – Так сошли нас в пустыню к глиняным людям, мы это заслужили!
Чингисхан поморщился, будто собирался чихнуть. Зеленые глаза его потемнели.
– Дай же мне сказать… Я ведь тоже не из железа… Ты спроси меня: когда я в последний раз был на охоте или заходил в сурт какой-нибудь из жен! Поймите, чем мы отличаемся от других, – мы знаем большую цель! И чем дальше будет идти жизнь, тем шире будут прирастать к нам земли. Кого я мог наделить землями, порубежными с хоро? Вот я и дал их тебе, эти северные земли, с мыслью: вдруг твоя мудрость сделает хоро нашей опорой на севере? А вдруг они без войны присоединятся к нам, ведь это крепкое и уважаемое племя! А что касается Хасара, – желваки заиграли на широких скулах Чингисхана. – Что касается брата Хасара, так я его искренне люблю… Но ты же знаешь, что он легковерен и простодушен, как молодой бяшка! Можно ли отдалять его и оставлять без догляда? Это первое. А второе: почему бы будаа и икирэсам – этим стадным людям – не иметь над собой такого жесткого правителя! Их ведь надо держать в крепком загоне! И в-третьих, пусть люди видят, что у меня нет любимчиков, что моя кровная родня довольствуется тем же, что дается всем остальным. До цели еще ой как далеко! Люди смотрят на нас и что видят: мы не ладим между собой, живем одним днем, чего же им от нас ждать? Каждый норовит урвать – и в сторону! А Хохочой так и бдит, его люди доносят ему о каждой заусенице на моих стрелах, разве не так?
«Так… – мысленно соглашается Ожулун, но все еще сохраняет маску недовольства и строгости. – Что с ним делать, с этим Хохочоем? Чего он хочет? Умен ведь, звереныш!» Она вспоминает, как тот играет на слабостях Хасара – хур бы ему в руки! Вот задурил недавно головы доброму десятку челядинцев Хасара – те и перебрались к нему в стан на жительство. И расчет оказался верным: взбешенный Хасар прыгнул в седло и один, без охраны, прискакал за ними вслед, ворвался в сурт шамана и – ну трясти за грудки. Тот стал вопить и взывать к силам небесным, а десяток его нукеров-телохранителей украсили Хасара такими синяками, что и впрямь, как в поговорке, мать родная Ожулун его сразу и не признала. А хитрец давай камлать, закатил глаза, ударился оземь. «Беда… – шипит. – Беда бездонная, черная, мертвая!» Люди всполошились: «Что? Что тебе боги сказали, о великий шаман Хохочой?» А боги ему якобы сказали, что после Чингисхана следующим вождем монголов станет Хасар и править будет огнем и саблей, что уже вскоре собирается он напасть на Чингисхана, перебить всех и взять повода судьбы монголов в свои руки. Он знал, что творит, – весть о заговоре Хасара полыхнула по всей степи. Дошла она и до великого хана, и воины тех мэгэнов, которые Хасар готовил для отмщения Хохочою, уже считались заговорщиками. Казалось, они ждут только первых звуков тревожного барабана, чтоб выступить.
Тогда Чингисхан в строжайшей тайне собрал на совет Боорчу, Мухулая и Джэлмэ. Уговорились взять Хасара на дознание. В который раз привели его с взлохмаченной головой, с перекошенным от ярости лицом и горящими глазами. Два турхата стояли позади него, и он исхитрился ударить одного из них локтем под ложечку так, что тот громко икнул, схватившись за живот. Однако Хасара все же поставили на колени перед ханом и разложили на белом бязевом полотне его шапку, пояс, саблю, нож и огниво. Мухулай, Боорчу, Сиги-Кутук уселись кругом и хотели было приступить к допросу, но Хасар яростно замотал головой и прикусил губу так, что по подбородку потекла руда. Кровь могла уйти в землю, и Чингисхан крикнул: «Утрите ему кровь, живо!» Однако Хасар мотал головой и хрипло говорил: «Твой разум помрачился, Чингисхан! О горе! Горе-э-э!» Чингисхан, зная бесхитростность Хасара, сказал недоуменно: «А не твой ли, брат, рассудок оседлал шайтан?» «М-м-м! – стонал Хасар. – Вместо того чтобы заступиться за брата, когда его избивают черные слуги, ты меня хватаешь, как хунхуза, и велишь тащить на правило! О беда-а-а!» Постепенно выяснилось, что все снова угодили в тенеты шаманских козней. И задумались о корне смуты. Корень нужно было вырывать.
Все это снова вспомнила Ожулун, глядя в прошлое затуманенным взором. Она уже не слышала, о чем говорил Чингисхан, а лишь корила себя за то, что житейская мелочность свойственна и ей, матери великого человека. «Как же ему жить средь нас?» – подумала она, и слух ее, и зрение ожили, когда она подняла взгляд на хана.
– … Боорчу просил, чтобы Хохочоя препоручили ему! – говорил он. – Но как обойтись без нарушения законов?
– Прости, сын… Совсем оглупела твоя наседка, – понурилась Ожулун. – Делай и поступай, как велит тебе небо.
И все же с тяжелым сердцем хан разговаривал наедине с Мухулаем. Он словно не понимал до конца смысла происходящего, но чувствовал, что другого случая пресечь козни шамана ждать не следует: может грянуть гром средь ясного неба, а молния поразит невинного. Один ученый китаец рассказывал о великих завоевателях и основателях царств. Он твердил, что судьба посылала им всего лишь один-единственный случай и не обладай эти мужи решимостью – случай явился бы напрасно.
От Мухулая пахло конским потом и кислым кобыльим молоком, но сам он был чист, свеж, как жених, и ногти его были ровно обгрызены. В глазах поблескивали огоньки веселой готовности исполнить любое дело, коли того пожелает хан.
– Поезжай и проследи, чтобы Боорчу не наследил ни на земле, ни на воде… Ты знаешь, он верен и честен, но простоват и свиреп. Иногда чрезмерно, – хан прищурился, ожидая ответа на вопрос, которого Мухулай явно не ожидал.
– Всех нас допёк этот шаман, – уклончиво сказал тойон. – Надо спустить его черную кровь!
– На этот раз пусть будет без крови! – тоном доброго совета молвил хан, но такого совета мог ослушаться лишь безумец. – Я сказал!
– Ты сказал – я услышал!
…В стане Боорчу жизнь бурлила, как похлебка в казане. Люди сновали подобно переполошившемуся птичьему базару. Однако не сторонний взгляд отметил бы во всей этой сумятице подготовку к боевой вылазке. Да и главу ила – Мухулая – заметили сразу и провели его к своему тойону, который сразу же заявил, что намеревался отправить конного за Мухулаем.
– Я шел на север, да решил дать крюка и завернул к тебе. Нас никто не слышит?.. – Мухулай огляделся скорее для порядка, нежели опасаясь за соблюдение тайны, он знал, что Боорчу не из ротозеев.
– Если кто нас и слышит, так это Хохочоева смерть! Как бы ее не вспугнуть! – мрачно усмехнулся тойон. – А уж я знаю, как с ним посчитаться!
Мухулай тоже усмехнулся, спросив:
– Ну и как же ты, старый пес, намерен вырвать жало этого подлого змея? Насчет мыслишек-то у тебя под шапкой всегда было не густо. У иного чаще вошь в голове заведется, чем у некоторых тойонов мысль. Правда?
Боорчу не обижался на подначки старого товарища и даже любил его манеру общаться так, чтоб у собеседника начинала играть кровь. И он тут же отшутился:
– Правда то, что у каждого кобеля сзади то, что у мужчины спереди! Вот такую правду я знаю, а другую знает один Бог! Так послушай лучше умного человека и раздвинь мох в своих ушах: мы воспользуемся его же, Хохочоя, оружием!
Мухулай съязвил:
– Бубном, что ли?
Однако Боорчу уже не замечал или не хотел замечать подковырки друга и продолжал:
– Аччыгый-тойон претерпел от этого змееныша не меньше Хасара. Одних работников потерял добрый сюн! Разве не так? И мы завтра же отсылаем к шаману человека с известием, что Аччыгый-тойон с несколькими мэгэнами идут, чтобы учинить кровавую бойню в его стане!..
– Так он просто сбежит, как сайгак, – и ищи-свищи его по степи! – не понял замысла Мухулай, на что Боорчу не преминул обратить особое внимание.
– Да, старик, – сказал он, – ослаб ты головой, едва только стал главой ила! Не стало зубов в твоей некогда прожорливой пасти, – как дитя радовался своему хитроумию Боорчу, – но я тебе разжую!.. Да. Он известный заяц, и он сбежит. Но куда – вот вопрос!
– И куда?
– Да уж не к китайскому императору за плошкой риса, а к Чингисхану за помощью и защитой! – выпалил заветное Боорчу, и по лицу его разлилось выражение полного блаженства, вызванное сознанием своей исключительной сообразительности. Однако Мухулай поторопил:
– Ну и что дальше-то? Прибежит он в ставку, ну и что?
– А дальше для слабоумных. Аччыгый-тойон вскинется на шамана: «Ах ты, барабанная шкура! Еще несколько дней назад твои подлые слуги по твоему ничтожному указанию избили меня, ханского брата! А теперь ты еще и жаловаться сюда явился, хорек вонючий! А раз так – идем к хану вдвоем, пусть он нас рассудит!» – превосхищая недоумение Мухулая, Боорчу поднял руку, остановил готовый вылететь изо рта главы ила очередной вопрос. Затем продолжил: – Они направятся к хану, но сидящие в сурте тойоны изгонят их с криками: «Нечего тут, в великом сурте, околачиваться! Без вас тут у хана забот невпроворот, а вы тут толчетесь, обиженные нашлись, беззащитные выискались!» Тогда Аччыгый вытащит змееныша из сурта на волю, а тут уж и я его, дружка моего, встречу и угощу!
Мухулай судорожно перевел дыхание. Замысел Боорчу ему нравился, но почему он думает, что все так и будет, как в бабушкиной сказке?
– А если увидит кто? – нашелся он. – И почему ты уверен, что этот шакал на сей раз обойдет падаль?
– А куда ему деваться? – простодушно спросил Боорчу и повторил: – К китайскому императору?
– Смотри, на его стороне нечистые силы, – улыбнулся Мухулай, внутренне одобряя устройство западни по Боорчу. – И хан просил обойтись без крови.
– На его стороне – шайтан с шайтанятами и шайтаниха с семихвостой камчой!
– Эй, эй, распустил язык-то! – испугался Мухулай. – Накличешь беду!
– Ка-а-ак же! – самодовольно отмахнулся Боорчу и захохотал, предчувствуя конец козням Хохочоя. – А он… ох! А он… считает нас недоумками! Ха-ха-ха!
И как ни внушал народу Хохочой, что все земные дела ему наперед ведомы, а в ловушку угодил плотно.
Хорошо зная норов Аччыгыя, который учился упрямству у пасомых им лошадей, шаман был уверен, что тот совершит задуманную отместку и сломает ему хребет, а челядинцев умоет кровью. Если Хасар вспыхивал, как сухой валежник, и быстро гас, то пастух Аччыгый в упрямстве был настойчивей племенного быка. Бежать от него тоже бесполезно: он знал степь, как собака блошиные места на своей шкуре. Спасти мог только Чингисхан, он один мог остановить мах занесенной сабли.
И хонгхотои, ведомые шаманом, прикочевали в уорук обозом из более чем сотни повозок со скарбом, женщинами и детьми, с мычащим и блеющим скотом, со всеми погремушками для камлания. Однако предупрежденные о подобной картине внешние караулы не впустили это кочевье внутрь территории уорука. Вместе со всеми приехал и Мунгкулук-хонгхотой с семью своими сыновьями. Старший из них оказался меньше остальных ростом и сидел в арбе на высоком сиденье невзрачный, сухонький, в чем душа. Остальные с виду не робели, скорее наоборот, вели себя вызывающе, уверенные в силе и славе своего старшого. Старый же Мунгкулук, обычно невозмутимый, как замшелый пень, время от времени прицокивал возмущенно языком и многозначительно поглядывал на Хохочоя.
«Да они все стронулись не только с насиженного места, но и тронулись умишками!» – подумал выехавший им навстречу Мухулай, глядя, как люди шамана пытаются напролом войти в уорук, но их попытки жестоко пресекаются молчаливыми турхатами.
Мухулай подъехал и рыкнул, как старый медведь:
– Эт-т-то что за муравейник?! Зачем явились?! Кто звал?!
– Мы бежим к хану, чтоб спасти свои животы! – выкрикнули несколько голосов. – У кого же нам искать защиты?
Мухулай почесал затылок:
– Кто же вас гонит? Кара-китаи или сартелы-сарацины с косами? Может быть, сам Алтан-хан хочет вами поживиться? Кто ответит?
– Это мы скажем только самому Чингисхану! – тонко крикнул взбешенный Мунгкулук, чтоб не ударить лилцом в грязь перед сыновьями. – А уж никак не простым турхатам мы скажем об этом!
– Это кто простой турхат? Я простой турхат?! – лицо Мухулая перекосилось от ярости. – Встань! Перед тобой глава ила! Ты что – слепой?
«Хорошо, если бы они на меня набросились!» – думал Мухулай в то время, как семейство Мунгкулука вытягивалось в струнку.
– Я… я… не о тебе, о великий тойон Мухулай! – едва не теряя сознания от ужаса, лепетал отец семейства. – Нам бы к самому Чингисхану!
– А ему не до вас, – почти ласково, по-отечески сказал Мухулай. – Разве вы не знаете, что подобными мелочами он не занимается! Но коль уж вы настаиваете, да и Хохочой – великий шаман с вами, я вижу, то я прикажу пропустить. Но не всех, а лишь уважаемого Мунгкулука с сыновьями и великого шамана… – Мухулай едва не сказал, заигравшись, «…с погремушками», однако заставил себя прикусить язык и резанул честолюбивых беглецов вопросом: – Оружие есть?
– Не видишь разве? Нет оружия!
– А на арбах?
– И там нет!
– Обыскать! – рявкнул Мухулай, и сто его турхатов расшвыряли людей шамана и скарб на повозках. Они отыскали худые ножи, пальмы из потускневшего от времени железа, захудалые луки, с которыми кто-то из приезжих не хотел расставаться.
Мухулай взял в руки охотничий нож с рукоятью из рога архара и спросил Хохочоя с издевкой:
– Значит, вы в ханский уорук пробирались с оружием? Уж не вздумали ли вы худое против самого Чингисхана?
Беженцы в ужасе затихли, а шаман выпучил глаза и словно лишился дара речи, но нашелся, наконец:
– Ну… Ну, Мухулай-тойон! Пеняй на себя!.. Ты еще умоешься слезами!..
Но Мухулай уже провел игру – судьба на его стороне. И он знал слабые места шамана, то, например, что Хохочой боится Сиги-Кутука.
– Я-то умоюсь, – сказал тойон, – вот ты-то когда в последний раз умывался? На этот вопрос можешь не отвечать, можно догадаться, что не позднее прошлого новолуния. А скажи мне, – повысил он голос, – зачем явились в ставку со спрятанным оружием?! И на этот вопрос, шайтан с тобой, можешь не отвечать! – И, увидев, что Хохочой высокомерно улыбнулся, добавил: – Ответишь самому Сиги-Кутуку. Я передам тебя в его праведные лапы! Уж его-то не заговоришь!
Улыбка шамана превратилась в гримасу ужаса и стыда. Он залопотал, стараясь, чтоб не слышали родичи:
– Ладно… Ладно, Мухулай-тойон… Давай обо всем договоримся…
– Что ты там бормочешь себе под нос? – громко спрашивал Мухулай. – Не слышу! – И, отвернув своего коня от скукожившегося в седле Хохочоя, угрюмо осмотрел растерянных хонгхотоев. Встретился взглядом с главой рода и объявил: – Из уважения к тебе, почтенный Мунгкулук, я пока воздержусь от передачи вас, как предполагаемых заговорщиков, в Верховный суд и пропущу тебя с семью сыновьями в уорук. Остальным – стоять на месте и ждать распоряжений!
– Ты настоящий человек, Мухулай-тойон! – отозвался старый Мунгкулук и виновато покосился на старшего сына – Хохочоя. Тот сердито хмыкнул, а лицо его постепенно приобретало выражение надменности и спеси.
Турхаты у входа в ханский сурт застыли, как каменные истуканы.
Зато громкоголосые хонгхотои ходили с развернутыми плечами, и казалось, что они тут находятся ради одолжения и пьют теплую воду неодолимой скуки. Как вел себя их плюгавенький родич Хохочой, так держались и остальные братья. Похоже было, что эти люди прибыли получить ничтожно малые награды за неимоверно большие заслуги и заранее пренебрегают этими наградами.
Старый Мунгкулук открыл полог входа в ханский сурт перед своим старшим сыном и вошел вслед за ним. Хохочой с независимым видом прошел внутрь и уселся справа от Чингисхана, на место, куда не смел садиться ни один смертный, – спесь шамана не знала границ. Темная тень легла на лицо тойона Хубулая, что как главнокомандующий возвышался слева от сидящего хана. Он глянул на Сиги-Кутука, словно желая сказать: «Каков наглец!» – но верховный судья весьма задумчиво смотрел на игру огня в очаге, казалось, кроме этого, ничего на свете его не занимает. Тогда возмущенный Хубулай глянул на Чингисхана. Брови хана были подняты, словно в недоумении, а изо рта его вырвались слова:
– Что за гурьба? Откуда взялись? Кто впустил?
Мухулай с готовностью пояснил:
– Я впустил, о великий хан! Я пожалел! Эти люди объявили, что ищут спасения своим животам, а от кого бегут, а кто им грозит – молчат. Говорить намерены лишь тебе, о великий хан!
Тогда Чингисхан обратился к беглецам:
– Кто будет говорить? Слушаю!
Старик отец заговорил затверженно:
– О хан! Нет ничего опаснее, чем замена старых порядков новыми, ибо неизвестно, кому что выгодно, а со взбаламученного дна подымается всяческая нежить.
Послышался глубокий бас Хубулая:
– Это про вас! Еще недавно вы были другими людьми…
Однако Чингисхан жестом прервал словесный поток праведного гнева и сказал в сторону Мунгкулука:
– Давай-ка, старик, говори прямо, мне некогда слушать пустые рассуждения! Говори: кто вам грозит?
И лишь сейчас, когда нужно было назвать имя обидчика, брата Чингисхана, старик почувствовал смертельную опасность, но, запинаясь, продолжил:
– Нам… стало быть… стало известно, что Ач… Аччыгый-тойон держит в боевой готовности несколько мэгэнов, чтобы… чтобы пустить нам кровь! Есть люди, готовые подтвердить эти… эти слухи, о великий хан!
– И почему же он так рассвирепел?
– Из-за мелкой ссоры с Хохочоем, моим старшим сыном!
– Давайте сюда Аччыгыя! – приказал хан. – Он утром приехал к Джэлмэ для суглана!
И когда вышли Мухулай с Хубулаем, в сурте установилась грозная тишина. Первым не смог вынести этой тишины шаман.
– Ты, Чингисхан, умножаешь свои грехи, совершая одну ошибку за другой! – хриплым от волнения голосом сказал он. – Собираешься совершить еще одну?
Хан легко и весело засмеялся:
– Ошибкой больше, ошибкой меньше! А вот твой грех – то, что ты меня не удерживал от ошибок, хоть ты и провидец!
– А ты меня на совет приглашал?
– А разве ты полководец? И разве не долг любого верноподданного предупредить своего повелителя о возможных опасностях?
Послышались громкие голоса, и в сурт ввалился пьяный Аччыгый, сопровождаемый тойонами. Он весело завопил:
– Ого-го-о-о! – и полез обниматься со стойкой сурта.
Хохочой, не скрывая своего злорадства, сказал:
– Оказывается, для пьяных дорога к Чингисхану открыта, братья мои! – но едва успел он произнести эти слова, как его вздернули с кошмы мощные руки Аччыгыя.
– Шаманишка-а-а! – удивился он и потрогал своим лбом лоб прорицателя. – Ты мне не снишься? Пойдем один на один, а? Без… этих… как они?.. Которые меня били… палками! Палками! – проревел вдруг он, как раненая медведица, и тряханул шамана, как бубен.
– Остановите! – взывал Хохочой, чье лицо едва виднелось из-под натянутого на голову халата. – Держите его-о-о!
И братья вскочили было с мест, но застыли наподобие караульных турхатов-истуканов под грозным взглядом рысьих глаз Чингисхана, сидящего недвижимо.
Народ загомонил, но все покрыл рык Хубулая:
– А ну-ка, выметайтесь оба из сурта! Разбирайтесь сами, кто там кого обидел! Вон пошли! Вон, я сказал!
И уже не похожий на пьяного Аччыгый утащил из сурта трепещущего и пукающего шамана, как кобчик цыпленка. В сумерках того подхватил мощный Боорчу и стал мять, как азартная собака мнет подраненную утку. Через мгновение послышался хруст костей и глаза Хохочоя закатились вместе с его звездой. Боорчу оставил жертву и исчез так же тихо, как и появился. Аччыгый же вернулся в сурт, обиженно сопя. Хубулай спросил его:
– Что, помирились уже?
– Этот трус, этот зеленый лжец притворился больным и не стал бороться! Куда ему против меня. Я могу коня кулаком – и с копыт: бац! А он: пук-пук…
Старик отец кинулся из сурта к лежащему Хохочою, приник ухом к груди, где еще недавно билось столь беспокойное и неугомонное сердце.
– А-а-а! – вскричал Мунгкулук. – Сыновья мои-и-и! Го-о-ре-е! Они убили, убили его-о-о!
Снова вздыбились было крепкие его сыновья в глубине ханского сурта, но были скручены и связаны телохранителями Чингисхана. Старика же, стоящего на коленях у тела сына, велено было не трогать.
«С непокорным народом трудно совладать, а вот с их вождями расправиться легче, – думал Чингисхан, уйдя в себя и не замечая суеты вокруг. – А достигается желаемое – народ обезглавлен…» И когда выпроваживали хонгхотоев, он во всеуслышание сказал:
– Кто виноват в смерти Хохочоя? Он сам. Человек, возомнивший о себе, как о равном Высоким Айыы, обречен изначально. Он поплатится за это. Скажите: кто возносил Хохочоя много лет, кто подзуживал его и внушал ему мысли, несвойственные разумному человеку? Кто из потного муравья сделал взмыленную лошадь? Вы сами. Идите к своим повозкам – я отпускаю вас и надеюсь, что слова мои, влетая в ваши уши, задержатся в ваших головах на какое-то время… Обдумайте их, пока не поздно!
Мухулай удивился:
– Отпускаешь их? А что делать с тем сбродом в их становище? Там их сотен пять, не меньше! И с каждым днем это число прибывает, хан!
Хан был готов к ответу:
– Отправьте этих хонгхотоев в их исконные земли на Селенгу… А те – сами разбредутся к прежним хозяевам. Сколько твоих ушло к ним, Аччыгый?
– Двенадцать, хан. Может, я негодную мысль высказываю, такую худенькую мыслишку…
– Так не жуй – говори!
– Я бы истребил этаких безумцев. Тогда, может, и дурной крови среди людей поубавилось впоследствии! А кто как не ты должен думать о благоденствии всего ила?
– Иногда не вредно и вместе подумать. А, Джэлмэ? – повернулся Чингисхан к своему доверенному. – Пора и тебе слово молвить!
– Благодарю, хан… – сказал тот и отвел глаза. Все ждали его слова и долго ждать он не заставил: – Сдается мне, Аччыгый с Мухулаем правы, как ни тяжко говорить такое, если речь идет о каре своих же людей… Заразу надо истреблять огнем и стрелами. Это как каменное масло: чуть – и вспыхнет! Один голодный год. Один мор. Одна засуха – и эта нечисть понесет недовольство в народ, а тогда крови прольется куда больше, о хан!
– Так, Джэлмэ! – рыкнул Хубулай.
– Та-а-а-к! – прокричали остальные.
– Ти-хо! – приказал Чингисхан.
И когда установилась тишина, он поглядел в небо и вымолвил:
– Да поймет и помилует нас Господь!
Глава двадцатая
Проводы Хотун-хан
Лучше всего характеризовал монголов человек, который их прекрасно знал, – Марко Поло. Когда он сидел в генуэзской тюрьме и диктовал свои воспоминания соседу по камере, тот его спросил, почему у великого хана так много людей и сил. На это Марко Поло ответил: «Потому что во всех государствах, христианских и мусульманских, существует жуткий произвол и беспорядок, не гарантирована жизнь, имущество, честь и вообще очень тяжело жить. А у великого хана строгий закон и порядок, и поэтому если ты не совершаешь преступлений, то можешь жить совершенно спокойно».
XIII век
Кончился год Змеи[21], и время перешло в год Мерина[22].
Внучки Ожулун корпели над своим приданым: старшая из девочек Ходжун-Бэки, которую прочили за Тусахы-беге, внука Тогрул-хана, ныне обещана сыну вождя икирэсов Буту-Кюргэну, вторая – Чечейген-Бэки, предназначалась старшему сыну Худухая-Бэки по имени Ыналчай-Кюрген, третью, названную Олуйхан, отдавали за Терелчюн-Кюргэна[23], брата Ыналчая, четвертая едет к младшему брату главы онгутов Алахыс-Хоро, носящему имя Сенгтуй-Тэгин, а самая малая и несмышленая еще Алтынай тоже имеет озабоченный вид и наравне с сестрами хлопочет над скарбом.
Вся эта веселая суета подняла с ложа Ожулун-хотун. Опираясь на руку Хайахсын, она стала выходить во двор и вдыхать ненасытно воздух новой весны. На пергаменте ее лица написано, что она всем довольна: и тем, что приходит в холодную степь весна, и тем, что разлетаются ее птенцы – кто на охрану отдаленных рубежей растущего ила, кто замуж, и тем, что снова увидит вернувшихся из теплых стран птиц…
Со времен некогда туманного, а теперь словно бы прояснившегося детства Ожулун любила наблюдать за птицами и со свойственной человеку завистью следить за их полетом, выслеживать те невидимые ниточки, которыми связаны пернатые существа с тремя стихиями – небом, землей и водой. Так стала понимать, что птицы предсказывают погоду не только на день вперед, но и еще отдаленней. Ожулун знала, что птица топорщит перо к непогоде, а ощипывается – к ветру, что купается в пыльных барханах – к дождю, что большие стаи перелетных птиц – к хорошему раннему лету. Бывало, соберутся маленькие сыновья на промысел, а Ожулун им: «Куда же вы перед дождем-то навострились?» – «Мама, открой глаза – солнце-то в полнеба!» – «Ну, идите, идите!» Приходят обратно мокрые до косточек: «Мама, откуда ты знала про дождь?» И она их учит: «Если птицы чистят перья – быть дождю. Если коршун зависает в поднебесье, потом падает вниз и скользит с раскинутыми крыльями над землей – быть дождю. Если птицы поют до рассвета и медленно возвращаются на гнезда – быть дождю…» – «Ну, а зимой, мама?» – «И зимой надо смотреть… Перед бураном птицы жмутся к людям, к жилищам – они ищут у людей защиты… Будто бы не боятся людей: буран-то пострашней! А вы за воробьями поприглядывайте или за ласточками: к хорошей погоде ласточки веселятся, едва ли не садятся на спины пасущихся лошадей…»
И, глядя на хлопотуний-внучек, она думает: «Разлетаются мои ласточки, веселятся, на лошадей садятся… Раньше невест выдавали за шесть-семь дней пути, а теперь и в гости-то запросто не съездишь в такую даль». Но мысль эта не омрачает тела Ожулун. Заботит ее другое: не рассеются ли ее кровинки по столь обширному полю жизни и не растворятся ли в нем до полного исчезновения…
Ожулун с ласковой благодарностью думает о подруге своей Хайахсын, которая воспитывала ее сыновей и внуков в умении скрывать свои мысли и намерения от чужих, говоря, что мысли хана не должны знать даже самые доверенные. Тогда окружение его не угодничает, тогда колеса не спешат опередить арбу, тогда люди – как камешки на ладони.
Печально, что одни и те же наставления каждый воспринимает на своем уровне. Дураку лишнего не втолкуешь…
Вот Хасар… Если старший с присущей ему жаждой новых знаний до мозга костей проникся мудрым учением, то Хасар по легкомыслию и нетерпению так ничего и не понял.
Тэмучин в любом горячем споре умеет слушать других со стороны, не обнаруживая своего расположения к одним или неприязнь к другим, поэтому все стараются выложиться начистоту, даже не пытаясь воздействовать на его слабости, воспользоваться этим, а отстаивая свое мнение, свою точку зрения.
А у Хасара тайных мыслей и быть не может. Он сперва говорит и только потом думает. Потому в его окружении крутятся одни льстецы, готовые поддержать его в любом сумасбродстве, любые его абсурдные мысли. Благо никаких усилий и не требуется, чтобы угадать их. Они всегда на слуху… Потому Хасар никогда и не слышит правдивую речь.
А девочек Хайахсын ни во что не ставила: лишь бы мужу угождали, какой с них спрос. И если мальчики из уст своей наставницы знали историю императорских династий Китая, свободно читают мудреные иероглифы Ван Чуна[24], то девочки частенько пускались в рев, когда их шпыняла за бестолковость та же Хайахсын, однако, по части утвари и нарядов, обычаев и порядков китайского императорского двора были доками.
Кажется, Хайахсын что-то говорит. Ожулун, погруженная в свои думы, поняла это, лишь когда та замолчала, поняв, что хотун ее не слушает.
– Что ты сказала, подруга? Я не расслышала, – мягко спросила она.
– Сегодня мальчики аж три раза приходили и ушли ни с чем.
– Нехорошо получилось, но ведь еще не готово приданое девочек. Да и горюют они очень перед разлукой, страшатся, и мое присутствие помогает им держаться, хотя помощи от меня никакой.
– Незачем им так спешить, время есть еще. А мальчиков ждут войска, ведь они у нас тойоны большие, хлопот и дел не в пример больше. Надо бы обязательно завтра принять, не задерживать перед дальней дорогой. Им тоже нужны твои наставления, благословение…
– Хорошо, пусть завтра придут с утра пораньше, ко второму бою кюпсюров.
– Слушаю, моя хотун.
Когда Хайахсын вышла, Ожулун улыбнулась: у каждого свои слабости…
«Вдруг нырнул внутрь огромной вороньей стаи ястреб и, еще немного покружив, отвалил восвояси… Любая птица, отбившаяся от стаи, была бы растерзана им. Так хорошо ли то, что птенцы мои отбиваются от стаи? – думала Ожулун, прислушивалась к своему сердцу, но ослабевшее это сердце не предвещало тревоги… – Нет-нет, стая еще только начала сбиваться. Ил – вот наша стая!»
Хан, остерегаясь, что мать может не дожить до осени, задержал войска, давая внукам проститься с Ожулун. Пришла пора прощаться и с внучками. Он заметил, что та спокойна за старшую, Худжун-Бэки, поскольку девушка отправлялась хоть и за тридевять земель, но все же к давним союзникам монголов – икирэсам. И за Чечейген с Олуйхан родные сильно не тревожатся – они идут к ойуратам. Будущий муж Олуйхан – Терелчюн сразу же уедет с назначением мэгэнеем в восточную армию, стоящую горной засадой на рубеже с землями Алтан-хана, и девушка засобиралась было с ним, но обе матери воспротивились ее намерению, говоря, что не дело начинать супружество на бранном поле. Тогда разгорячившийся от нового неведомого чувства Терелчюн стал испрашивать у отца месяц отсрочки от службы с тем, чтобы увезти юную жену на родину, но Худухай-Бэки разгневался и прикрикнул на сына:
– Никуда от тебя не денется твоя красавица! Терпи до зимы! Ишь ведь какой нукер: из-за юбки и службу оставить рад! В твои-то годы получить такой чин – это иные и за всю жизнь не удостоятся, а он за юбку схватился! Чтоб я больше не слышал таких слов – башку снесу!..
Как холодной водой окатило женишка.
Когда он был просто сыном хана небольшого, но самостоятельного народа, ему дозволялось почти все. Что могло ждать его впереди? Отцовский трон, погрязший в мелких междоусобных дрязгах? А для этого ждать смерти брата?
Теперь же он – молодой полководец великого войска, хотя и один из многих, а для таких, как он, в строю немного свободы. Зато все существо его звенит как натянутая струна в ожидании удачи, побед, признания. И он уверен, что все это будет.
Ожулун тревожилась лишь за Алахай-Бэки, которая едет к онгутам.
Онгуты – род разноречивый и поперечный. Хоть и склонились они к союзничеству, благодаря воле вождя Алахыс-Хоро-Тэгина, но были как глухой урман, в котором степняку всегда неуютно и тревожно. Потому и выделил отец три отборных сюна на службу лично ей. Вместе с челядинцами верных людей насчитывалось больше мэгэна.
Сборы в дорогу шли неуклонно, как время, и уже близились к концу, когда от владыки уйгуров Барсах-Итикута прибыли два посла – Атхарах-Бичиксит и Дарбай-Бэки. Они привезли устное послание, которое прозвучало для Чингисхана долгожданной мелодией вечернего хура:
«Чингисхан! Мы, твои сторонники, радуемся светлой радостью, слыша, как растет и ширится твоя слава, подобно солнечному свету, подобно реке, ломающей и вспарывающей толщи льда, чтобы разлиться во всю ширь! Если бы ты обратил на меня свой благосклонный взор и дал возможность принять посильное участие в твоих величайших и мудрых деяниях, я стал бы тебе пятым сыном, как в сказе о почтительном сыне Шуне!»
В обратный путь послы отправлялись с подарками, которые несли на горбах восемь вьючных верблюдов. Чингисхан благодарил за союзничество вождя уйгур, которые, равно как и китайцы, были народом грамотным и богатым.
А Итикуту он повелевал передать вместе с подарками такие слова: