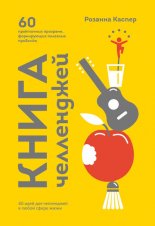По велению Чингисхана Лугинов Николай

– Но мы-то в укрытиях, а каково же сейчас тангутам! С нами, выходит, небесные силы! Они же сейчас, как утки: кря-кря-кря!..
– Крякаешь ты неплохо, парень! – подначивал Аргас. – Почти как кузнец, когда кует! Может, тебе пойти в подручные к Джаргытаю – то-то бы помог илу!
– Когда стану таким же хорошим воином, как ты, и пойму, что выше – некуда, тогда можно и в кузницу! – зубоскалил Салбар, и неизвестно, сколько бы это продолжалось, но поступил приказ – атаковать тангутов во время ливня.
И решение это оказалось победоносным.
Ошеломленные тангуты жались к озеру и гибли от стрел, сабель и еще холодной озерной воды. Частью рубились, уходя от гибельного берега к стенам крепости Халахай, частью сдавались. Всего три мэгэна прорубились сквозь плотное кольцо двух ливней: стрел и дождя. Они ушли в крепость сильно потрепанными и подавленными.
Трижды отправлял Чингисхан гонцов к стенам крепости, предлагая тем, кто внутри, сдать ее. Тангуты упорствовали – крепость оказалась «злой»[30]. Однако в их среде зрел раскол, и ночью кто-то из сторонников Чингисхана из числа оборонцев напал на караульных и отпер ворота крепости. Вынужденные сдаться без боя, тангуты были поголовно приговорены к смерти. Весть эта мгновенно облетела всех и всех привела в трепет.
Но когда наступило время исполнения приговора, то освободили священников, купцов с челядью и родственниками, ничего не изъяв из их товаров. Зато больших и малых баев обязали половину имущества отдать в казну монгольского войска и тоже освободили. Последними отпустили тойонов с семьями, не позволив взять ничего из имущества. Придержали ремесленников, а калек, дряхлых стариков и нищих погнали в степь под охраной пожилых нукеров и обозников. Молодым этого видеть было нельзя. Их дело – убивать в бою.
Аргас тоже выехал в степь, за крепостные стены, уже не кажущиеся неприступными, как вчера. Спешился, повел коня в поводу, чтобы тот насладился молодой травой. А вскоре услышал ужасающий вой и стон над весеннею степью. Вчера ее омывал благодатный дождь, сегодня – потоки человеческой крови.
В эти дни он видел своих питомцев в деле. И с сердечным теплом восстанавливал в памяти поступки Тулуя, младшего сына Чингисхана от Борте-хотун. Не заглянув внутрь горшка, не узнаешь, что там налито: молоко или вода. Но в ратном деле Тулуй был смел и не безрассуден. Ни в чем не хотел уступать ему и певец Дабан – рубился, как песню пел: легко, красиво, играючи. Когда его сбили с коня, он тут же сшиб с седла зазевавшегося тангута своим копьем с крюком на древке и, добив его ударом сабли, вскочил в седло.
Снова худым воином, не годящимся в тойоны, выказал себя тот самый Маргай, что избил старого охотника у крепости Тайхал. Он снова, как шакал, догрызал раненых и спешенных, находя в этом какое-то утоление жажды крови.
«Маргая и еще двоих отправлю арбанаями в черное войско… подальше от передовых отрядов», – решил Аргас безо всяких сомнений.
Из-за стен крепости доносилась песенная разноголосица.
В степи стих последний стон.
Глава двадцать вторая
С Божьей помощью
Первая статья Чингисова кодекса-джасака гласила: «Повелеваем всем веровать в единого Бога, творца неба и земли, единого подателя богатства и бедности, жизни и смерти по Его воле, обладающего всемогуществом во всех делах».
Впрочем, по утверждению Лэма, у которого мы заимствуем эти данные, приведенная замечательная статья не была опубликована во всеобщее сведение, – вероятно, по той причине, что император не желал вносить в среду своих подданных элементов религиозного раздора, что нельзя не признать мудрым решением.
До столь широкой веротерпимости, которая господствовала в царстве Чингиса XIII века, Европа дошла, и то лишь относительно, в XVIII веке, – после того, как она пережила крестовые походы для массового истребления «еретиков и язычников», и после нескольких столетий, в течение которых пылали костры инквизиции.
Эренжен Хара-Даван
Исчезали в вечности тангутское царство Си-ся и киданьская империя Ляо.
Порабощенные джирдженами китайцы не хотели воевать и уходили в горные леса и укромные распадки. Племена мань, ицзу, яо, лоло, как многие другие, переметывались к монголам под сень джасака Чингисхана. Хорошо, что подавляющее большинство всех народов, натерпевшись от произвола своих бывших всемогущих правителей, с радостью приняли новое уложение. Для них джасак – это порядок, который карает смертью за убийство безоружного, за прелюбодеяние мужа или жены, за любую кражу, за разбой и грабеж, за то, что купил или продал краденое, за укрывательство беглого раба, колдовство и чародейство ради корысти, за невозвращение долга или оружия, утерянного нукером в походе, за отказ путнику в пище и питье, за неоказание помощи своему соратнику. Были введены телесные наказания и ссылки в захудалые местности, далекие от караванных троп, пеня за убийство мусульманина или китайца. В холодной купели закона крепло и выживало новое государство. Люди, не любящие подчиняться, начинали думать и действовать в соответствии с общей, бурной лавиной жизни, взятой в гранитное русло ханской воли. И главным правилом были добрые отношения с соседями по семье. Но были и такие, для кого джасак был лишь карой, тяжелым ярмом, обуздывающим их своенравную волю, и они затаивали обиду, которая подталкивала к бунтам. Поэтому, во имя сохранения спокойствия большинства, предателей, сбивающих народ с истинного пути, подталкивающих к бессмысленному сопротивлению, наравне с убийцами посланных небом гостей искореняли вместе с детьми, ибо дурное семя дает дурное племя. Однако может ли живой человек измениться раз и навсегда, если даже очень захочет этого? Человек упорствует в привычном. И восстание тангутов еще раз подтвердило правильность ханского решения о разделении этой зимой тангутского войска на четыре части – иначе их непослушание вылилось бы в большую кровь с обеих сторон. Вместе они были ядовитым зубом змеи, а порознь – пастью старой собаки. Добро тангутов на отнятых у них же волосатых быках отправилось в главную ставку Чингисхана. Эти низкорослые быки были сильны и тянули за собой целые сурты тангутов.
…Собираясь на охоту, Чингисхан ходил по верхушке кургана, заложив за кушак большие пальцы больших рук. Смотрел на свою длинную тень, на каменные зубцы скал, на упругие излуки реки и лесные острова с непролазными дебрями – на благодатный край, избранный и обжитый тангутами. Чего им не хватало при таком изобилии?
Он вспоминал повествование Сиги-Кутука о древних государях: почти все они пали оттого, что в ясную погоду не думали о громе небесном. Не судьба и не боги были виновны в их падении, а собственные слабости, ибо они всего лишь люди об одной голове, стоящие пред многоглавой толпой. И надо не крепости возводить, а не возбуждать ненависть народа, которому всегда вложат в руки оружие чужеземцы. Как не польститься на такую богатую и щедрую землю!
«Мы скребли пустое лоно голодных степей и стали веревкой из сыромятной кожи, которую не разорвут и четыре вола – север, юг, восток и запад, которой не страшны ни мороз, ни зной. Мы познали страданья гонимых и возжелали оградить свои народы от прозябания, от боязни развести открытый огонь в степи, от тревожных взглядов на линию небосвода – не мчатся ли разбойные всадники! Тогда почему кэрэиты Тогрул-хана, найманы Тайан-хана, те же мэркиты, которые, войдя в наш ил, не потеряли ни одной овечьей отары, все же таят на нас обиду и горделиво держатся в стороне, как великородные аманаты? За несколько лет их скот умножился, они стали есть жирную пищу и утирать руки не о шаровары на острых бедрах, а о халаты, обтягивающие толстые животы, – и все же чем-то недовольны. Чего они хотят? Восстание мэркитов, заговор найманов, отворот тангутов – все они давали слово верности, и как с ними быть: кровь? Мухулай сказал однажды:
– Мы, как маленькие детки, играющие с блестящим колечком, а это колечко – ядовитая змея!.. Разве ж можно пускать в свой дом людей с оружием, которые намедни с этим домом и воевали? Они что: шутки шутили? Китайские фокусы показывали? Свататься приходили? Их, пустоголовых, надо было перебрать, как хозяйка крупу… Узнать, кто и чем дышит, накрывшись кошмой аж с головой, как делают мусульмане… Рассадить их по ямам в колодках – пусть сначала подумают своими тухлыми мозгами: во что и зачем ввязались!.. Процеживать их надо, а не вот так, как мы: заходите, гости дорогие!..
Тогда один Джэлмэ взял сторону Чингисхана:
– Не слушай, Тэмучин. Как ни кинь – всюду клин… Правда – она посередине. Разве люди повинны в том, что мы излишне полагаемся на ясность их куцых умишек? Я хорошо усвоил, что живут они сегодняшним днем. Что с них возьмешь? Видно, то, что происходит, – неизбежно, а линию ты взял верную. И если мы мыслим дальше других, то давайте не торопить события. Каждый получит свое, а нам важно не утерять остроту и новизну жизни по справедливым законам… Да, будет литься кровь, в большинстве кровь невинная, но только ли на крови стояли все великие империи и царства?.. Главное – ради чего эта кровь лилась, Тэмучин. Как молоко отстаивается в жбане слоями, так и народ, попадающий в сосуд новых порядков. И не надо противиться жестоким законам Божьего мира, пытаясь ввести в него свой закон. Они должны совпадать. Иначе обернется большой бедой.
– Но неужели будем истреблять, как того требует Боорчу, четверть каждого завоеванного народа? – желая прояснить сказанное, спросил тогда хан. – Неужели только устрашение удержит народ от возмущения? Я не хочу этого. Но что же делать?
– Истребим столько, сколько надо, чтобы другие жили в ладу. А предложение Боорчу… Оно не годится, иначе мы повторим гибельный путь татар. Карать надо, но нельзя умножать кровную обиду. Кровь, она всегда смывается еще большей кровью. Нельзя этого допустить, – твердо, чеканя каждое слово, сказал Джэлмэ. – Решения придут, когда этого потребует жизнь… Правда – посередине…
Чингисхан тяжело вздохнул и поднял руку, давая понять, что больше слов не надо.
– Но где эта середина, мы не знаем! Некоторые говорят, что врага нужно принимать в свои ряды, лишь напрочь подавив его волю, помучив, подержав в рабах. Нет, говорю я, Чингисхан! Наши предки тюрки так и поступали, где они сейчас, скажите, грамотеи? Сломленные люди – самые опасные, лживые, трусливые и подлые. Готовые к измене. Мы будем строить ил по доброй воле людей. И пусть будет то, что будет! Ибо от смут и мятежей страдает большинство людей, а от моей кары – будут страдать лишь отдельные виновники, закваска этих смут! Я буду расточать чужое и прибавлять себе славы, но буду беречь наше, свое и прибавлять себе любви единоплеменников. Любовь выше славы… Но слава – упряжная лошадь любви…
Чингисхан ходил и вспоминал все, что касалось разговоров о будущем. Время шло, тень его укорачивалась, и солнце уже на длину мизинца востекло над одной из сопок, когда пришли и сказали, что соколы готовы.
Предстояла соколиная охота.
Хану подвели охотничьего коня в узорчатом чепраке и легкой сбруе. Нетерпеливо брехали, чуя волю, розовокудрые борзые.
Чингисхан помнил до мельчайших подробностей, до стука камешков, что осыпались из-под босых ног, до посвиста камышовок и полуденного звона в ушах, как лазали они с Хасаром к соколиным гнездам за добычей. На горе Бурхан-Халдун, под деревом с огромной шапкой гнезда, они подъедали остатки соколиной трапезы, когда взрослые птицы улетали на охоту. Потом Хасар ловко взбирался до края гнезда орлана-белохвоста по гладкому стволу и рассматривал испуганно вжавшегося в выстилку гнезда соколенка, а Тэмучин напряженно всматривался в небо, чтобы упредить криком лающий крик подлетающего орлана и предостеречь брата об опасности. А Хасар, изъяв у соколенка или жирного сома, или утиную грудную кость, или щучью голову, исхитрялся еще и погладить притихшего в ужасе птенца по дрожащей теплой спинке. Однажды под Хасаром подломился сук и он упал с высоты четырех человеческих прыжков. Он долго не мог сделать вдох, а хватал воздух судорожными глотками, но добычу из рук не выпускал. Лежал так до начала заката, когда небо стало розоветь. Рядом, обняв брата, лежал Тэмучин – он решил умереть вместе с Хасаром. Но тот, наконец, сказал слабым голосом:
– Смотри, смотри! – и указал на сокола, несущего что-то весомое в когтях.
Они вскочили, когда сокол уже опускался в гнездо, – азарт победил боль. Они завопили, замахали руками. И сокол испустил вниз струйку полостной жидкости, выпустил из когтей добычу, чтобы облегчить свой вес и мощными гребками крыльев набрать высоту. Тогда их добычей стала жирная кряква…
Сколько же раз следил потом юный и нищий сын багатура Джэсэгэя за охотой соколов как заколдованный, пока не взял в горной пещере первого в жизни птенца сокола-балобана и не посадил его на перчатку. Сокол этот бил и фазана, и утку, и гуся, и горлицу, он все время возвращался на зов, и сердце Тэмучина таяло от этого гордого доверия усталой птицы. Он презирал луней, канюков, осоедов и даже орланов – в них словно бы не было породы, линий, как в сапсане, или кречете, или беркуте. Был у него и красавец-тетеревятник, глядя на которого во время охоты Чингисхан любил жить. Он стал заядлым сокольничим.
Глядя на него, все большие и малые тойоны обзавелись птицами. Ему несли дань соколами. Белыми кречетами он считал своих сыновей, чьи птицы били столько лебедя, что приходилось раздавать народу.
О, какое же здесь приволье для охоты!
Весь мир, казалось, распластался под ударами его соколов.
Глава двадцать третья
Легенда об Илдэгисе
Первая статья Чингисова кодекса-джасака гласила: «Повелеваем всем веровать в единого Бога, творца неба и земли, единого подателя богатства и бедности, жизни и смерти по Его воле, обладающего всемогуществом во всех делах».
Впрочем, по утверждению Лэма, у которого мы заимствуем эти данные, приведенная замечательная статья не была опубликована во всеобщее сведение, – вероятно, по той причине, что император не желал вносить в среду своих подданных элементов религиозного раздора, что нельзя не признать мудрым решением.
До столь широкой веротерпимости, которая господствовала в царстве Чингиса XIII века, Европа дошла, и то лишь относительно, в XVIII веке, – после того, как она пережила крестовые походы для массового истребления «еретиков и язычников», и после нескольких столетий, в течение которых пылали костры инквизиции.
Фахр ад-Дин Мубарахшах
Илдэгис жадно вбирал в себя картины нового мира и рассказы о нем бывалых воинов. Он был очарован новой своей жизнью, которая многим из многих показалась бы жизнью, лишенной свободы, а значит, и смысла. О, такие не знали, что такое иго нищеты и однообразие дней в заботах о похлебке!
Когда вчерашних рабов, а ныне воинов Масуд-султана повели куда-то через безводную степь и через каменные отроги, когда босые ступни людей, изодранные о жесткое будылье и изрезанные о камни, привыкли к боли и стали тверже верблюжьих, Илдэгис заметил, что не один он доволен своим положением раба, а и десятки других, чьим единственным ремеслом была война. Шли долгонько, и старые псы войны говорили, что где-то далеко живут сарацины по реке Итиль, которая течет с севера из Великой Булгарии к югу и впадает в неоглядное озеро, чье водное пространство не покроешь и за несколько месяцев опасного пути. Есть еще и река Танаид, что вливается в Понтийское море со многими другими, текущими из Персии. Если идти на юг, говорили они, то уткнешься в величественные горы. На их склонах, нисходящих к пустыне, живут черкесы и аланы-христиане. Там есть Железные ворота в горах, куда Искандер в древние времена загнал иафетов, и горы сомкнулись, оставив узкий проход, который великий полководец и перекрыл воротами. Среди двух рек – Итиля и Танаида – жили некогда кипчаки.
Все вбирал в свою чистую память Илдэгис.
Когда в один из вечеров увидели дальние огни костров стана, то многие словно ослабели в предчувствии горячей пищи и воды и, когда добрались, – попадали с ног и мертвецки заснули. Только утренний барабанный бой разбудит любого воина.
Алпамир-бэсиэлджит сам обошел вновь прибывших и отделил одних от других по причинам, ему одному понятным. Он трогал, щупал, заглядывал в зубы, давал в зубы, заставлял приседать многократно и прислонял свое ухо к груди будущего нукера, слушая бой его сердца.
Остался вне всех один ледащий, как фитилек, Илдэгис, увидев которого бэсиэлджит насладился собственной желчностью, спрашивая?
– Ты что за выродок? Каким ветром твою мать надуло? У тебя есть имя, я спрашиваю.
Мальчик не отвел глаз и гордо ответил:
– Мое имя Илдэгис. Я сегодня мал, худ и несчастен, но я – кипчак из ханглы.
Бэсиэлджит округлил глаза, словно увидел ярлык на княжеское происхождение от верблюжонка о трех горбах:
– Кипчак? Из ханглы? Ну… мал, худ, но ничего… еще подрастешь! Счастье – дело наживное. Мы, ханглы, имеем доброе имя! А в этом мире это главное. Мы заслужили его своей доблестью и верностью слову и службе. Значит, ты нашей кости? Да?.. Сколько ж тебе лет-то, барсенок?
Илдэгис бесстрашно прибавил себе год и сказал, что ему тринадцать.
– Мал ты для военных доспехов. Твои руки так тонки, что их можно продергивать в игольное ушко. Начинай изнутри, как из материнской утробы. И я ставлю тебя мыть котлы – там всегда будешь сыт. Ешь почаще!
И сталось.
Илдэгис мыл медные, бронзовые и глиняные котлы, в которых можно было сварить полтора десятка таких Илдэгисов зараз. Он никогда не выказывал усталости и не чурался никакой грязной работы. И старый кипчак Нурсул, кашевар, у которого он ходил в подручных, без Илдэгиса стал чувствовать нехватку чего-то важного и по-отцовски сблизился с мальчуганом. Он хотя и слыл человеком угрюмым и недоверчивым, но кому на таянье лет не хочется передать секреты кухни достойному и способному ученику? Так и Нурсул незаметно для себя приоткрыл любознательному мальцу тайны приготовления особых блюд, половецкий плов Илдэгис стал готовить лучше учителя. Кто знал, что в судьбе Илдэгиса именно это умение станет едва ли не главной тягловой силой. Умные люди говорят, что знание и умение за плечами не носить – этой поговорки Илдэгис не знал, но по природе своей был восприимчив к труду и знаниям.
– Христиане ведут отсчет времени от Рождества Христова, – говорил старик отроку. – А что, разве раньше на земле не было людей, а стало быть, и времени?
– Не знаю, – пожимал плечами Илдэгис, если плечи были не заняты. – Наверно, были.
– Наве-е-рно… – орудуя ножом, делал недовольное лицо Нурсул. – У всякого растущего дерева есть корни: разве его воткнули в землю, как копье? А вначале было семечко. Откуда оно взялось, скажи?
– От другого дерева!
– Ха! – Нурсул воткнул нож в землю. – А самое первое дерево откуда?
– Откуда? – готовился Илдэгис узнать эту великую тайну, но Нурсул вздыхал:
– Не знаю… Говорят, Бог сотворил… И нам с тобой дал свет, и нашим корням, и нашему семени… Мы давно живем… У нас было царство Дешт-и-Кипчак – царство городов, вся Великая степь, священная земля Тэнгри до пустыни Гоби… Да… Были времена. Весь мир мы держали как котел. И мы были главными кашеварами этого котла. Но почему мы не удержались?
– Ума не хватило. Возомнили себя богоизбранными, а всего-то были кашеварами… Ведь что главное в этом мире – это знать свое место… Иначе беда! Да-а-а… – и замирал, словно боясь мыслью заблудиться в воображаемых пространствах и потерять свое место. Потом одергивал себя: – Хватит! Разболтались! А кто работу делать будет!..
Шло время.
Следуя за войском, Илдэгис объехал множество земель. Видел многолюдные базарные площади, где ел огромные груши, которые внутри белы, как хлопок. Пробовал виноград и жирную рыбу, что привозили промысловые люди на продажу, стал различать пряности, драгоценные камни и диковинные жемчуга, выросшие на дне моря в створках раковин. Он видел умелых в искусстве прельщения женщин и женщин, упрятанных в паранджу, он наблюдал врачей и астрологов, умеющих читать судьбы людей по расположению звезд на ночном небе. И предощущение своей непростой планиды становилось в нем все острей. Он словно бы ждал перемен, перерастая свою стезю подручного кашевара. «Мы – кипчаки!» – думал он, когда становилось невмоготу от переизбытка сил.
И явился однажды Алпамир-бэсиэлджит.
Ничего не объясняя, он распорядился перевести Илдэгиса от кашеваров к конюшим. «Так! Начинается!» – окатило жаром Илдэгиса, который ждал судьбы, иначе зачем Господь подарил ему свет. Ведь он хотел быть воином, а конюшие – люди, близкие к войску, они движутся вместе с войском и не ходят по базарам, и день у них равен ночи.
Привычный к самому черному труду, к своим новым обязанностям он относился как к подарку свыше, и со временем почувствовал себя знающим лошадей человеком. Несколько раз он ходил в недальние походы вместе со свитой Алпамира, а по прошествии времени изменился рост Илдэгиса, определились черты его лица, походка. Руки стали способны удержать на аркане дикую кобылицу.
Как-то бэсиэлджит поманил его пальцем, объезжая табуны. Илдэгис подошел и встал перед ним на одно колено.
– Встань, кипчак! – доброжелательно молвил тойон. – Сегодня ты напомнил мне одного славного воина ханглы именем Байталай. Это был знаменитый мэгэнэй: силен, умен, красив и доблестен!
Боясь, что тойон спросит – не родственник ли юноша Байталаю и придется лгать, Илдэгис поспешил отвести этот предполагаемый вопрос своим.
– Что же с ним случилось? – с любопытством спросил он. – Он погиб?
– Кто знает! Тела его никто не видел… А в плену такого тойона держать бы не стали: он стоит многого золота мира! Богатство у его ног – лишь прах…
Илдэгис не остановился в расспросах:
– Что же, Тэнгри взял его живым?
– Зачем знать тебе то, что не вмещает человеческий жалкий умишко, а? Ты вот получше смотри за жеребятами! Они так же похожи один на другого, как ты на Байталая – смотри, не перепутай!.. – сказал хитрый бэсиэлджит, и Илдэгису стало страшно, что тот догадывается о его кровном братстве с Байталаем. – А Байталай пропал бесследно. Даже его мертвое тело было бы предметом торга. Ибо султан в пример другим его похоронил бы с великим почетом.
– Я бы тоже сражался за такого мудрого правителя, как Масуд-султан! – поспешно, но искренне сказал Илдэгис. – Только добиться бы доверия на службу, встать в строй.
На что тойон так же искренне ухмыльнулся:
– Подрасти сначала, барсенок! Жизнь умней нас с тобой! Станешь нужен, будешь востребован.
Так они и расстались, а спустя недолгое время Масуд-султан вызвал Алпамира в Иран и послал его командовать западной армией. В Арран же, где коноводил юный Илдэгис, выслал полководца по имени Суджурум.
Опечалился парень, надеющийся на покровительство Алпамира.
Мало ему, взрослеющему, было той работы, которая была ниспослана судьбой, он по-прежнему хотел стать воином. Но оказалось, что новый военачальник получил от старого кое-какие наказы. Он вызвал к себе Илдэгиса и на кипчакском наречии с произношением ханглы спросил:
– Сколько тебе лет?
– Тринадцать, – ответил Илдэгис.
– Как так, если тринадцать, по словам Алпамира, тебе было в прошлом году?!
– Простите меня, о тойон, но тогда я прибавил себе год, чтобы мне дали работу! – Он склонил голову в знак признания вины.
– А сейчас говори правду! Ты в самом деле вызвался быть отданным в рабство?
– Да. Я хочу старанием и терпением выйти в люди. На родине мне места нет.
– Ты что, умнее всех? А?
– Я не могу знать мысли всех – я знаю свои мысли и отвечаю вам чистосердечно, – отвечал Илдэгис. – Я не боюсь говорить это, потому что верю вам, своему соплеменнику, и знаю, что ниже рабства только смерть. Так чего же мне бояться?
– Только такие вот сопляки и не боятся смерти, – проворчал довольный, судя по выражению лица, бэсиэлджит. – А не лучше ли быть черным человеком у себя на родине, чем султаном на чужбине?
– Султаном быть лучше. Ибо ни один султан не станет мечтать о рабстве, а раб не откажется стать султаном. И совсем необязательно знать их мысли, чтоб понять это, глядя на неправедный серединный мир, который не всегда воздает почести по истинным заслугам, но где истину и признание легче добыть мечом, чем усердным трудом.
– Ишь ты, старичок! – уже не скрывал своего удивления и приязни тойон Суджурум. – Не худо бы знать: сколько такая тонкая шея проносит такую умную голову! Хорошо, хорошо… Посмотрим, посмотрим…
И с тех пор Суджурум-бэсиэлджит всюду брал с собой смышленого мальчугана, поначалу как диковину, потом по привычке и из-за возникшего, казалось бы, ниоткуда чувства чистосердечного опекуна. Он видел, что мальчик всюду заслуживал похвалы за свое трудолюбие и усердие, был бескорыстен и словно бы обладал чем-то, что выше рассудка. Да, в своем краю он оставался бы черным нукером. Но что же может разбудить от спячки их кипчакский народ? Может, вот такие мальчишки, которым становится тесно в рабстве застойной свободы и они выбирают пусть подневольную, но свободу служения большому общему делу? Это понимает только тот, для которого утеря смысла – непоправимая беда, а служба – обретение смысла…
Илдэгис всякий раз с восхищением смотрел на плотные ряды воинов. Ему хотелось встать в строй, раствориться в нем, словно дождевой капле в большом озере, и слиться с этим строем своей судьбой и сутью.
Он еще не знал, что в будущем разобьет войско грузин, станет правителем Аррана, потом важным вельможей – атабеком, опекуном сына султана, а его потомки будут править Западным Ираном.
Он еще ничего этого не знал, а лишь тянулся в строй, чтоб всего-то стать частью целого и настоящим воином.
Было в его сердце нечто, что выше ума, – талант верности долгу, дарованный Тэнгри.
У него был путь.
Перевод с якутского Н. Шипилова
Книга третья
Глава первая
Легенда о Бодончоре
«Миф о примитивном обществе, т. е. в его первичных живых формах, не просто рассказываемая сказка, но проживаемая реальность. Мы находим в нем не только дух изобретения нового, свойственный романам наших дней, но живую реальность, в которую безусловно верят, т. е. верят в то, что она имела место в изначальные времена и продолжала затем оказывать влияние на мир и судьбы людей… Это не те истории, жизнь которых сохранена благодаря суетливому любопытству, изобретательности и правдивости. Напротив, для аборигенов они являются утверждением первичной, более великой и более важной реальности, которая управляет современной жизнью, судьбой и деятельностью человечества, и знание о которой дает людям, с одной стороны, мотивы для ритуальных и моральных актов, а с другой – указания к их исполнению».
Бронислав Малиновский, «Миф в примитивной психологии»(об исследовании на Тробианских островах)
Как жизнь превращается в легенду, а легенда – в историю? Этого никто в точности не знает, да, пожалуй, и знать не может.
Дни бесконечной вереницей следуют за днями и один год неуследимо перетекает в другой, и хотя течение времени порой кажется совершенно монотонным в сезонной своей повторяемости, одномерным, но все вокруг постепенно, не торопясь меняется, просто жизнь не сразу выказывает новое в себе.
Какими долгими казались дни в детстве! Как мучительно долго длилась суровая зима, и казалось, что уж не дождешься благословенной весны. До сих пор не покидают его, уже старого человека, воспоминания о тех страшных испытаниях, что пережил он в год одинокой зимовки на речке Тюнгкэлик…
Но потом, чем старше и умудреннее жизнью становишься, чем больше опыта преткновений о жизненные преграды и невзгоды, тем быстрее мчатся в трудах дни и недели, просто диву даешься. Чем азартнее работаешь, больше собираешь вокруг себя родов и племен, чем шире размах твоих деяний, тем быстрее мчатся месяцы и годы.
И не зря же испокон веку мудрейшие из людей – как правило, пожившие – в обиде были на краткость и мимолетность времени, уподобляя жизнь человеческую мгновению, за которое промелькнет в окне птичка…
Объединение в один прочно связанный Ил еще совсем недавно наставлявших, как глупые бараны, друг на друга рога мелких кочевых племен принесло Бодончору такие многосложные, запутанные задачи и осложнения, о которых он раньше и думать не мог.
Подобно древнему великому тюркскому предводителю, оставившему потомкам надпись на памятном камне: «Стремясь объединить тюркский народ, ни днем не сидел, ни ночью не спал, пролил столько черного пота и крови», – он тоже немало лет трудился, не покладая рук, чтоб слить воедино племена близлежащих степей под одним началом. В конце концов, ему удалось уговорить большинство их объединиться на добровольных началах в один Ил.
– Корень всех наших бед в нашей малочисленности и разбросанности по степям, так что объединим силы, сплотимся вокруг одного могущественного Ила, подобно нашим предкам тюркам, и только тогда враги начнут остерегаться нас, – постоянно твердил Бодончор своим старшим братьям. Борьба всей его жизни, наконец, увенчалась успехом, цель, для достижения которой он пожертвовал едва ли не всем, достигнута. Казалось бы, живи теперь мирно, отдыхай от трудов, благодари судьбу.
Только у многоликой и непредсказуемой жизни испытания и трудности никогда не кончаются, едва решишь одну задачу, как тут же возникают, к великой досаде, две-три новых. Оказывается, чем сильнее, чем грознее для соседей становишься ты, тем могущественнее появляются и враги. И если идти наперекор всем, затевать войну с каждым вызвавшимся соперником, то этим кровопролитным сварам не будет конца. Но ведь всему есть свое время – как войнам, так и миру. Для разумного человека предпочтительней мир, и нормальная жизнь возможна лишь тогда, когда вступишь с могущественными своими врагами в благоразумные мирные переговоры, заведешь с ними обоюдовыгодную торговлю, дружеские, добрососедские отношения, а то даже и родственные. Нет, добром можно сделать куда больше нужного, чем любым оружием.
Если оглянуться назад теперь, когда все уже позади, сколько же бед ему пришлось пережить и сколько других, грозящих, пресечь, сколько сил и здоровья потрачено, чтобы народ свой, родичей сохранить, с наименьшими потерями довести до сегодняшнего дня. Это теперь прошедшее можно вспоминать спокойно, а тогда было немало таких моментов, когда напряжение становилось уже непереносимым, кажется, и через пропасть неминуемой гибели приходилось перебираться по самой тонкой жердочке, убегая, еле-еле избегая ее, конечной беды. И во всем этом явственно чувствовалась невидимая помощь Вышнего Духа, Всемогущего Тэнгри, без нее бы пропали.
Но не дает покоя иная мысль, которая свербит. Почему? Зачем? Ведь у Всевышнего не мы одни, все мы, верующие и не верующие, правые и заблуждающиеся, в его длани…
Но почему он из сонма народов выбрал нас? Зачем? Значит, не зря, но для чего? Что за миссию он хочет возложить на нас? И сможем ли мы осуществить и исполнить Его высшую волю?
Первое время после восседания Бодончора на ханский ковер почти каждый год они голодали, считай, кое-как перебивались, жили скудно и неумело, как-то расхлябанно. Он получил в управляющие руки настолько бедные племена, что люди их не способны были думать ни о чем другом, кроме как не перемерзнуть бы лютой зимой, не умереть от голода, а летом – как бы убежать от испепеляющей жары и бескормицы в горы.
А теперь он дал всем родам и племенам сытую, богатую жизнь, одел многих в разноцветные и тонкие, струящиеся шелка, всю степь от края и до края заполнил стадами и табунами. Как говорится в пословице предков, наделил рабов своих собственными рабами, даже черные работники – чагары – обзавелись своими работниками.
Только мало кто ему за это теперь благодарен. Всем кажется, что это они сами все обрели, всего достигли своим умом и трудом. Но где же вы, спрашивается, были до этого, почему жили подобно бродячим, вечно голодным собакам, поджав хвосты и тощие животы?..
Да, мало кто понимает, что все это достигнуто ценой неимоверных усилий их навсегда забывшего о спокойном сне хана и немногих его ближних сподвижников. Ведь чем дальше развивается, уходит от былой нищеты жизнь, чем она благополучнее становится, тем все больше одолевает людей самомнение, глупое убеждение, будто все это происходит само собой, как воздаяние им за некие их заслуги.
Но что толку огорчаться по поводу того, насколько узок и беден стадный человеческий ум, без конца сетовать на это… Редко кому дается способность проникнуть в первопричины явлений, понять, что, откуда и как начиналось и почему вышло так, а не иначе.
Однако, не лишенный и сам человеческих слабостей, все равно огорчаешься то и дело, начинаешь думать: неужели я столько претерпел, столько выдержал трудов, падая от изнеможения, не знал ни отдыха, ни покоя, терпел порой унижения, света белого не видел – и всё ради вот этих самых тупых тварей, не умеющих отличать добро от зла, заслугу от вреда, правду от лжи? Не любящих и не желающих думать? Но потом и раздумаешь: а их ли это дело? Пусть себе живут, плодятся и богатеют под твоей рукой пастуха, под недремлющим приглядом твоего разума… Да ведь и ты – что ты сам без их численной силы, исполнительных рук, расторопных в мелких делах мозгов, без их готовности к подчинению? Нет, каждому – своё…
А можешь ли ты и сегодня со всей уверенностью сказать, что окончательно обеспечил благоденствие своего народа, устроил для них навсегда крепкую, надежную жизнь? Навряд ли. И не только из-за опасностей впереди, но и потому, что желания людские и чаяния ни на чем надолго не останавливаются, а всё растут, алчут лучшего и большего, жадно завидуя соседу по сурту или государству. И опять вспоминается грустная мудрость поживших, все перевидавших людей: сколько бы ни сделал для человека добра, никогда не дождешься от него вечной благодарности, и человеческую жадность ничем не насытить… Истинный смысл людской неблагодарности Бодончор понял только теперь, почти прожив свой век… Но и это имеет хорошую сторону. Если бы он еще в молодости понял все это, то не стал бы надевать на свою шею столь тяжкое ярмо, оставил бы все как есть и опять пустился с немногими верными в путь, в дальние края, ища места поспокойнее и посытней. Но тогда бы не было и мощного, хорошо обустроенного и богатого Ила…
А ведь даже и старшие братья, которые так просили, умоляли его, столько всевозможных слов говорили, лишь бы убедить его стать ханом, не скажут теперь слова благодарности.
У человека, не умеющего смотреть далеко вперед и предвосхищать события, не прибавится этого дара и с возрастом, богатством, могуществом, границы ума от этого, увы, не расширяются, а скорее уж наоборот, как это видно по братьям. Они уже и забыли, благодаря чьим усилиям, чьей организующей воле появилось у рода их и у них самих все это богатство. Вместо понимания от них можно ожидать лишь укоров, что их заслуги не оценены по достоинству, что не возданы им должные почести, не оплачено сполна их радение…
Ну, а в великом стаде, им пасомом, как во всяком множестве есть все: и неприятие, и понимание. Но даже там, в среде не больно-то думающих, лучше его придворной челяди понимают, что жизнь под крылом большого, крепкого Ила намного надежнее и благополучней, чем в себялюбивом раздроблении.
Если долго сидишь на месте вождя, владыки, то жизнь все больше начинает напоминать панораму степи с высокой вершины каменной горы. Как-то предугадываешь, кто куда сейчас двинется, как поступит и даже – о чем помышляет. Из-за этой благоприобретенной дальнозоркости начинает мниться уже, что можешь увидеть, предугадать будущее на глазок, без старого, хорошо опробованного набора способов разведки и осмысления сложившегося положения, основываясь лишь на витающих вокруг тебя разных придворных слухах и предположениях, доверяя с излишком мнению засидевшихся тоже рядом с тобой мудрецов. Дальнозоркость оборачивается тем, что начинаешь хуже видеть вблизи, вокруг себя, и оттого тут незаметно пристраиваются всякие, которых ты вчера еще и видеть не хотел… Еще одна незамечаемая напасть – стараться делать всё самому. Кажется, что без тебя уже ничего не получится, никто ни с каким делом не управится. Да и люди твои начинают думать так же, привыкают не брать на себя ответственность… Увериться и в этом тоже – вот начало беды.
Такой вождь долго на ханском ковре не просидит. А если и усидит, то принесет своему народу много разочарований и бедствий.
Чтобы не случилось этого, нужно не стремиться руководить всем лично, а отбирать и приближать к себе лучших из твоих людей, умеющих думать о будущем и отыскивать пути к нему. И дать им время и средства, чтобы раскрыть свои возможности, а потом в полной мере использовать их выдающиеся способности, таланты. Только имея под рукой таких верных и умных сподвижников, сможешь управлять всем громоздким обозом Ила, предвидеть события и принимать своевременно меры, чтобы не оплошать перед будущим, не упустишь из виду подлинные угрозы и выигрышные обстоятельства.
К долговременному и прочному бытию народа никогда не дойдешь легкими путями, таковых попросту нет. Такие устойчивые сооружения строятся только в итоге многолетних и тяжелых, на грани возможности, усилий. И ты обязан своих людей, способных мыслить широко и далеко, держать в стороне от тех джасабылов, кто способен проворно решать мелкие, не самые важные жизненные задачи, скорых на подъем и соображение. Ибо они никогда не совпадают ни по образу мышления, ни по характеру, начинают лезть в дела друг друга, оспаривать первенство, враждовать. А дела-то их, по сути, несопоставимы и находятся на разных уровняхгосударственной работы. Те, кто работает на будущее, всегда медлительны и неповоротливы в повседневных мелких заботах, которые играючи решают джасабылы, и потому остаются в проигрыше. Их предназначение – выполнение сложных, далеко идущих по своим целям поручений, задач, порой не имеющих однозначного решения, достигаемых поступенчато, исподволь.
Если сможешь найти взаимопонимание и установить правильные отношения с такими людьми, то они ни перед чем не остановятся ради достижения поставленных тобой перед ними целей, пойдут на любые испытания, ибо они уже считают эти цели и своими тоже. Но ты должен никогда, ни на птичий шажок не нарушать границы и значение личности и должности каждого из них. Даже во гневе, в великом недовольстве не должен принижать их до уровня какого-нибудь мелкого слуги, они к этому очень чувствительны и могут из верных союзников превратиться в тайных врагов. Надо всегда помнить и соблюдать иерархию, никого излишне не возносить перед другими за случайное достижение и не унижать за столь же случайный промах. Трудно, конечно, с должной точностью придерживаться этой заповеди, и сама по себе наисложнейшая задача – верно определить возможности человека. Не существует в мире одного такого мерила, для каждого нужно свое. Особенно важно это при очередном присвоении чинов и назначении на должности; тут уж, стараясь быть крайне осторожным, стремишься решать все лично. И порой приходится все это делать, решать срочно, чтобы не упустить время – в тех же сражениях, например, в горячке боя, назначая вместо убитого темника другого. А сколько порой зависит от одного лишь тумэна…
И какими бы мучительными ни были иной раз такие раздумья, но вопросы, от которых зависит прочность и устойчивость Ила, должны решаться так скрупулезно, чтобы не было допущено никаких ошибок. Ибо слишком дорого они стоят.
Все четверо старших братьев Бодончора, хоть и прожили до преклонных лет, но ума большого так и не нажили, мудрости себе не прибавили – изрядно, впрочем, прибавив в весе, в обширности чрева. Двое старших в молодости имели иссиня черные волосы, а двое других были такими же светловолосыми, как и Бодончор. Но потом, когда все они поседели, стали даже и по внешности совершенно одинаковыми и заходили к нему гуськом, одинаково переваливаясь с боку на бок, как откормленные селезни.
Но никогда, даже в мелочах, они не были согласны друг с другом, постоянно спорили. И Бодончор совершенно не может понять, зачем им нужно так упорно отстаивать свое личное, но мало чем отличающееся от других мнение, как будто это имеет хоть какое-то значение. Может, так выражается их застарелая внутренняя неудовлетворенность из-за того, что им пришлось в крайне трудное время поставить над собой самого младшего? Теперь-то, на всем готовом, каждый из них рад бы взгромоздиться на ханский ковер… Но можно было не опасаться их заговора против него. Даже двое из них не могли бы прийти хоть к какому-то согласию, не то что все четверо. Да это и к лучшему для них же самих. Хотя кто знает, кто может заглянуть поглубже даже и в эти маленькие, заплывшие жиром мозги?..
Любой разумный владыка, сделавший многое для своего народа, хочет услышать в свое время правильное, непредвзятое толкование своих деяний, ждет мудрой и взвешенной оценки их. Но такие трезвые голоса немногих, если они даже и есть, безнадежно тонут в громком гуле пустых славословий, лживых восторгов придворных льстецов и подпевал. Куда ни повернись, ни шагни – везде они подкатятся к тебе с заранее заготовленными угодливыми речениями, обволакивающей лестью, переживаниями. Со временем все чаще замечаешь, что те, кто когда-то действительно были твоей опорой, надежными соратниками, немало сделавшими для общего нынешнего благополучия, постепенно превращаются в вязкое окружение, отгораживающее тебя от твоего народа и отрезающее народ от тебя. И потому никого почти не видишь, кроме них, и никого, кроме них, не слышишь. Под видом заботы о твоей безопасности, твоем ханском величии и шагу не дадут ступить без охраны и без их назойливого сопровождения, отслеживая до малейшего жеста все твои поступки, ловя на лету каждое слово, проникая в твои намерения. Вот и получается, что, по сути, лишаешься права свободного передвижения, попадаешь в своеобразную, сопровождающую тебя повсюду, тюрьму…
Охраняя твой покой якобы для высших государственных раздумий, для решения судьбоносных задач, они решают за тебя, с кем тебе встречаться и беседовать, а кого не допускать, они даже определяют тему разговора, разрешая просителю говорить одно и запрещая другое, особенно же не любя независимых, смелых и думающих. И в результате ничего, кроме того, что хотят преподнести они, ты не знаешь и не слышишь; и если бы ты даже и захотел думать по-другому, то как разглядишь то, что тебе не дали увидеть, и угадать то, что не дали услышать, понять? Тем самым ты, не замечая того за собой, позволяешь им как угодно управлять твоими мыслями, выполняешь их волю, идешь у них на поводу, как взнузданный конь…
И сколько уже владык из века в век попадало в такое положение, в придворное непробиваемое окружение, как в тюрьму, ими же самими для себя созданную… Но разве что единицы из них, подобно Бодончору, сумели вовремя понять это и вырвались из страшного, губительного для государственного дела кольца, разорвали его. Да и впредь, похоже, большинству властителей в мире не избежать этого превращения в домашних, дворцовых узников, игрушку своих приближенных, каковой те будут вертеть как им угодно.
И тяжело думать, что судьба целых народов зависит чаще всего от доброго ли, дурного ли нрава и ума единственного человека, ставшего правителем… Можно ли при этом ожидать, что когда-нибудь наступят добрые для всех времена? Нет, конечно. Видно, так задумано все это Великим Тэнгри, и с ним не поспоришь. Можно только кое-где, в отдельных владениях смягчить это разумным управлением, не более того.
Что и говорить, много огорчительного в жизни на этой срединной земле. Есть только одна бессловесная наука для всех до одного глупых народов – страдания, да и их действие недлительное, иначе бы не повторялись бессчетно. Мало чему учится человек, причем доброму не чаще, чем злому. Видя то, обо что спотыкался семяжды семь раз, все равно пытается бездумно, наудачу перешагнуть… Видимо, короткая память людей – проклятие Демона дурной стороны неба. Нечего и спрашивать, будет ли все это вечно повторяться, наслаиваясь и умножая зло, в несчастное наследство переходя от поколения к поколению, из рода в род…
– И разве может быль о моей жизни, о моих блужданиях, поисках и обретениях, мои мысли, к которым пришел ценою огромных страданий и усилий, превратиться в правдивое предание и сохраниться во благо наследующих нам, послужить добрым примером какому-нибудь далекому потомку, мудрому вождю… Кто знает?.. Кто знает…
Так, говорят, стенал в конце своей земной беспокойной жизни великий и мудрый Бодончор.
Глава вторая
Межвременье, или В преддверии нового года
«Из главы «Забота о государстве»:
У-цзы сказал: – Причин, по которым начинается война, – пять. Первая – борьба из-за честолюбия, вторая – борьба из-за выгод, третья – накопление вражды, четвертая – внутренние беспорядки, пятая – голод.
Названий войны также пять. Первое – война справедливая, второе – война захватническая, третье – война личная, четвертое – война насилия, пятое – война против самих себя.
Когда пресекают насилия и спасают свою страну от беспорядков – это война справедливая. Когда нападают, полагаясь на многочисленность своей армии, – это война захватническая. Когда поднимают войско из-за своего гнева – это война личная. Когда отбрасывают всякую законность и гонятся за одной выгодой – это война насилия. Когда поднимают всю страну и двигают многочисленную армию, в то время как в стране беспорядки и люди изнемогают, – это война против самих себя.
Для прекращения каждой из этих пяти войн имеются свои пути. Справедливая война непременно прекращается законностью; захватническая война непременно прекращается смирением; личная война непременно предупреждается искусной речью; война насилия непременно преодолевается обманом; война против самих себя непременно преодолевается искусной тактикой».
У-цзы, «Трактат о военном искусстве» (IV в. до н. э.). Из книги Н.И. Конрада «Избранные труды» (ХХ в.)
Год белого мерина, а если быть точным, то год 1210 от Рождества Христова, промелькнул быстроногим скакуном в бесконечных тревогах и хлопотах.
Как всегда в канун нового года – года хой, или иначе, года овцы, – Чингисхан собрал в Ставке старейшин и военачальников на совет. Но разве могли они сами выбирать и решать, что им делать в предстоящем году? Верховный властелин хоть и находился до сих пор в неподвижности, но глаза его цепко следили за всеми и каждым, заставляя смелых робеть, а горделивых вытягиваться в струнку. Сама судьба на этот раз срывала с их языков хвалу небесам, которые давали Великому Хану силы после его тяжёлого недуга, и самому Вождю, при котором только можно было жить так свободно и счастливо под этими небесами.
Приближённым хана действительно было грех жаловаться на жизнь. С той поры, как нашли управу на давних, но излишне возомнивших о своем значении, союзников тангутов, степь вновь была под контролем. Шли новые подати. Из глубинок Алтанского улуса дни и ночи напролёт тянулись к окраинам пустыни Северного Хобо (Гоби) караваны верблюдов и лошадей, навьюченные провизией и товаром.
При этом у собравшихся в Ставке на совет воителей и мудрецов не было прежней уверенности, когда они вмешивались в малейшие волнения в степи, зная, что, не прилагая сил, одним тумэном могут, что называется, нащёлкать по носу любому «расшалившемуся» народу. Теперь особенно настороженно приходилось оглядываться на джирдженов, которые могли собрать и обеспечить довольствием войско несметное: они имели множество родственных племён и народов. Поэтому даже в самых отдалённых районах монголы проводили массовый призыв в войска всех боеспособных мужчин.
Обездвиженный Чингисхан всё видел и примечал: истинное обожание в глазах одних и корыстную лесть в устах других, пустомельство третьих и молчаливое многоречие четвертых. Но более всего его волновало то, что джирджены на протяжении Великой стены, тянущейся вдоль окраин пустыни Хобо, сосредоточили крупные военные силы, навезли провизии.
Теперь они могли напасть на монголов одновременно с разных сторон совершенно самостоятельными частями. Тогда без того малочисленному монгольскому войску придется ещё более раздробиться, превратившись в крупинки военных соединений, которые джирджены в каждом отдельном случае легко подавят численным превосходством.
Чингисхан еще не заговорил, когда стал услышан. Тойоны враз словно проглотили свои восхваления и перешли к делу. Было ясно, что выжидать для монголов проигрышно во всех отношениях. Требовалось опередить события, ударить первыми, как делали они чуть ли не всегда. Но разница заключалась в том, что крупные войска найманов или тангутов превышали таковые монголов численностью в два, в три раза, а на этот раз предстояло сразиться с противником, в десятки раз превосходящим числом! Но когда народу, имеющему характер, грозит истребление, то путь остается один: смерть или победа.
Промедление было хуже смерти, ибо тогда их ждало еще и бесславие. Алтан-Хан найдет общий язык с кара-китаями и Мухаммет-Султаном, что нападут с запада. Объединенное войско покроет степь, как песок в суховей. Монголы должны были напасть первыми, пустив впереди себя слух, будто Мухаммет-Султан хочет подмять под себя Алтан-Хана, а вместе они считают себя выше кара-китаев, которым, в свою очередь, и знаться-то с первыми зазорно.
Чингисхан также понял, что ему не избежать встречи с Алтан-Ханом, которой, до сей поры, удавалось избежать. Наступал решительный миг, когда «степь» должна была потягаться силами со всем иным миром.
Вот уже более десяти лет великий тойон Джэлмэ, отвечавший за отношения с внешними странами, вёл тайную слежку за Алтанским улусом.
За это время монгольские лазутчики пустили глубокие корни в китайскую землю: они сумели распространиться повсюду и проникнуть в самые разные слои населения, а также в средние звенья руководства.
Большинство из них – торговцы или люди, близкие к торговым кругам, вхожие в знатные семьи, умеющие провернуть разные сделки на всех уровнях.
В любой стране, даже при жестоком деспотическом режиме, торговец всегда пользуется определёнными льготами, ему предоставлено больше свободы, чем другим, к нему бережнее относятся власти. С торговцами нельзя поступать вероломно, ибо они люди, широко известные в народе: всё, что с ними происходит, быстро становится достоянием общественности, но главное – может отразиться на обороте денежных потоков. А какому правителю хочется остаться с пустой казной и тощим карманом?
Купец разъезжал повсюду, его караваны добирались до самых отдалённых уголков, следовательно, многое в мире знал и видел. Он был не только торговцем, но и вестником, носителем всего нового, законодателем моды. Поэтому прибытие купца для любого стана, улуса или городища становилось событием, собирало множество народа со всей округи, перерастало в празднество.
Джирджены от роду были людьми прямыми, бесхитростными. Им самим бы и в голову не пришло извлечь из разъезжающих по их земле купцов какую-нибудь иную выгоду, кроме купли и продажи товаров. Но китайские мудрецы надоумили простодушных властителей работящего и воинственного народа, чтобы те приблизили к себе крупных купцов, превратив их в осведомителей.
Встревоженные и напуганные подобными предложениями, купцы сразу же послали людей к Джэлмэ. Мудрый Джэлмэ, после недолгих раздумий, пришёл к простому решению: он разрешил всем купцам дать согласие джирдженам работать на них. Но как работать – другое дело.
После этого купцы из монголов или примкнувших к ним народов стали своими людьми в землях джирдженов, перед ними открылись все дороги. Им даже разрешили торговать за Великой стеной, углубляться в пределы Китая. Многие военачальники и даже правители округов постепенно оказались их приятелями.
Купец Игидэй, некогда росший вместе с Тэмучином, совершенно обжился среди найманов. Торговал он в основном скотом. Это было хлопотное дело, требующее больших разъездов. Перегнать стада баранов, табуны лошадей или караваны верблюдов, чтобы те не потеряли в численности, а по пути нагуляли вес, что называется, не мёд хлебать. Нужен постоянный надзор и ещё раз надзор не только за животными, но и за целым сюняем пастухов, надсмотрщиков, лекарей, торговцев и прочего работного люда.
Игидэй всегда завидовал Сархаю, продающему оружие, или Махмуду, торгующему китайским шёлком. Им был не страшен мор животных или падёж. Они могли остановиться, отложить дела в распутицу или иное межвременье, переждать, отдохнуть. А скот и на день не оставишь без присмотра, не запрёшь на замок. Ему нужен корм с утра до вечера, а для этого требуются всё новые и новые пастбища, вечные сборы, короткие стоянки и нескончаемый путь.
Слава Всевышнему Тэнгри: как только найманы примкнули к монголам, можно было не бояться воров или вождей мелких племён, так любивших прежде промышлять разбоем на дороге. Уводили целые стада! Так что в качестве охраны купцу приходилось содержать вооружённых и обученных воинов.
Раньше у найманов воровство было делом обычным: отобьется от стада животное – не стоит даже искать! Кто первым увидел, тот себе и присваивал, будь это овца или верблюд. И каждый военачальник или вождь в пути обкладывал купца данью, какой ему вздумается. А если кто-то осмеливался им противоречить, противостоять, такого смельчака могли пустить по миру, отобрав всё. Или просто убить вместе со всеми сопровождающими людьми.
Теперь же всё изменилось. Купцы старались вести караваны по тем путям, где располагались части монгольского войска. Здесь, во всех округах, царил железный порядок. Еще бы: по законам Великого Джасака воровство и разбой карались нещадно – так что человек с отрубленной по локоть рукой или переломанным хребтом не вызывал в Степи никакого сочувствия. Все знали цену его увечья.
Торговля стала процветать. Купцы платили разумную дань и водили караваны в полной уверенности, что не потеряют и малой толики своего имущества, если, конечно, не прогневят Господа, и тот не нашлет на них силы небесные.
Монгольские тойоны-юрджи были не только заложниками порядка. В пору, когда добыча от охоты становилась скудной, они покупали немало скота, причём расплачивались сразу же: так у них было заведено.
Прослышав, что постаревший, подуставший от бесконечных разъездов и начавший прибаливать Игидэй надумал отойти от дел, хан пригласил его к себе.
Игидэю доводилось бывать в ставках великих ханов и во дворцах императоров. И везде его поражали благолепие и роскошь царских покоев, среди которых мал казался он себе и ничтожен со всем его накопленным за жизнь добром. Песчинка в пустыне. И также всякий раз Игидэя изумлял непритязательностью сурт владыки Степи, повелителя народов Чингисхана. И, как ни странно, скромность утвари и строгость убранств Далай хана заставляла трепетать больше, нежели любое богатство.
На этот раз хан пригласил друга к себе в небольшой походный полотняный сурт.
Поинтересовавшись по обычаю житьем-бытьем, хан изучающе оглядел круглое одутловатое лицо друга детства, его расплывшееся, дряблое тело. Как человек, осведомленный о его намерении отойти от дел по причине болезни, спросил прямо:
– Что, Игидэй, решил осесть? Не рановато ли опускать руки?
– А что делать? Мочи нет! Дальние дороги уже не по силам стали, ослаб, одряхлел, понял, что пришла пора…
– А чем займешься?
– Если выделите землицы, вернулся бы на родину, на берега родимой Селенги, где прошло детство, держал бы кое-какой скот по силам, не замахиваясь на большое дело. Пожил бы свободно, сколько еще отпустит Бог…
– Как хорошо! – вырвалось у хана.
Игидэю показалось, что в облике этого великого человека на какое-то мгновение проглянул образ того впечатлительного мальчика, которого когда-то знал он: далекие, тоскующие огоньки пастушьих костров вспыхнули в его глазах.
– Бывает, что и мне кажется, будто и я рано или поздно вернусь к такой вольной жизни… Видимо, это зов крови.
– Странно из ваших уст слышать о вольной жизни. Вы Далай хан, и нет в мире человека, который был бы более волен, нежели вы.
– Властелин никогда не принадлежит себе, иначе он перестаёт быть властелином.
– Так, может, вместе всё бросим: я свой караван и торговлю, а вы – всю созданную великую империю, и отправимся в пастухи?! – со смехом воскликнул Игидэй.
– Как было бы хорошо! – неожиданно по-молодецки потянулся, раскинув руки, Великий хан. – Выйти ранним утром в степь, наполненную гомоном ранних птиц и тварей всяких, напоенную прозрачным свежайшим воздухом… Хотя бы несколько дней пожить так, никуда не спеша, ни о чем не задумываясь… свободно…
– И это говорит повелитель вселенной, единственного движения руки которого достаточно, чтобы одни народы были стерты с лица земли, а другие возвели новый Ил! Никогда бы не поверил, если бы не слышал своими ушами!.
– А ты сможешь подыскать того, кто займет мое место? – то ли в шутку, то ли всерьез спросил хан.
Игидэй почувствовал, как захолодало в коленках.
– Что вы?! Это совсем другое дело… От того, что один купец решил отойти от дел, сойти с дороги, поступь жизни нисколько не замедлит ход, ни на миг не остановится. Его нишу тут же освоят и займут другие. А если Далай хан сойдет с большого, проторенного им пути, Степь вновь захлебнётся в крови.