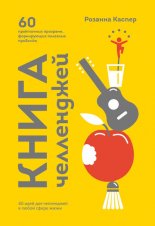По велению Чингисхана Лугинов Николай

Восемнадцать лет я восседаю на троне султанов. И все эти годы вёл войны, чем и расширил свои владения до самого Жёлтого моря. На собственном опыте познал я все тяготы и лишения войны. Потому и смею надеяться, что немного стал понимать истоки и причины побед и поражений. Поэтому мне со стороны особенно очевидны заслуги таких выдающихся воинов, как ты, перед правителями их держав. Сегодня у меня немало способных и опытных военачальников. Но признаюсь откровенно: нет среди них ни одного, который хоть немного подобен тебе, ни одного, равного тебе. Нет никого, кроме тебя, кому бы я безоговорочно и полностью доверил бы своё воинство и отправил бы его на войну.
Поэтому обращаюсь к тебе с предложением встать рядом со мной у моего трона. Если ты согласишься стать боевым главой моего основного войска, это поможет всему срединному миру. Жизнь в нём расшатывается и раскачивается, над ней нависла угроза распада. А под твоим воинским началом она обрела бы опору и твердь.
Если же не примешь это предложение, то прошу тебя хотя бы находиться рядом со мной, помогать мне своими мудрыми советами преодолевать трудности и преграды, а самому провести старость в спокойствии, почёте, холе и неге…»
Вот такое послание было зачитано гонцом от Хорезм-шаха в шатре Кехсэя-Сабараха.
Именно такое… Много лестного приходилось Кехсэю выслушивать о себе за немалый век, но тут он почесал затылок с чувством недоверия.
Во-первых, возможно ли такое – ставить во главе войска иноземца, которого никогда в глаза не видел, пусть он и трижды прославлен? Или эти слова – лишь выспренняя лесть, а за ними стоит некий иной умысел? И с чего вдруг правитель столь великой державы, могущественный и несравненный в своей силе, поистине Сын Неба, как величают китайцы своих императоров, – с чего он вдруг тает, как воск, всего лишь перед бывшим военачальником, пусть и впрямь незаурядным?
И уж совсем не может понять Сабарах, почему в послании нет даже упоминания о кара-китаях и монголах? В чём тут причина?
Быть может, султан хочет через меня перетянуть на свою сторону Кучулука? Иначе зачем бы посланца отправлять именно ко мне?..
Но… Срединный мир скоро может и впрямь рухнуть. Даже здесь, вдалеке от главных водоворотов мирового бытия, в местах, куда не доходят большие пути, чувствуется – вскоре разразится невиданная гроза! Не может и не должен он, Кехсэй-Сабарах, оказаться в стороне от неё. А потому, каковы бы ни были причины, заставившие султана Мухаммета написать такое послание, он, воитель волею Божией, воин по судьбе, ответит Хорезм-шаху так:
«Величайший владыка самого сердца вселенной султан Мухаммет! Я, Кехсэй-Сабарах, бывший найманский полководец, понял Ваши милостивые слова и приял душой Ваши мудрые мысли! Сладостно взволновали моё сердце Ваши похвалы. Они заставили меня поверить в ту истину, что подлинно мудрый человек видит всё на немыслимо дальнем расстоянии.
С тех пор, как на востоке поднялись монголы Тэмучина, жизнь в срединном мире лишается своих основ и становится подобна взбаламученному пыльной бурей озеру. Поэтому я думаю, что все добрые силы на землях, еще не затронутых монголами, должны быть собраны воедино, а не сражаться с бедствием поодиночке. И только Вы, единственно Вы, султан Мухаммет, можете объединить их. В этом я готов помогать Вам, насколько хватит моих сил. Прибуду тогда и туда, где и когда скажете».
Через несколько дней после этого Кехсэй был приглашён на летний съезд вождей всех племён, обитавших по многочисленным, похожим на ячеистый коровий рубец, предгорьям Памира.
Собрались верхи почти всех здешних племён и народов. Хоть и царила во всём у них разноголосица, и не было никакого дружества меж ними, но одно их всё-таки объединяло. Это – то, что в свое время каждый из вождей и мелких ханов взбунтовался против повелителя своей державы и увёл сородичей из-под его власти. И укрылся здесь, где его не могли достать гнев и наказание его бывшего повелителя…
А потому до сей поры они превыше всего ценили свою вольную волю. И никогда – ни за какие посулы! – с ней расставаться не хотели. Не верили никому, в любом добром слове со стороны видели тайное желание посягнуть на их свободу, всех подозревали в стремлении вновь покорить и лишить их вольной жизни. До прошлого года никто из них не отзывался на приглашения прибыть на курултай. Но на сей раз вышло иначе: видно, как струи сильного дождя даже в самые заповедно – потайные птичьи гнёзда, в их укромные обиталища протекли слухи о тревожных событиях, происходящих там, внизу, в Степи…
Коротка же человеческая память! Ещё не начались потрясения, ещё только-только надвигаются перемены, а вожди, ханы эти мелкие, уже забыли то, что говорили вчера, и сегодня утверждают обратное… Ведь ещё недавно несчастный Кучулук носился от одного из них к другому, уговаривал-увещевал, чуть ли не унижался: мол, надо объединяться перед лицом общей опасности, необходимо создать единое войско – но какое там! Его и слушать они не хотели. Одни, сами в положении изгнанников оказавшись, его отталкивали как чужака, как пришлого, себя считая хозяевами положения. Другие же, напротив, числили себя в ничтожных и ничего не решающих, но тоже не желали прислушиваться к разумным словам высокородного юноши… Однако вот только-только пришла удача к Кучулуку, стал он владыкой, сегуном – и те же самые людишки уже примазываются к нему, на все лады стремятся угодить не только ему, но и его приближённым. Стыд берёт, когда смотришь на это со стороны! Так размышлял Кехсэй-Сабарах.
Ему пришлось на этом курултае подавлять вскипавшие в нём гнев и ярость, он старался говорить с собравшимися миролюбиво. Ведь как бы там ни было, к нему в руки сам падал плод, которым он давно хотел овладеть, но который казался недосягаемым. Все без исключения собравшиеся предводители племён и родов решили создать единое войско!
– Как же это вам удалось, Кехсэй-тойон?! – в восторге удивлялись его соратники, – Столько лет бились-бились, ничего ни у кого не получалось, а тут, на курултае, вмиг всё решилось!
– Да разве ж я тут решал? – грустно усмехался старый воин. – Решил всё страх перед монголами… Вот так и всегда, шевелиться начинают лишь когда припрёт, потому-то и остаются их племена почти что дикими – да и как иначе, если всё время в изгнании, если в диких чащобах приходится жить. Объединись они раньше, как то подобает людям в нужде и в беде, всё давно по-доброму пошло бы… Но и то ладно, и на том спасибо. Создадим такое войско – станем крепкой опорой нашему Кучулуку.
– Ещё бы! Верно!
…И тут же Кехсэй вновь вошёл в русло привычных для него дел, у него начались бесконечные хлопоты по созданию нового войска. Те же вожди, которые напоказ желали отдать как можно большее число воинов, навязывали ему никудышных людей, а то и просто всякий сброд, который не только что в дальний поход – за соседнюю гору и то не пошлёшь. Вот и приходилось Кехсэю производить строжайший отбор…
Хлопот у него стало – невпроворот. Обучать столь разномастное людское множество, собранное с бору по сосенке, учить новобранцев ратному делу, воспитывать в них умение повиноваться приказу, выполнять его всем одновременно и слаженно – ох какая нелёгкая задача! Едва ли не главной помехой тут стало непонимание меж людьми разных племён, вдобавок такими, что никогда и в строю-то не стояли. Сколько тут несуразицы: каждый по-своему любое слово повеления понимает. Приходится составлять подразделения из воинов одного и того же рода, племени либо селения… Однако такое войско, как ни бейся, единым и несокрушимым не станет.
«Ладно, выбирать всё равно не из чего. Как говорится, чем богаты, тем и будем рады», – мысленно говорил себе Кехсэй-Сабарах. А в походе, думалось ему, все неувязки сами собой увяжутся, все углы понемногу сотрутся…
Глава четырнадцатая
Жизнь после Боорчу
«Из предметов снаряжения каждый воин обязан был иметь при себе: пилку для острения стрел, шило, иголки, нитки, глиняный сосуд для варки пищи (хотя при нужде мясо елось и в сыром виде) и кожаную баклагу («бортохо») вместимостью около двух литров для запаса кумыса, молока или воды. В двух небольших седельных сумках («далинг») возился неприкосновенный запас пищевых продуктов и запасная смена белья. Неприкосновенный запас состоял из монгольских консервов – сушеного мяса и сушеного молока, которые употребляются и до сего времени».
Всю Монгольскую Державу облетела страшная весть о гибели Боорчу и о тяжкой ране Сюбетея. Весь Ил шептался: Сюбетей еле дышит…
– О, иначе и не могло быть! Разве эта Чаган-Хэрэм, эта Белая Стена открыла бы свои врата, не взяв кровавую дань?! – так истолковывали жуткое известие старые мудрецы, так вещали почтенные седобородые учёные люди. – Разве может столь великая держава исчезнуть с лица земли без великой жертвы со стороны её врагов?!
Однако суровые военачальники, люди воли и дела, не склонные верить в разные знамения и приметы, привыкшие опираться лишь на собственный опыт, на то, что сами видели и испытали, слышали и перенесли, такие толкования не воспринимали:
– Это они с жиру бесятся, от безделья мелют всякую заумь. Нечего молоть пустяки! Ведь в каких мы только битвах ни бывали, каких только стран ни покоряли – всё одно, без крови не обходится ничего… А Боорчу сам подставил себя под стрелу, собой пожертвовал, спасая своих «чёрных». Пешее войско своё хотел уберечь, вот и…
– И сколь же много людей он спас ценой своей жизни?
– В его войске было восемь мэгэнов. Четыре мэгэна он вывел целыми из сражения.
– Ничего себе! Каков молодец! Вот настоящий военачальник: столько людей сохранить в таком кровопролитном бою!
Мухулай грозно крякнул, давая понять, что такие разговоры ему не по нраву, и окружающие тут же смолкли. А он молвил:
– Что толковать о том, чего не ведаете?! Ведь ничего не соображаете в делах войны! Боорчу… да Боорчу… Да разве четыре мэгэна пехоты – это много в сравнении с ним? Да он, Боорчу, один десяти мэгэнов стоил! Неужели не ясно вам, что гибель такого воителя может пошатнуть судьбу всего Ила, в котором сотни племён и родов? Эх, нет больше Боорчу… не стало у нас Боорчу нашего славного! Такая брешь пробита в нашем едином цельном строю… Теперь мы – что тигр со сломанными клыками. А если случится самое худое, если и великого Сюбетея не станет, что тогда? Разве есть у нас люди, могущие занять их место, восполнить эту брешь? Нет таких! Нет…
Ставка хана была устроена на берегу обширного озера, в которое впадали четыре реки.
…После того, как из крепости вышли примерно пять тумэнов пехоты и восемь конных мэгэнов, перед самой крепостью нежданно возник тумэн под водительством Джэбэ, обойдя стороной китайские войска. Защитники крепости, опешив и заметавшись от этой внезапной лавины, не успели даже закрыть ворота – и монгольский могучий отряд успел ворваться в крепость и заблокировать их.
Чёрная весть о падении крепости Чапчыйал обрушилась на китайские войска подобно грому с ясного неба. Не зная, что делать и куда кинуться, они несколько дней стояли там, где эта весть их застигла. А монголы, носившиеся вокруг них, отсекли от их войска отборную конницу джирдженов и заставили её целый день напролёт гоняться за ними. Вконец измотав джирдженьских лошадей, они начали прицельный обстрел и расстреляли большинство конников врага, оставшихся просто изрубили. Почему-то монголы не стали в этот раз брать никого в плен и не вынуждали сдаваться. Да и джирджены, чьё упрямство вошло в поговорки, пытались сопротивляться и рубились отчаянно. Но этот противник оказался им не по зубам. Их сопротивление оказалось бесполезным, и почти все они были истреблены, не нанеся монголам никакого ощутимого вреда…
И всё это кровопролитие совершалось на глазах у пешего войска, состоявшего из китайцев – словно бы показательная казнь для них устраивалась. И она их действительно устрашила, ледяным холодом влилась в их кровь! Уж если конница такого могучего народа, как джирджены, терпит столь сокрушительное поражение, то разве могут сопротивляться они, простые люди, ставшие пешими воинами? – так думалось оцепеневшим от ужаса китайцам.
И всё же они заняли круговую оборону, став в десять рядов с поднятыми копьями. Монголы же и не думали налетать на них – они их просто расстреливали из луков с дальнего расстояния. Но самыми ужасными для воинов были мгновения, когда кого-то из китайцев монголы вытаскивали из плотного строя и волокли на аркане…
Долго ли может в таком аду, да ещё и в безводной степи, продержаться войско, даже немалое? Китайцы упорствовали дней семь, а потом были вынуждены сдаться на милость победителя
В ставке тойоны совещались: что делать с пленными?
– Столько их в наших руках теперь! Подумаем, как использовать, к какому делу их приставить, – обратился к собравшимся Мухулай, главенствовавший на совете.
– Можно их использовать по хозяйству, как прислужников, как чёрных работников. И в уходе за скотом пригодятся… Надо их разделить меж нашими, которые в тылу, в степи остались…
– А из самых крепких стоит «чёрное» войско собрать, чтобы оно нам щитом послужило, когда в битве такая надобность возникнет…
– Ладно. У кого ещё есть какие-то мысли на сей счёт? – вопрошал Мухулай.
– У меня предложение очень простое, – раздался голос молодого тойона, который едва ли не впервые оказался на совете, – в плен мы этих китайцев слишком много взяли. Нам столько без надобности. Надо поубавить: для того или иного дела отобрать лучших, крепких и выносливых, а прочих, мелочь всякую, полудохлых и слабых – их надо просто перебить!
– Ничего себе! Пленных? Паренёк, да ты думаешь, что говоришь?! Да кто ж после этого будет в плен нам сдаваться? Разве что дураки вроде тебя! – прикрикнул на юнца старик Соргон-Сура.
– Не надо на молодёжь накидываться! Пусть привыкают к тому, что мнение своё мы все высказываем откровенно. А если их с младых лет одёргивать, то кто ж из них вырастет? – заступился за своего питомца седовласый Аргас. – У нас всегда должен быть открытый и откровенный разговор, без осторожничанья и умолчаний. Иначе – лукавство будет…
– Ну, знаешь, не всё, что у тебя на уме, должно быть у тебя и на языке: таких болтунов разумными людьми не считают! – с ехидством ответил Соргон-Сура своему почтенному сверстнику.
– Да не суй ты мне в зад колючки языком своим! – привычно отшутился старик Аргас. – Знаю я тебя, целый век с тобой маюсь… Намекаешь, что я своих молодцов не научил мыслить правильно? Но ещё никто не выпадал из чрева матери в траву равным тебе, о мудрейший! Таким, как ты, способным говорить лишь безошибочные вещи, которые вышестоящим людям всегда по душе… Нет, дорогой мой, молодых надо долго учить, а уж чтоб настоящего тойона выпестовать, который судьбами людскими распоряжается – тут много лет и сил надобно. Это тебе не кумыс готовить…
– Ох, старики! Как сойдутся, так и начнут бодаться – ровно бычки норовистые! – воскликнул в сердцах Мухулай, но тут же строгим голосом направил разговор в деловое русло, потому что люди на совете, устав от прений, уже начали подзуживать двух спорящих стариков. – Не отвлекайтесь, мы собрались, чтоб важное дело решить. Вот и надо каждого выслушать, кто бы что ни говорил, и выбрать из многих мнений самое верное… Вот мы и выслушали этого молодого человека, и спасибо ему. Но то, что он предложил, большинству из нас не по нраву, ибо нам надо о будущем думать. Если второпях что-то решим, завтра это худом обернётся.
– Главное! Мы должны твёрдо постановить, что пленных не убиваем, что слову нашему верны. Иначе грязь падёт на доброе имя монголов. Такая грязь, что потом не отмоешься, – жёстко молвил предводитель главного войска Най. Молвил – словно гвоздь вбил.
– Я хочу своё слово сказать, – поднялся, прежде скрытый многими сидящими, Верховный судья Сиги Кутук. Все повернулись к нему: этот обычно молчаливый, не по годам рассудительный человек никогда не высказывался попусту.
– Всему своё время… Вот тут кумыс помянули, а ведь можно и кумыс водой разбавить. Но осторожно, на вкус всё время пробуя. Чуть перебрал воды – пресное питьё будет, безвкусное… Нас, монголов, мало, поэтому правильно делаем, что зовём к себе другие народы и племена. Но – меру в этом знать надо. Китайцев – тьма! И следует остерегаться, чтоб они наши ряды водянистыми не сделали…
– Вот это мудрые слова! – послышалось из уст сегуна Хубилая. – Я тоже полагаю так: достаточно тех мэгэнов, которые спас Боорчу, пожертвовав собой… Мы должны обратиться к ним с нашим твёрдым и горячим словом – с таким, чтоб оно их до пяток прожгло! И лучших из них введём в ряды нашей конницы.
– А с остальными мэгэнами что делать будем?
– А раздать их же запасы чарпы да отпустить на волю. Пусть по всему Китайскому илу добрые вести о нас пойдут!
– Но жалко же такую тьму людей отпускать, они нам в чёрных работах ох как пригодились бы! – воскликнул кто-то.
– Не точи зуб на то, чего на вкус не ведаешь, – повернулся к сказавшему это Хубилай. – Просто сказать: пригодились бы. А как прокормить столько мэгэнов? Сами же они себе пропитания не добудут: ведь ханьцы не охотятся, как мы. А от нашей пищи, непривычной для них, быстро ослабнут, бесполезными нам станут.
– Верно, да к тому же зачем нам столько пеших, ползающих по степи не быстрее вшей?
– И впрямь… Сколько они в день проходят?
– Самое большее – двадцать пять ли, это всего лишь четверть того, что конные медленной трусцой проедут…
– Да, неспешное войско, однако. А ведь вооружить да одеть столько мэгэнов – разоримся!
– А кормёжка? Сколько же риса им в день нужно…
– Да и не один бык понадобится, чтобы все это тащить.
– Нет уж, лучше их отпустить с миром да с припасами, как Хубилай предложил, – так постановили тойоны.
Однако сдавшиеся тумэны китайцев отпустили на волю лишь после того, как войска вошли в китайские владения, отгороженные от остального мира Великой Чаган Хэрэм – Китайской Стеной.
Поначалу освобожденные несказанно обрадовалась своему спасению. Но потом пришли в себя, задумались… И чем дольше они думали, тем сильней впадали в уныние. Оказалось, что теперь перед ними – не просто свобода, но и нежданная нужда, и такие заботы, что за голову схватишься. Теперь им предстояло проститься с прежней воинской жизнью, пусть и очень тяжкой и смертельно опасной. Предстояло начинать новую жизнь, совершенно неведомую.
Ибо ещё в дальней старине у них повелось: любой воин, сдавшийся в плен, побывавший в плену, становится рабом в державе Алтан-Хана. И потому никому из воинов этих освобождённых мэгэнов нечего было и думать о возвращении к своим: и семьи их, и даже дальние родичи тоже стали бы рабами. Всем освобождённым пленным предстояло стать беглыми людьми, укрываться от возмездия…
И многие стали проситься назад в ряды монгольского воинства, но не брали почти никого.
Тех же, кого отбирали в «чёрное» войско, и сравнить нельзя было с основной частью освобождённых ханьцев. Эти принадлежали к племенам и родам, которые сами стремились под власть монголов, ещё даже в ту давнюю пору, когда Алтан-Хан являлся полновластным властелином этой земли. Многие даже сами с немалыми трудностями преодолевали Великую Стену, хоть и были людьми незнатными, без роду-племени кочевниками…
Из запасов и закромов крепости Чапчыйал этим новобранцам раздали деньги и ценности для приобретения оружия, снаряжения и съестного. Решили не разделять их для отправки в разные войска, а создать из них, придав им более опытных воинов, отдельный тумэн. Военачальником этой «чёрной» части по обычаю наследования должности был назначен сын Боорчу.
Советником к нему приставили старика Соргон-Сура. А семьдесят воспитанников его сверстника Аргаса временно поставили на. должности сюняев, правда, каждому дав чин всего лишь арбаная, десятского.
Никого не удивила весть о присвоении найману Чулбу чина тойона-мэгэнэя, тысяцкого, уже давно он выказал своё умение начальствовать над передовым мэгэном, мэгэном-алгымчы, который всегда первым должен идти в бой. И то, что столь высокий чин присвоен не-монголу, найману, явилось знаком полного доверия к нему. Так что Чулбу не зря пребывал в прекрасном состоянии духа: его назначили предводителем вспомогательного войска.
Ещё бы! Ведь без такого войска и реку не переплывёшь, и горный перевал не преодолеешь, и крепость не сокрушишь. Его подмога требуется в самые сложные и трудные часы войны, вот почему так много значит это войско.
А в советники Чулбу дали старого Джаргытая, достойного отца доблестного Сюбетея.
…Многие высокие должности в монгольской системе управления занимают образованные китайцы. Кроме того, из десятков других родов, народов и племён происходили многие искуснейшие кузнецы, мастера-оружейники и другие знатоки тонких ремёсел, создававшие и приводившие в действие поистине волшебные орудия войны и труда. Этим людям тоже были нужны толмачи, переводчики.
Едва прибыв сюда, Чулбу впервые увидал эти диковины, созданные пытливым человеческим умом и, без преувеличения, золотыми руками. Он был потрясён! Чего здесь только не было, и все поражало воображение… К примеру, орудия, которые можно было сравнить со сказочным Улу Джалы, Великим Драконом; они изрыгали из себя огонь. Другие – метали тяжеленные камни. Были тараны, пробивающие прочнейшие стены крепостей. И едва ли не самое жуткое – взрывчатая крупа! Крупный порошок, порох, от действия коего становились обломками могучие башни!..
От него, от Чулбу, не требуется во все эти тонкости вникать и тем более – уметь обращаться с этими диковинами. Но он обязан знать и понимать, каково воздействие каждого орудия, должен знать, скольких людей каждое из них может заменить собой в битве, отвечать за их умелое и точное использование.
Но легко говорить, глядя со стороны… А вот когда сам за дело берёшься, то столько забот и хлопот наваливается – не счесть. Во-первых, чтобы наладить производство этих рукотворных зверей, да чтоб их пустить в дело, нужно иметь в обиходе такие редкостные вещи, которыми ты раньше не только не пользовался никогда в жизни, но даже и не подозревал об их существовании. Добыть их можно лишь немалыми усилиями множества людей, и ты заставляешь этих людей действовать, порой отправляя их в немыслимую даль…
Например, для стрельбы из огнедышащих орудий надобно некое жидкое, но вязкое топливо, зовущееся земляным маслом, земляным, почвенным жиром. Чёрное и очень резко пахнущее. Отыскать его – что живую воду найти. Пришлось потратить много сил, прибегнуть ко многим хитростям и уловкам, да и взяток дать без счёту, чтобы китайцы сами отыскали это подземное сокровище в какой-то затерянной их глуши, куда раньше и нога человеческая почти не ступала, и возить его стали оттуда на верблюдах, разлитое в особые, для того и сшитые, кожаные торбы… И всё это наладили люди, до тех пор к этому делу никакого отношения не имевшие. И все, к нему причастные, дали самую страшную клятву о неразглашении тайны. А уж если китаец дал такую клятву – всё! Хоть ты режь его на куски, хоть жги живьём – не вырвешь из него ни слова признания. Вот до чего удивительный народ!
А тайну изготовления «взрывчатого порошка» хранят следующим образом: его производят по частям, и одну часть делают одни мастера, потом передают её другим, те делают свое дело, передают третьим, а те, наконец, четвертым, которые и завершают производство. Каждый мастер знает только то, что ему надлежит знать, а предыдущие и последующие этапы его совершенно не волнуют, он и не пытается ничего об этом узнать: меньше знаешь – дольше проживёшь…
Немало им пришлось потрудиться, головы поломать, соединяя разные вещества, испытывая их в действии, изобретая всё почти заново. Испытания проводили далеко в горах – и чтоб меньше было жертв при неудачах, и чтоб никто из непричастных не знал об этом. Но не обошлось без промахов, и немало людей погибло и было изувечено взрывами… Зато – цели достигли, задачу выполнили! И теперь они могут взорвать любую башню и стену самой могучей крепости, сделав под них подкоп.
А уж мастера кузнечного дела – одни из самых дорогих ценностей для любого государства, их отбирали под тщательным присмотром самого тойона Джэлмэ. Их привозили вместе с семьями в места, где плавили железо, или селили рядом со ставкой, давали им теплое жильё и всё необходимое для жизни и труда…
…По прямому повелению хана по всему Монгольскому илу было задействовано всё, что могло спасти жизнь Сюбетея.
Отовсюду везли лучших целителей, самых искусных лекарей, везли прославленных знахарей, могущих излечивать самые тяжкие рубленые раны, везли травознатцев и шаманов… Для их скорейшей и незамедлительной доставки не жалели перекладных лошадей, гнали их во весь опор.
Китайские лекари зашили открытые раны на лице и на груди, а также соединили сухожилия на изрубленных руках.
Кипчакские врачи смазывали раны особыми целительными мазями.
А ламы, прибывшие из монастырей Тибета, тщательно прочистили левую глазницу Сюбетея, чтобы не началось заражение.
И, наконец, в одну из ночей было устроено камлание семи знаменитых татарских шаманов, семи самых прославленных провидцев.
Во всех окрестностях прекратилось всякое движение, всё людское множество замерло, погасив все костры и факелы. Знатнейшие собрались в огромном суглан-сурте – шатре для проведения великих советов. Ведь одновременное камлание семи таких пророков-чародеев в окружении их первых учеников – редчайшее, необыкновеннее событие…
Они камлали столько времени, сколько надобно для того, чтобы дважды в казане сварилось мясо.
Шаманы поочередно, по восходящей, обращались к каждому из восьми богов, молили каждого из них о помощи.
Когда шаманы своими душами вознеслись на Седьмое Небо, их брови, усы и бороды покрылись толстым слоем инея. Стуча зубами от мороза, они с великим трудом проникли в область Восьмого Неба, и вдруг взвыли волками, залаяли собаками, стали издавать крики разных животных и птиц!
И, наконец, их души крылатыми птицами вернулись на землю, соединились со своей плотью, и все до единого шаманы без сознания, без чувств, как безжизненные тряпичные куклы, рухнули оземь!
Тут же раздались пронзительные вопли ужаса из уст глядевших на камлание женщин и детей. Да и у мужчин волосы встали дыбом и тела заледенели от страха… Все застыли и онемели, и пребывали в таком состоянии до тех пор, пока лежащие шаманы вновь не задышали, не зашевелились, и с глухими стенаниями стали расползаться в разные стороны…
Самый великий из семи шаманов, снежновласый Сарт, придя в себя, начал истолковывать то, что поведали ему Небеса:
– О, люди, никогда ещё за всю мою судьбу шамана я не испытывал подобного потрясения!.. Только мы собрались покинуть Восьмое Небо, как незримые высшие духи стали хлестать нас хлыстами: исхлестали, избили почти до смерти – а потом изгнали, выдворили обратно на Землю! А свыше раздался глас, и вот что он изрек:
«Несчастные, жалкие, ума лишенные выродки! Что вы возомнили о себе, если вот в таком жалком виде вздумали прыгать и скакать перед Нами! Вы прискакали сюда в виде каких-то уродских огрызков и вознамерились вмешаться в бытие Высших Сил, чьё предназначение – устраивать жизнь срединного мира… За это вы будете жестоко Нами наказаны: три года вы будете ползать как змеи! И на три месяца померкнет белый свет в ваших глазах! И на три дня онемеют ваши длинные языки!
И без ваших жалких молений все уже давно предопределено и Нам ведомо.
Судьба Сюбетея была предопределена за семь поколений до его рождения.
Его земной путь проляжет до Последнего Моря! Он доведёт монгольские войска до Срединного Моря.
Вот что услышали мы от Высших Сил Небесных!»
…Вот что поведал собравшимся величайший из земных шаманов, Сарт.
Молвив это, он закатил глаза и смолк, вновь рухнув на землю подкошенной травой… Другие шаманы постепенно ожили, но ни слова не могли сказать, и тела их словно онемели, они лежали без единого движения. Однако их ученики понемногу пришли в себя и поднялись в полном здравии.
Тут к шаманам первыми подбежали ламы, лекари, травники и знахари, они сразу же стали врачевать их, умащать их тела различными снадобьями. Все собравшиеся с почтительным восторгом смотрели на это проявление заботы великими о великих. Ведь лишь подлинно великие каждый на своём поприще люди, даже разную веру исповедующие, могут вот так, с братским уважением и глубоким пониманием, относиться к равным себе… А мелкое соперничество, подсиживание друг друга, пренебрежение другими и стремление оттолкнуть других ради одобрения со стороны сильных мира сего – удел суетно-ничтожных людишек, никаким делом по-настоящему не владеющих… Обессиленные шаманы возвращались по своим домам лежащими на арбах. Как и было сказано Сартом, дар речи к ним вернулся ровно через три дня, зрение – через три месяца. А владеть своим телом и встать на ноги каждый из них смог лишь через три года.
Слухи обычно летят впереди самых быстрых гонцов, облетают все глухие углы и оказываются у всех на языках. Но на сей раз все молчали: настолько всех их потрясло и напугало произошедшее и услышанное. «Само собой все когда-нибудь прояснится», – так думали люди о пророчестве великого шамана.
Но каждый всем естеством своим чувствовал, что всё прояснится ещё очень нескоро…
…Более всего радовались тому, что Сюбетей выжил.
Глава пятнадцатая
Год быка
«Стратегическое нападение.
Исходным пунктом Сун-цзы является мысль, что наилучшая война – это такая война, которая дает максимум выгоды при минимуме вреда. Стремление во что бы то ни стало оградить свое государство от разорения и получить в свои руки не разоренным, сохранить для себя всю его живую силу и материальные ресурсы – такое стремление характерно вообще для военных и политических философов старого Китая. Война – «на втором месте», к ней прибегают тогда, когда другого выхода нет. «Поэтому тот, кто умеет вести войну, покоряет чужую страну не сражаясь; берет чужие крепости, не осаждая; сокрушает чужое государство, не держа свое войско долго». Кто умеет сохранить в целости объект завоевания – страну противника, тот может, по словам Сун-цзы, «оспаривать власть в Поднебесной».
«Оружие – это орудие бедствия, – предупреждает Вэй Ляо-цзы, – борьба противна добродетели; полководец – это агент смерти. Поэтому к войне прибегают только тогда, когда это неизбежно».
Н.И. Конрад, «Избранные произведения» (ХХ в.)
Удивительные схождения бывают в жизни людской и в жизни природы. Вот наступает время, когда столько разных накопившихся вопросов и отложенных дел, до поры таившихся под спудом, вдруг прорываются наружу – и люди либо справляются с потоком сотрясений, происходящих в их бытии, либо, беспомощно барахтаясь, захлёбываются, тонут в нём. Не то ли и в природе, когда вскрывается ледяной панцирь на вешних реках: мощное половодье пробивает не только ледяную преграду, но и все препятствия на пути, оно разливается всюду и сметает, и поглощает всё, что не способно ему противостоять…
С тех пор, как появился человек в срединном мире, он, бедный, всё плутает в потёмках бытия своего, где столько бедствий и несчастий падает ему на голову и под ноги, всё мыкается, стараясь уберечь себя от них… А грядущее предугадать ещё сложнее. Но проходит время, ты оглядываешься на прошлое, которое когда-то было для тебя грядущим, и – поражаешься: да как же ты не мог разглядеть своих путей, ведь всё, всё до последних мелочей, было взаимосвязано, все обстоятельства являлись звеньями одной цепи, всё было не случайным и ясным. Всё!
Кто мог бы предполагать, что с приходом Года Быка, 1216 года, начнутся столькие сотрясения в жизни множества народов?…
Кучулук понял окончательно, что союза с Хорезм-шахом, султаном Мухамметом, у него не получится. И решил молодой правитель отбросить свою личину нерешительного человека. И приступил к действиям.
Для начала он вознамерился напасть на Алмалык, заключивший союз с монголами. Как раз в это время к Кучулуку прибыли посланцы мэркитов, осевших на Иртыше, они предложили ему пять мэгэнов своих воинов. Он принял их предложение о союзе с превеликой радостью и, не мешкая, двинулся на Алмалык. А там Бусар-хан, к несчастью для себя, не подозревая такого коварства, спокойно гостил у карлуков. А на пути домой попал в лапы к мэркитам!
Это вызвало потрясение среди множества племён Степи. Веками они соседствовали друг с другом и, конечно же, временами косо глядели в сторону того или иного соседа, но всё же до такого вероломства меж ними никогда не доходило. Тут же были отправлены гонцы к Чингисхану с просьбой о защите.
А Кучулук и мэркиты, нежданно напав на Алмалык, прошли смерчем по его землям, разграбили всё, что можно было разграбить, всё пожгли, погромили и втоптали в грязь. Но главная крепость продержалась в осаде целый месяц. Завоеватели так и не смогли захватить её, и пришлось им отойти от стен крепости восвояси. Тут и случилась распря меж союзниками из-за дележа награбленного. Коса нашла на камень: жёсткая и жестокая натура Кучулука вступила в противоречие с вошедшим в присловья обычаем мэркитов делать всё не так, как принято у других народов. И, рассорившись при делёжке добычи, мэркиты в большинстве своём покинули правителя найманов и ушли к себе в Прииртышье…
В это время до Кучулука дошли вести, что посланцы султана Мухаммета не раз пробирались к тем сартелам-туркменам, что соседствовали с его владениями. Тут же, ни в чём не разобравшись, он налетел на них как на злейших кровных врагов и превратил их селения в пепелища. Тем самым он ещё более углубил наметившийся раскол меж языческими тюркскими племенами и тюрками-мусульманами: пришла вражда из-за оскверненных святынь, из-за веры. Самая лютая вражда из всех возможных!
Услышав об этом, Кехсэй-Сабарах понял: произошло непоправимое…
Но что делать, если уже ничего не воротишь?
Остаётся сидеть и ждать, что будет дальше.
И дальнейшее не заставило себя ждать. Так прорывается набухший гнойник. Одна за другой, словно бусины с нитки, посыпались дурные вести.
Опасаясь дальнейших вероломств Кучулука (а, скорее, делая вид, что опасается), султан Мухаммет силой заставил своих подданных, живших на границе с Илом кара-китаев, переселиться с их правого берега реки Сыр-Дарья на левый. Но многие из них выказали неповиновение Хорезм-шаху, не желая оставлять свои богатейшие угодья, а особенно – роскошные фруктовые сады, которые они возделывали веками. Султан самым жестоким образом покарал непокорных: кровь их лилась реками.
Кому такое придётся по нраву? Первыми восстали на защиту своих единоверцев исламские священнослужители. Бухарский шейх Муэдзин-ад-дин сам выступал с проповедью в соборной мечети, обличая преступления правителя Средней Азии. Узнав о том, Хорезм-шах потерял голову от гнева. Повелел отрубить шейху голову и выставить её, насаженную на копье, перед мечетью.
Это святотатство отвратило от султана многих его верноподданных. Но – до поры все молчали, страшась свирепого нрава повелителя… Однако, как нередко бывает в такие жуткие времена, окружение Хорезм-шаха с утроенной силой стало повсюду превозносить «праведные деяния» своего властелина: мол, грешников карает мечом султана длань самого Аллаха! Нашлись такие льстецы и в мусульманском клире, некоторые муллы в мечетях тоже стали восхвалять кровопролитные деяния Хорезм-шаха как проявление Высшей Воли сил небесных – мол, только тёмные и глупые люди, увязшие в грехах, не понимают этого…
Но нежданным новым ударом по султану Мухаммету стала грозовая весть, прилетевшая с запада.
В мгновение ока она облетела всю страну, эта весть – о том, что в Багдаде, в столице мусульманского мира, в сердце исламского халифата, сам халиф запретил произносить в мечетях хутбу – молитву-прославление – во имя Хорезм-шаха.
Но мало того: халиф ещё и предал чёрному проклятию не покаявшегося в своих грехах султана, отлучил Мухаммета от мечети, от мусульманского мира, объявил его врагом ислама.
Это было не простое для главы всех мусульман решение… Самое страшное в подобном проклятии – все мусульмане освобождаются от всех клятв и присяг, принесенных правителю, если он лишается покровительства Всевышнего. Никто из подданных не обязан ему подчиняться, выполнять его повеления и приказы. И за это неповиновение никто из подданных не будет грешен перед Господом.
Власть Небесная – выше власти земной, даже власти самого могущественного владыки. Хорезм-шаху был нанесён удар, чьи последствия станут смертельными для него и для его державы, но сам он этого ещё не ведал. И держава его ещё продолжала держаться некоторое время…
Защищаясь от проклятия, ниспосланного на него халифом багдадским, султан Мухаммет обрушил новые кары на непокорных. Он повелел казнить не только тех, кто не повиновался его воле, но и любого, кто даже по недомыслию высказывал своё недовольство его властью… Кроме того, он направил халифу грозное послание. В нём Хорезм-шах напомнил духовному главе мусульман о своих личных заслугах перед исламом, о своих подвигах во имя Аллаха. А ещё он привёл в том послании слова самого халифа, сказанные им во времена их дружбы: «Султан Мухаммет – карающий меч Аллаха». И, наконец, он обвинил багдадского духовного владыку в искажении истинного учения пророка Мухаммета, устами которого некогда глаголил Аллах. И тут же Хорезм-шах начал собирать войско для похода на Багдад.
Узнав об этом, халиф не на шутку встревожился. Что там ни говори о чёрных делах султана, о его бесноватых приступах гнева – он великий воитель: столько земель покорили его воины, вплоть до Индийского океана… Так что, если он и впрямь соберётся, то может и в Багдад нагрянуть. К тому же ударная сила его войск – это вольные, гулящие люди разных кочевых тюркских племён, не верящие ни в Аллаха, ни в Христа и ни в какого иного Бога, даже каменным идолам не поклоняющиеся. Головорезы, погрязшие в грехах, они запросто утопят столицу исламского духовного мира в крови…
И потому, ради спасения главного исламского города, халиф стал искать достойный выход из этого тяжкого и угрожающего положения. Было ясно: помешать Мухаммету могли одни лишь монголы. И вот, после долгих раздумий и сомнений, мучаясь от безысходности, он направил к Чингисхану нескольких мулл. Они везли хану послание, которое гласило:
«Великий повелитель стран Востока, могущественный и справедливый Чингисхан! Мы, духовный повелитель исламского мира, с удовлетворением воспринимаем вести о том, как Вы наказываете различных правителей Востока, которые бесстыдно попирают Волю Неба, разрушают человеческие нравы и преступают писанные и не писанные законы и добрые обычаи. Нам радостно узнавать, что Вы караете погрязших в грехах людей, даже если они облечены высокой властью. Поэтому Мы с надеждой ожидаем, что и страны, лежащие к западу от Вашей державы, станут местом Ваших благочестивых деяний. Правоверные будут денно и нощно молиться за Вас, если Вы освободите от нечестивой власти эти страны, будут восславлять Ваше имя в мечетях. Нам видится, что пора поставить на место султана Мухаммета, который своими небывало чёрными деяниями разрушает не только свою страну и народ, но и устои мусульманской веры. Мы просим Вас совершить сей высокий подвиг – наказать этого слугу Шайтана. Если можете, не откладывайте свой поход на него. Народ встретит Вас с восторгом и славословиями…»
Послание передавалось в строжайшей тайне, однако его содержание вскоре стало известно Хорезм-шаху. Никто никогда не узнал, каким путём султану удалось выведать тайну этого послания. Но – выведал!
Некоторые знатоки истории утверждают, что султан Мухаммет и не намеревался идти войной на Багдад. Властитель Средней Азии хотел лишь показать свою мощь, припугнуть властителя духовного. Так часто и в более древние времена, и в новые поступали державные правители, когда им грозила опасность от верховных священнослужителей…
Но кто же в точности знает теперь, каковы были истинные намерения Хорезм-шаха! Как бы там ни было, но он, узнав о том письме халифа к хану Монгольского ила, тут же отправил войско в поход на Багдад. Отправил шесть тумэнов, ещё не полностью оснащённых.
И это легко сказать – отправил…
На деле же в те времена стоило человеку в пути немного отойти от берега Джейхуна, от Аму-Дарьи – и перед ним представала на сотню конных переходов песчаная пустыня с её столбами пыли и смерчами. А за ней – гряда голых, вонзающихся в небо горных скал. Дойти до начала путей, ведущих к Багдаду, можно было лишь после преодоления этих препятствий.
Казалось, сама Воля Небес создала эти преграды, чтобы уберечь Святой Град мусульман. Так что никакому, даже огромному и мощному войску, пешему или конному, невозможно было нагрянуть туда беспрепятственно и без потерь. Пехоту, медленно продвигавшуюся по тем землям, поджидали одни опасности, конницу, хоть и более быструю, но вынужденную часто останавливаться, чтобы напоить и накормить коней, ждали и подстерегали другие испытания.
Обычно воинство султана Мухаммета лишь менее чем на треть состояло из конных частей. Но на сей раз конница составила главную силу его войска, вышедшего в поход: ему думалось, что она быстрей достигнет Багдада и мощней подавит там сопротивление, чем пехота. Потому что в пешие войска набирали людей из местных земледельцев, а те являлись уже издавна правоверными мусульманами. И потому, как бы в их глазах ни чернили халифа багдадского, трудно было ожидать, что они с охотой будут крушить город, ставший оплотом их веры… А вот в конницу отбирали только одних тюрков-язычников, да кое-кого из кочевых же тюрков-христиан. Эти люди Аллаха не почитали, мусульмане им не были братьями по вере: стало быть, по мысли султана, они будут крушить Багдад без чувства греха, безжалостно и жестоко…
Однако пеший с конным в ногу не ходят. Поэтому конница и пехота отправились в путь по отдельности. Пешие двигались поначалу почти безостановочно, однако конникам часто приходилось останавливаться, ожидая их, чтобы разрыв меж двумя частями войска не стал слишком большим… Преодолели пустынные степи, пересекли песчаную пустыню, где барханы походили на жёлтые волны южного моря. И, наконец, подошли к подножию голых скалистых гор.
Первой на горные тропы ступила верховая рать, чтобы перейдя гряду, подождать пешее войско на другой ее стороне. Но тут грянул обильный снегопад, не прекращавшийся ни днём, ни ночью, и шёл он несколько суток. Конница стала двигаться медленно, а потом и вовсе остановилась. Когда снегопад утих, двинулись было дальше, однако лошади увязали в могучих сугробах по брюхо, а то и по грудь. Дальше – хуже: иссякли запасы зерна, которые везли с собой, и непривычные к морозам лошади от бескормицы стали слабнуть, а вскоре начался их падёж. Но более страшной бедой оказались местные курды, чьи отряды неприметно следовали за войском, – они стали устраивать засады и нападать на оголодавших и ослабевших от холода воинов Хорезм-шаха. Им удалось истребить целых два тумэна из шести, шедших на Багдад! А затем и пехота тоже попала в засаду курдов… Но самые большие потери были понесены не в стычках, а от мороза. И, наконец, поняв, что до Багдада не дойдёт никто, войско султана повернуло обратно; в снежном плену погибла почти половина воинов…
Весть об этой сокрушительно-гибельной неудаче тут же пронеслась по всем владениям султана Мухаммета. И нанесла она правителю Средней Азии гораздо более тяжкий урон, чем гибель множества его воинов в походе. Ибо то был удар по духовным устоям государства, по верности его подданных своему владыке. Каждый истый мусульманин воспринял эту весть как весть свыше: значит, сам Аллах и впрямь карает тех, кто выступает против истинной веры, кто поднимает меч на духовное сердце ислама. И хотя подданные султана Мухаммета молчали, страшась казней, но втайне, в думах своих они уже отреклись от своего повелителя.
Это и стало началом конца могучей державы Хорезм-шаха.
Ибо государство по-настоящему начинает рушиться не от внешних ударов, а изнутри. Когда народ утрачивает веру в государство…
Узнав, что судьба предстоящей великой войны предрешена ещё до её начала, Кехсэй-Сабарах впал в отчаяние. Вот и завершается дивное и долгое время расцвета, царившее на этих землях. Время, когда край, возомнивший себя сердцевиной и венцом срединного мира, наслаждался изобилием, когда изобилие падало на него с небес и вырастало из-под земли.
Как бы ни сопротивлялся отдельный человек или целый народ, стремясь отдалить приход такого тяжкого часа истории, даже заранее предугадав его, людские силы и возможности всегда оказываются ниже небесных. Именно в такие дни бытия человечества становится особенно ясно, что судьбы мира, судьбы самых великих народов зависят лишь от Воли Божьей. А вот владыки, правители государств, державные деятели в такие часы почему-то начинают в большинстве своём и мыслить, и действовать мелко, суетно и ограниченно, выказывая себя не вождями народными, а безответственными и неразумными людишками…
…Так думалось великому старому воину Кехсэй-Сабараху. О, до чего же обидно, что именно в эти решающие дни столь резко одряхлел, так сильно сдал гур хан, Дюлюкю великий, правитель кара-китаев; что он, всегда уверенно державший под своею дланью все окружные края, растерял своё былое могущество…
И до чего же досадно, что именно сейчас, и без всяких значительных причин султан Мухаммет, казалось бы, опора всей исламской веры, расширивший границы своей державы до южных морей, сделал то, что можно уподобить падению камня, от которого рождается горная лавина – стал враждовать с духовным властелином исламского мира. Печальна будет судьба прекрасного Хорезма!
И, наконец, впавший в полное безрассудство Кучулук, его, Кехсэя, питомец… Нет, чтобы жить в мире, пользуясь большой властью, да собирать верных людей, копить силы, притягивать к себе добрыми делами ближние и дальние роды и племена – всё у него наоборот! Он отталкивает от себя даже самых преданных ему соратников. Своими повелениями, рождёнными сгоряча и во гневе, Кучулук пугает всех, кто мог бы стать ему союзником. Не помнит он никаких уроков и наставлений Кехсэя-Сабараха. Словом, ведёт себя так, словно власть, сама упавшая ему в руки, оказалась для него слишком тяжкой ношей.
Глава шестнадцатая
Год Тигра (1218 г.)
«Реальной силой империи Тан была наемная армия, вербовавшаяся среди иноземцев, ибо для придворных китайцев терпимость династии Тан была одиозной как по отношению к буддизму, так и в плане компромиссов со степняками. Кончилось все катастрофой. Один из генералов, Ань Лушань, сын согдийца и тюркской княжны, в 756 г. возглавил в местечке Юйянь восстание трех регулярных корпусов, составлявших ударную силу армии.
Три корпуса, 150 тысяч человек, под звук барабанов поклялись, что они испепелят эту подлость – стукачество, лучше погибнут все, но мириться с этим не будут. И началась страшная гражданская война, которая продолжалась всего шесть лет, но унесла в могилу 36 млн. жизней. До войны в Китае было 53 млн. населения, после войны осталось 17.
В то время каждый профессиональный воин был по нашему счету мастер спорта, а то и чемпион по фехтованию и верховой езде (VII в.н. э)».
Лев Гумилев, «Конец и вновь начало» (XX в.)
Элий Дюлюкю – некогда бывший тигром степей и вольных предгорий – встретил год Тигра, лежа пластом в постели. С охоты в горах он, гур хан, вернулся больным – простудился, слег с воспалением легких. Но, к его счастью, как раз вовремя приехали тибетские ламы, с помощью сильных лекарств вытащили его из горячки и уже почти поставили на ноги.
В дни кризиса он не раз терял сознание, бормотал что-то несвязное, пугая родных и близких… Чтобы не распространились всякие панические слухи, за ним ухаживали только сами дочери с помощью всего нескольких преданных старых слуг. Но все равно и в придворных кругах, и в народе догадывались о его серьезной немочи, ведь он совершенно не появлялся на людях, не принимал ни одного военного чина и тюсюмэла (гражданского министра) почти целый месяц. И понятно волнение людей: в случае неожиданной смерти старого гур хана враз взбаламутится, опасно заколеблется не только жизнь всех приближенных с их многочисленной родней, но и всего Ила, всей страны…
Поэтому, как только старику стало чуть полегче, устроили встречу с крупными тюсюмэлами, затем с военачальниками.
Наблюдая, как пытливо и настороженно разглядывают его приближенные, словно пытаясь предугадать, переживет он эту зиму или нет, как некая исхудалая дряхлая кляча, гур хан Дюлюкю только теперь понял, как он скверно выглядит. Хоть и глубоко скрывают они истинные мысли за внешним лоском, подобострастной почтительностью, но старик, как бы ни ослабел телом, все еще стоит намного выше всех их по уму и потому видит насквозь их недалекие соображения.
Да и что особенно там разглядывать, их укороченные недалекие мысли проявляются тем яснее, чем больше пытаются они их скрыть: «Кто сядет на месте гур хана, если он умрет? Какое племя, какой род всплывет тогда наверх, к великой власти, кто будет повержен, кто отступит в тень?..»
И вообще, в гнезда всех их в эти дни просачивается вода сомнения, если не страха, ведь гур хан уже весьма стар. Привыкшие к бессчетному богатству, бесконечному изобилию, не волновались раньше за его могучей спиной ни по какому поводу и теперь вот сильно встревожены. Ибо впервые почувствовали реальную угрозу скорее своему, а не государственному благосостоянию.
– А-а, вот какие вы, оказывается? – хочется позлорадствовать ему над своими людьми. – А то привыкли не думать о дне завтрашнем, ни за что не отвечать, разжиревшие скоты…
Но не стоит даже что-либо говорить им об этом, ругать, заставлять думать – сразу начнут ныть, жаловаться: «Зачем заставляешь гадать заранее о том, что еще не настало, не пришло, завтрашнее само станет ясным завтра…»
И имеет ли право животное существование этих благополучных, не понимающих своего несчастья существ называться настоящей жизнью? Впрочем, ведь это он сам, похоже, сделал их такими, сам брался за любое, даже и мелкое дело, понемногу приучая их к безответственности и не замечая того за собой, – а теперь спохватился… Но поздно! Корень беды в нем самом. Ибо с его смертью из-за этого может обрушиться все славное здание Ила кара-китаев, ибо столько лет держалось на прозорливости и благоразумии одного единственного человека. Никчемные, недалекие людишки, которых он сам возвысил! Что они сделают со страной? Бедный, бедный мой народ!..
Две старшие дочери гур хана, едва выйдя замуж, с первого же дня сами захотели отделиться, уехать в другие улусы. Зятья же, хоть и военачальники уровня мэгэнэев, оказались довольно бесхребетными личностями, исполнительными, рьяными даже, но лишь по указке, по приказу. Бедняги ничего, кроме как воевать, не умеют и не знают, думать не любят. Оказывается, сколько ни бейся, сколько ни учи, ни наставляй человека, по природе ограниченного умом, все равно почти невозможно развить его, вырастить в нечто большее.
Зато младшая дочь Кункуй очень уж бойка, ей бы мальчиком родиться – к радости отца. Ее быстрый ум, способность мыслить широко никак не укладываются в женское естество. А теперь вот сблизилась с тибетскими ламами, перешла в буддистскую веру.
К тому же сошлась с ханом без ханства, бродягой – Кучулуком. Более того, презрев все обычаи и порядки, перешагнув через гордость даже, сама нашла его, можно сказать – сама за ним бегала…
А парень-то, судя по первым уже встречам, по поведению, да и по крови своей, наследственности, не из тех был, кто слишком уж поддается, подчиняется женщине. И все его предки были известны упрямым, независимым, подчас жестким и грубым нравом.
Когда был зажат нуждой, бродяжничал в изгнании, казался он другим, конечно: скромным, пожалуй, даже уступчивым, хорошо сознающим свое положение. Но стоило ему выпрямиться, освоиться в своей новой силе, как вышло наружу все затаенное родовое, подавленное до поры до времени…
Нет, все же Кучулук – настоящий мужчина, ничего не скажешь. Гур хан и сам диву дается, как нежданно-негаданно вдруг стал ему зятем он и, следовательно, сегуном. Хочется по привычке сослаться на волю вышних, на судьбу, очень уж вовремя и к месту вынырнул, вышел откуда-то из глубины степей этот человек.
А было это осенью Года Бичин – Обезьяны (1212 г.).
В тот год природа была полна силы и обильна как никогда. И теперь при спуске с горы открывалась картина поистине прекрасная: на золотом фоне листвы играло множество других красок – багряных, густо-коричневых, лиловых, – создавая неповторимые сочетанья свои, бодрило глаза и душу.
Кучулук в сопровождении трех сюнов спускался вниз с горы Саджагай, подъезжая к близкому уже становищу гур хана, готовясь к встрече, на которую пригласил его хозяин Ила.
И вдруг, переходя овраг, чтоб сократить путь, они спугнули небольшое стадо куланов и следом услышали гневные окрики… да, перешли дорогу загонщикам, похоже.
– Да тут охота, кажется…
– Видать, дичь чью-то спугнули, помешали, – сказал Кехсэй-Сабарах, пристально следя за тем, как стремительно скачет в их сторону какой-то молодой человек, судя по одежде – порученец.
– Видно, ханские… Что же делать, может, съездишь, умилостивишь их? – сказал Кучулук.
– Конечно, могу и я… Но подумай сам, если его приближенные станут рассказывать ему, что ты, расстроив большую охоту, направил к ним какого-то своего слугу… Не сочтет ли он это за пренебрежение?
– Да? Что ж, тогда поехали вместе… – Кучулук подстегнул и направил коня навстречу всаднику, к людям, увиденным в долине, отсюда казавшимся зернышками разноцветного проса.
Предположения старого человека оказались правильными. Как выяснилось, они поневоле прервали охоту самой Кунхуй-хотун – младшей дочери гур хана Элия Дюлюкю.
Хотун встретила их гневно, раскосо-продолговатые глаза ее так и сверкали, метали молнии. Но при виде молодого хана, почти сверстника своего, заранее виновато опустившего голову, в глазах ее черных замелькали озорные огоньки.
– Великая моя Хотун, не сердись, смени гнев на милость. Мы спускались сверху по вызову гур хана… Не заметили вашу облаву, ненароком перешли вам дорогу… – До сих пор мало перед кем тушевавшийся, Кучулук на этот раз почему-то смутился, не смел поднять глаза.
– Разве вы не знаете, что в окрестностях Ставки все обязаны ездить только по проезжим дорогам? Или вы, найманы, словно дикие звери, знаете только направление, бредете, куда глаза глядят?
– Да ведь здесь поблизости вроде не видно никаких дорог…
– Так вы, оказывается, вообще заплутали? – сказала хотун и махнула рукой на восток. – Дорогу найдете вон за тем холмом.
Каким-то чутьем поняв, что вот-вот ускользнет некий исключительно нужный им случай, Кехсэй-Сабарах опустился перед хотун на колено:
– Хотун моя! Грех обвинять невиновного…
– Хм… А это еще кто такой? – Хотун не понравилось, что кто-то со стороны вклинивается в разговор.
– Я старик Кехсэй-Сабарах.
– А-а…
– Хотун моя. Это я виноват, что увел хана в сторону от дороги, чтобы путь сократить… Если бы ты разрешила, я бы сейчас вернул сюда, к засаде, убежавшую дичь.
– Ну-ка!.. – Хотун оживилась. – Давайте тогда быстро в загон!
Кехсэй-Сабарах тут же повернул два сюна, и они поскакали галопом через гряду, только пыль поднялась.