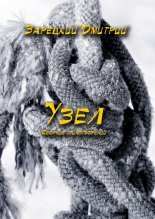Маэстро и их музыка. Как работают великие дирижеры Мосери Джон

Оригинальное название:
Maestros and Their Music
The Art and Alchemy of Conducting
Издано с разрешения John Mauceri c/o InkWell Management LLC и Synopsis Literary Agency
Научный редактор Николай Бабич
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Maestros and Their Music: The Art and Alchemy of Conducting — Copyright © 2017 by John Mauceri. This edition published by arrangement with InkWell Management LLC and Synopsis Literary Agency.
© Перевод на русский язык, издание на русском языке. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2019.
Густаву Майеру (1929–2016), который нашел время для меня, девятнадцатилетнего. Вы первым начали учить меня ремеслу и открыли мне необъяснимое.
Введение
Если бы вы читали The New York Times утром во вторник 7 января 2016 года, то на страницах газеты вам бы встретились три некролога двум дирижерам, абсолютно не похожим друг на друга. Пьер Булез — возможно, самая влиятельная фигура в классической музыке второй половины XX века — удостоился фотографии на первой полосе и двух памятных статей, написанных Полом Гриффитсом, бывшим критиком Times и страстным поборником модернизма в музыке, и главным музыкальным критиком газеты Энтони Томмасини. Третий некролог, с двумя снимками, посвящался памяти миллионера, в прошлом издателя журнала для финансовых директоров и руководителей пенсионных фондов, человека, который едва мог читать ноты, по имени Гилберт Каплан. С Булезом их объединяло то, что они оба исполняли эпическую Симфонию № 2 Малера с Нью-Йоркским филармоническим оркестром.
Булез был блестящим и скрупулезно точным музыкантом. Он получил безупречное образование под руководством строгих преподавателей в Париже и благодаря этому, а также своему интеллекту во многом определил лицо классической музыки в период после Второй мировой войны. Развиваясь как дирижер и композитор, в глазах других он стал визионером. Когда Леонард Бернстайн в 1969 году ушел с поста руководителя Нью-Йоркского симфонического оркестра, Булеза назначили на его место.
Каплан же, со своей стороны, изучал право и работал на Нью-Йоркской фондовой бирже. Услышав Симфонию № 2 Малера в исполнении Американского симфонического оркестра под руководством Леопольда Стоковского в 1965 году, он стал одержим дирижерской профессией. Он продал свой журнал Institutional Investor и вскоре занял должность председателя совета директоров Американского симфонического оркестра, а также стал его крупнейшим спонсором. Кроме того, он купил оригинальную рукопись симфонии Малера и одну из его дирижерских палочек, а еще заплатил разным людям, чтобы его научили дирижировать симфонию. Каплану объяснили, что означают итальянские и немецкие слова в партитуре, какие движения руками надо делать, на кого и когда смотреть, — и в 1982 году он нанял Американский симфонический оркестр, провел репетиции и выступил для приглашенных зрителей в зале Эвери-Фишер-холл (сейчас — Дэвид-Геффен-холл) Линкольн-центра.
Гилберт Каплан дирижировал по памяти (чего никогда не делал Булез). Приглашенные гости пришли в восторг от увиденного, но Каплан был только в самом начале пути. Потом он выступал с этой симфонией сто раз и записал ее с Лондонским симфоническим и Венским филармоническим оркестрами. И если вам кажется, что профессиональные дирижеры должны считать это достойным восхищения, то подумайте еще.
Как же стало возможным, чтобы Булез, всеобъемлюще образованный музыкант, который правил авангардом, осуждал всё и вся и поставил крест на американских композиторах одной простой фразой («У вас нет композиторов, нет даже Хенце», — музыку Ханса Вернера Хенце, его немецкого соперника, Булез не переносил), — как получилось, что он разделил место со скромным любителем? Булез, бывший enfant terrible, протестовавший против элиты, за какую-то ночь стал ее представителем, когда его пригласили в Америку возглавить Нью-Йоркский филармонический и Чикагский симфонический оркестры, а также в Париж в Институт современной музыки, который по объемам государственного финансирования уступал только Лувру. Каплан покупал его оркестры и платил за записи. И всё же эти два маэстро не только выступали с одним и тем же произведением и с одними и теми же — величайшими — оркестрами мира. В некоторых случаях записи Каплана стали более популярными.
И здесь, дорогой читатель, кроется великая тайна дирижера. Кто мы такие? Что мы делаем? Чем определяется наше величие, не говоря уже о профессионализме? И считаете ли вы, подобно многочисленным критикам-любителям (каковых, например, много в интернете), что Малер в исполнении Каплана с Венским филармоническим оркестром — это откровение?
Что же тогда можно сказать о тех, кто всю жизнь изучал гармонию, контрапункт и чтение партитур, участвовал в конкурсах, усердно продвигался вверх по карьерной лестнице от помощника дирижера в региональном оркестре до помощника дирижера и руководителя оркестра средней руки, но так никогда и не получил шанса дирижировать Симфонию № 2 Малера в Вене?
Неким весьма таинственным образом всё перечисленное не только возможно, но и вполне объяснимо — вопреки здравому смыслу, — потому что искусство дирижера гораздо больше и гораздо меньше, чем вы думаете. Моя цель здесь — исследовать этот странный и беззаконный мир, где существуют всевозможные вещи и их противоположности, и хотя бы попытаться найти общие критерии величия в нашей области, нашем искусстве, нашем театре и нашей работе. Когда вы нас любите, мы гении. Когда вы нами пренебрегаете, мы шарлатаны. Мы и те, и другие, и даже больше, но одновременно и меньше: ведь мы просто люди, хотя порой кажемся кому-то богами. И, как это было с греческой мифологией, о дирижирующих богах ходит немало историй, которые помогают понять, кто мы такие.
В субботу 30 августа 1975 года Герберт фон Караян обедал в своей зальцбургской резиденции с Леонардом Бернстайном…
Два великих дирижера второй половины XX века были непримиримыми врагами, и, хотя Бернстайн сыграл огромную роль в нью-йоркском дебюте Караяна — несмотря на его прежние связи с нацистским режимом, — Караян сильно помешал карьере Бернстайна в Австрии и Германии. Конечно, история, которая начинается с такого пассажа, не может не привлечь внимание любителя классической музыки. Как это было? О чем они говорили? Встречу за закрытыми дверями, в которой участвовали два соперничающих и крайне влиятельных супердирижера, исполнявших ключевые классические произведения, можно уподобить встрече глав враждующих государств. А раз так, стоит узнать о ней подробнее.
Мне не довелось познакомиться с Гербертом фон Караяном. Для меня он так и остался далеким и непроницаемым «председателем совета директоров», как его однажды назвала жена режиссера Харольда Принса Джуди перед одним из нечастых выступлений Караяна в Карнеги-холле с Берлинским филармоническим оркестром. С другой стороны, я хорошо знал Бернстайна, с которым проработал с 1972 года до его смерти в 1990 году. Сначала в качестве ассистента на новой постановке «Кармен» в Метрополитен-опере, потом в должности его редактора и наконец как дирижер, которого он неизменно просил выступать с его новыми произведениями, после того как решил отойти от тяжелой репетиционной и концертной работы.
Летом 1975 года Бернстайн дирижировал два концерта на Зальцбургском фестивале, а Караян, будучи художественным руководителем фестиваля, — три концерта и две оперы, одну из которых, новую постановку «Дона Карлоса» Верди, он еще и режиссировал. Случился редкий момент, когда два титана выступали на одной сцене и с одним и тем же оркестром — Венским филармоническим. Бернстайн не был постоянным участником фестиваля, и Караяну, а может, его жене Элиетт пришла мысль пригласить его на обед.
Вернувшись в Нью-Йорк, Бернстайн поделился со мной впечатлениями за стаканчиком виски. Надо сразу сказать, что он почти не страдал недугом, который дирижеры подхватывают, едва взявшись за палочку, то есть завистью. Подобно Караяну в многочисленных анекдотах, популярных в кругах классических музыкантов, мы, молодые дирижеры, тоже хотели быть повсюду и дирижировать всё, что только можно. То, что Караяна еще и фотографировали в темных очках, за штурвалом самолета, на горнолыжном склоне в Альпах и на занятии йогой, прибавляло ему европейской харизмы. Бернстайн, с другой стороны, всегда был доступен. Мы называли его Ленни. Порой он позволял себе немного скепсиса по отношению к коллегам, но в целом, казалось, ему вполне по нраву оставаться просто Леонардом Бернстайном. Он считал это основной работой и не интересовался сплетнями и уколами в спину, без которых мы, дирижеры, не можем обойтись. Однажды я отметил тот факт, что в биографии дирижера Майкла Тилсона-Томаса он остается двадцатитрехлетним где-то лет пять, и Бернстайн ответил: «Этот комментарий вас не достоин». Однако с Караяном дело обстояло по-другому.
Когда я впервые спросил Бернстайна об австрийском маэстро, тот разделался с Караяном в нескольких словах. «Он на десять лет старше меня и на сантиметр ниже», — заявил Бернстайн с хирургической, можно даже сказать, убийственной точностью. Очевидно, обед был в той или иной степени испытанием для всех. Дочь Бернстайна Джейми, которая присутствовала там вместе с матерью, отметила в дневнике, что Элиетт «злонамеренно флиртовала» с ее отцом и пренебрегала Караяном, и это по понятным причинам делало обстановку напряженной. «Г. Ф. К. выглядел маленьким, тщедушным, скованным».
Караян решил разрядить обстановку, рассказав собравшимся историю о сэре Томасе Бичеме (1879–1961), великом британском дирижере и признанном острослове. Однажды после войны сэр Томас готовился к концерту в разбомбленном Лондоне со специально собранной по этому случаю группой британских музыкантов. Ирония того факта, что историю рассказывал Караян, который поддерживал Гитлера, не ускользнула ни от кого, кроме, возможно, самого австрийца. Первая репетиция Бичема началась с того, что величайший гобоист Британии Леон Гуссенс сыграл ля, чтобы по ней все настроились. Гуссенс был известен своим уникальным звуком, который отличался довольно широким вибрато, а не точным, безошибочным тоном. Когда он сыграл ля, Бичем посмотрел вверх со своего подиума и сказал, имитируя британскую чопорность: «Джентльмены, выбирайте».
Если бы это была аудиокнига, вы бы услышали, как я изображаю голосом Леонарда Бернстайна, который изображает Герберта фон Караяна, который изображает сэра Томаса Бичема. Дирижеры — люди разносторонние, но несомненно, что все мы абсолютно погружены в себя, очарованы своей профессией, напряжены из-за возложенной на нас роли руководителей — и, конечно, даже добравшись до вершины, рассказываем друг о друге истории. Анекдоты о дирижерах жизненно необходимы и оркестрантам.
«Не думаю, что Герберт прочитал хотя бы одну книгу за всю жизнь», — сказал мне Ленни, имея в виду болезненные попытки завести серьезный разговор во время обеда. (Отмечу, что великий дирижер может и не интересоваться книгами, каким бы странным это ни казалось.) Бернстайн, увлеченный читатель, любитель истории, преподаватель и политический активист, с радостью обсудил бы многие вещи, включая музыку Малера, Верди — да и вообще любого композитора — и трудности дирижерской профессии. Но обмен анекдотами за столом был явно не в его стиле.
«Ленни, как думаешь, с каким из твоих произведений мне стоит выступить?» — спросил в какой-то момент Герберт. Бернстайн задумался на минуту и решил дать максимально возмутительный ответ, зная, что Караян не поймет ни подтекста, ни иронии. «М-м-м… думаю, с „Мессой“», — сказал Бернстайн. «Месса», завершенная в 1971 году, стала самым крупным и сложным его произведением. Посвященная Джону Кеннеди, она соединяла в себе литургию католической мессы и популярную музыку, которую исполняли со сцены участники политического протеста. Бернстайну было уже нечего терять на том очевидно бессмысленном обеде, и он попытался привлечь внимание Караяна к произведению, за которое тот гарантированно не взялся бы — прежде всего потому, что это выглядело бы как знак уважения к Бернстайну: Караяну пришлось бы научиться его приемам и организовать целую «театральную постановку» в его стиле, для чего требовался оркестр, рок-группа, несколько поп-певцов, церковный хор и хор мальчиков. Более жестокого предложения сделать было невозможно. Бернстайн знал, что Караян не имеет ни малейшего представления о «Мессе», да и вообще вряд ли заинтересовался бы его музыкой. И дело было не только в зависти и подозрениях, витавших в комнате, — просто Караян редко обращался к музыке живых композиторов. Как и следовало ожидать, за «скромным» предложением Бернстайна последовала тишина, а затем просьба принести кофе.
Рассказав мне эту историю, Бернстайн добавил, как будто желая научить меня хорошим манерам: «Мне неинтересно участвовать в Dirigentenkrieg» (выдуманное немецкое словечко означает «война дирижеров»).
Потом Бернстайн рассказал, что в первый раз встретил Караяна в Милане в 1955 году. Тот дирижировал «Кармен» в «Ла Скала», а Бернстайн ждал, когда начнутся репетиции для восстановления «Богемы», отложенные из-за болезни тенора Джузеппе Ди Стефано. Посетив репетицию «Кармен», Бернстайн сказал, что стал свидетелем «величайшей дирижерской работы в опере, какую только наблюдал… за исключением собственной, конечно же». Этот типичный пример едкого юмора Бернстайна «был совершено не понят Гербертом, которой покачал головой с германской серьезностью и сказал: „Конечно“». Караян предложил Ленни покататься на лыжах, пока «Ла Скала» не назначит новую дату для представления «Богемы». Когда Ленни сказал, что у него с собой нет одежды для катания, Караян предложил ему взять что-нибудь из своих запасов. Именно тогда Бернстайн узнал, что его австрийский коллега был «на сантиметр ниже». Бернстайн принял одолжение как дружеский жест. «В конце концов, — сказал он иронично, — это был первый нацист, с которым мне довелось общаться».
Так проявляется суть работы дирижеров: она полностью поглощает тех, кто ею занимается. Даже величайшие рассказывают анекдоты о других, хотя обычно выбирают тех, кого уже нет в живых: это позволяет избежать обвинений во враждебности. Приемы дирижирования преподаются и передаются, как средневековое ремесло, от мастера к молодому подмастерью.
Однако эти приемы — которые в других областях назвали бы секретами мастерства — часто скрывают от коллег по цеху. Когда Бернстайн после многих лет ожидания наконец-то дебютировал с Берлинским филармоническим оркестром в 1979 году, он выбрал для этого Симфонию № 9 Малера и, как он выразился, «обучил» ей музыкантов. Даже великим оркестрам нужно показывать, что делать с произведением, если оно исполняется в первый раз. (Берлинцы не играли эту симфонию несколько десятилетий, и в практическом отношении в 1979 году она была для них совершенно новой.) Когда оркестр играет произведение в первый раз, дирижер говорит гораздо больше, объясняя им, как устроена пьеса, где проходит мелодия, как справиться со множеством вариантов интерпретации, и, может, даже дает фоновую информацию о композиторе и источниках его вдохновения. Когда у оркестра появляется коллективное знание произведения — обычно в результате многолетних исполнений с разными дирижерами, — музыканты больше этого не требуют и не хотят.
Комплекты скрипичных партий, книги для ударных, папки для деревянных и медных духовых — личный набор партитур Бернстайна, который он использовал, работая c оркестром над симфонией Малера, ноты, полные его правок, его «трюков», если хотите, — не вернулись в Нью-Йорк, когда он приехал домой. Обычно у дирижеров есть свой набор партитур для работы над вещами, с которыми они выступают. Если произведение является всеобщим достоянием, как, например, симфония Бетховена, маэстро покупает партитуры у издателей. Если работа защищена авторским правом — то есть ее нельзя исполнить, не получив согласия обладателя прав или его наследников и не заплатив им, — то музыкальные компании, которым позволено предоставлять в аренду оркестровые материалы, резервируют набор нот для известного дирижера, чтобы никто не мог их использовать и менять пометки, которые он сделал[1]. На то есть две причины. Прежде всего, в партитурах будут обозначены конкретные решения маэстро, такие как дирижерская сетка (как движется рука, например «на 2», «на 4») и смычковые штрихи (как секция струнных смычковых инструментов сгруппирует тысячи нот в своих партитурах в зависимости от того, идет ли смычок вверх или вниз). Оба этих фактора могут значительно повлиять на звучание музыки. Леопольд Стоковский, например, порой просил разные группы струнных играть свободно, не синхронизируя штрихи. Это создавало непрерывный звук невероятного воздействия и интенсивности, хотя с внешней стороны и казалось неопрятным.
Другая причина состоит в том, что в партиях хранятся секреты. Иногда это указания играть определенные ноты громче или тише, чем записано в партитуре. Иногда дирижер перерабатывает произведение, чтобы поддержать определенные ноты другими инструментами или изменить артикуляцию (акценты, длительность нот), тем самым выделяя интересные ему аспекты. Малер не дожил до того, чтобы самостоятельно выступить с Симфонией № 9, и в ее случае перед дирижером стоит еще более ответственная задача: изменить (и сообразно своим представлениям улучшить) напечатанное на страницах, превратить намерение композитора в реальность с помощью настоящего оркестра[2]. Бернстайн считался специалистом по Малеру и, возможно, дирижировал Симфонию № 9 чаще, чем кто-либо в мире, а еще он обладал многолетним опытом, который был широко отражен в его оркестровых партиях. Караян же в этом репертуаре выступал скорее как новичок: раньше он не интересовался ни Малером, ни его девятью симфониями. И вот из нью-йоркского офиса Бернстайна стали поступать звонки и письма с требованием вернуть его музыкальные материалы из Берлина. Шли месяцы. Караян тем временем записал Симфонию № 9 с Берлинским симфоническим оркестром и получил за это премию Gramophone. Потом, когда ноты наконец вернулись, Леонард пришел к мнению, что Караян использовал все его пометки во время выступлений и записей. Бернстайн постарался, чтобы об этом узнали все.
Может быть, Караян пытался отомстить Бернстайну, который якобы скопировал его версию Девятой симфонии Бетховена с Нью-Йоркским филармоническим оркестром в 1958 году. Через неделю после того, как Караян четыре раза выступил с этим оркестром в Карнеги-холле, Бернстайн подготовил телепередачу о симфонии, которую только что интерпретировал австрийский дирижер.
Караян и Бернстайн завидовали друг другу и боялись воровства, как будто можно воспроизвести исполнение другого человека. Поскольку у Караяна была не полная партитура Малера, которой пользовался Бернстайн, а только ее части, он не мог в полной мере понять редакцию Ленни. Для этого требовалось услышать исполнение на репетициях, одного напечатанного текста было недостаточно. И хотя ничто не мешало Караяну слушать архивные записи выступлений Бернстайна, на деле Симфония № 9 Малера в исполнении одного из них оказывала совсем не такой эффект, как в версии другого. Одно и то же произведение, сыгранное двумя разными дирижерами с одним и тем же оркестром с промежутком в несколько месяцев, могло производить — и производило — совершенно разные впечатления на слушателя, хотя ингредиенты магической формулы были большей частью одними и теми же. «Дайте трем великим поварам один рецепт, и у них получится три разных блюда» — этот афоризм можно применить к музыкальной партитуре и ее великим интерпретаторам.
В версии Бернстайна темп постоянно колеблется. Он то и дело замедляется, чтобы подготовить слушателя к вещам, которые хочет выделить дирижер; он превращает небольшую печальную мелодию из двух нот в первой части симфонии в подобие вдоха и выдоха. Караян, со своей стороны, ведет начало симфонии без особых изменений темпа. Вместо этого он последовательно подходит к каждой новой кульминации, оставляя rallentando — постепенное замедление темпа — для более длительного воздействия. Таким образом создается впечатление более широкого дыхания, а не малых и четко обозначенных вздохов. И все эти вещи — и их влияние на остальную симфонию — реализуются за первые минуты эпического произведения.
Все великие дирижеры разные. Посредственные — более-менее одинаковые.
Человек, который стоит перед симфоническим оркестром, должен сделать две вещи: невозможную и маловероятную. Невозможная задача — склонить сотню музыкантов к согласию по определенному вопросу, а маловероятная — сделать это, размахивая руками. В сущности, работа дирижера — своего рода алхимия. Музыка — единственная невидимая форма искусства. Это контролируемый звук, который создается таким образом, чтобы с течением времени пройти через серию трансформаций. Возможно, это логично, что, когда необходимо управлять чем-то невидимым, назначенный руководитель делает это жестами, не производя звуков.
Искусству дирижирования не так уж много лет — около двухсот, хотя, как в средневековой гильдии, опытные мастера учат ему подмастерьев, демонстрируя собственную работу. Кроме того, оно обладает загадочной привлекательностью для всех, кто хоть однажды видел дирижера за работой. «Наверное, это потрясающе — ощущать такую власть», — нередко говорят мне люди (почти всегда — бизнесмены). Я отвечаю, что почувствовать какую-то власть напрямую обычно невозможно. Для меня это прежде всего серьезнейшая ответственность, хотя я очень хорошо чувствую мощные силы, которые проходят сквозь меня.
Еще я часто слышу: «Наверное, у вас шикарная жизнь». В реальности в большинстве случаев она выглядит так: вы пакуете всё имущество в два очень тяжелых чемодана: одежду для дирижирования в один, обычную одежду во второй, ноты берете в руки, летите в другой часовой пояс, заселяетесь в отель с равнодушным персоналом, обустраиваете номер, чтобы он мог служить вам студией, ставите будильник на несусветную рань, вынуждаете непослушное тело собраться, а потом идете под дождем к служебному входу, говорите человеку за стеклом фразу: «Здравствуйте, я приглашенный дирижер» — или ее эквивалент на одном из известных вам языков, выходите к сотне скучающих государственных служащих, также известной как «оркестр», — ведь во многих странах оркестранты получают зарплату из бюджета — и начинаете репетировать пьесу, которую они либо слишком хорошо знают, либо никогда не слышали, но заранее не любят. В таких обстоятельствах слова «шикарная жизнь» — последнее, что приходит на ум.
Но мы делаем это и стремимся к этому, расстраиваемся, когда нас не приглашают дирижировать любимую музыку, разочаровываемся, если не зовут повторно, и убеждены, что каждое наше выступление было прекрасным, потому что оно не могло быть другим, однако фыркаем, обсуждая выступления других («Там на этой ноте tenuto[3], а он играет ее коротко!»), и подсматриваем за ними, чтобы узнать, кому какую работу дали и где и как он (обычно дирижер — мужчина) ее получил. «Он получил ее, потому что лучше тебя», — такого ответа не бывает. Всегда есть «причина», и обычно она не относится к музыке: это политика, деньги, секс.
Однако все мы испытываем сильнейшее влечение к такой работе, и радость находиться ровно посередине между теми, кто создает, и теми, кто воспринимает звук, вызывает привыкание сродни наркотическому. При правильных условиях между музыкантами и аудиторией заключается божественное согласие, которое невозможно предвидеть, и, хотя добиться его достаточно трудно, кое-кому это прекрасно удается. В такой момент вы оказываетесь частью того, что остается на всю жизнь, создает незабываемые воспоминания, проясняет тайны, останавливает время и объединяет саму человеческую сущность со всем и всеми. Да, такое бывает.
Впрочем, случаются и ужасные разочарования. Дирижер всегда старается подготовиться ко всему, сказать необходимое, сделать то, что нужно оркестру. Но порой мы ощущаем враждебность еще до того, как встанем на подиум на первой репетиции. В оркестрах используют оценочные ведомости, чтобы музыканты выразили мнение о дирижерах, которые ими руководят. Это абсолютно закрытая информация: ее используют, когда решают, приглашать ли дирижера повторно. Я помню, как много лет назад перед последней репетицией с одним американским оркестром увидел оценочные ведомости у всех на пюпитрах. Я подумал, что лучше бы их заполнили после выступлений — то есть когда будет достигнут результат нашей совместной работы, — а не перед генеральной репетицией. Также я помню, как музыкант подошел ко мне и сказал, что мое недавнее выступление с другим оркестром (для которого искали руководителя) получило самую высокую оценку «за всё время». (Конечно же, поделившись со мной, он нарушил негласные правила.) Впоследствии мне так и не предложили должность, и было лишь одно слабое утешение, когда я столкнулся с оркестранткой из этого, уже распущенного тогда, коллектива, и она сказала, что играла со мной и не поняла, почему пост предложили не мне, «а тому болвану. Окажись на его месте вы, — сказала она, — у нас до сих пор был бы оркестр». Это, конечно, тоже ловушка, потому что, ответь я что-нибудь резкое, мое высказывание пошло бы дальше — даже если оркестрантка хотела сделать искренний комплимент.
Ни один дирижер не способен работать без оркестра. Мы упражняемся в ремесле, только практикуя его; репетировать в одиночестве в студии не получится. Кроме того, если кому-то не нравится выступление, главной мишенью для критики оказывается дирижер. Мы можем сорвать бурные овации и получить отличные отзывы, но всё же нас не пригласят снова. Другими словами, весь процесс, известный как «карьера», кажется непредсказуемым. Он выглядит как закономерное развитие, лишь будучи сжат до краткой биографии на личном сайте.
Гольфисты порой надевают футболки с надписью: «Ненавижу гольф. Ненавижу гольф. Ненавижу гольф. Обожаю гольф. Ненавижу гольф», и нам это отчасти знакомо. Когда работа заканчивается, не остается абсолютно никаких следов, кроме напечатанной программки и рецензий, если вы достаточно глупы, чтобы им верить (впрочем, верят обычно все). Я до сих пор помню, как расстраивался, когда не смог показать матери ничего, вернувшись после дирижерского задания, и только на словах описал, как замечательно это было. Во всех ранних письмах Леонарда Бернстайна к его преподавателю фортепиано Хелен Коутс речь шла о том, как великолепно он выступил и как понравился оркестру. Читая их, начинаешь думать, что Ленни был величайшим себялюбцем всех времен и народов, однако я прекрасно понимаю, что он хотел доставить радость женщине, которую мы все знали как мисс Коутс, — ведь она не могла увидеть, как ее любимый молодой ученик дирижирует оркестром. А еще Ленни хотел, чтобы эфемерные занятия тут и там на земном шаре, из которых строилась его карьера, каким-то образом сохранились, хотя бы и на словах. Более поздние выступления сохранились в записях и телепрограммах, но в первые послевоенные годы он документировал свою жизнь и определенно ожидал, что письма сохранятся, — как оно и вышло на самом деле.
Пятьдесят лет работы дирижером, возможно, дают мне право исследовать и вспоминать, объяснять и обосновывать, делиться историями, рассказанными великими людьми, с которыми я был знаком и которые в душе понимали, что я передам всё это дальше. Мы погрузимся в мир, действительно мало кому известный; мы посмотрим, что он содержит, как ощущается, чему я научился у мастеров и их магии. Вполне вероятно, что это поможет вам, когда на следующем симфоническом концерте вы будете лучше слушать — ушами, глазами, сердцем и мозгом — звучащую музыку.
Глава 1. Краткая история дирижирования
Всё началось достаточно прозаично. Любой группе музыкантов, будь то монахи в монастыре IX века или оркестранты, нанятые венгерским принцем XVIII века, всегда нужен лидер — чтобы проводить репетиции, давать сигнал о начале и, возможно, управлять динамикой. Сперва в большинстве случаев таким лидером был композитор.
Профессия дирижера, какой мы знаем ее сегодня, оформилась в середине и во второй половине XIX века, и ее появление вызвало некоторое сопротивление со стороны тех, кто предпочел бы иметь над собой не такого явного организатора. Роберт Шуман в 1836 году называл дирижерство «манией» и «необходимым злом», а Джузеппе Верди пришел в ужас, когда узнал, что дирижеры кланяются публике: он видел в них только технических работников, необходимых для исполнения его опер. В 1872 году он написал своему издателю Джулио Рикорди: «Сейчас модно аплодировать и дирижерам, и я это порицаю».
Верди можно посочувствовать. Большинство его опер, включая «Риголетто» и «Травиату», ставились до появления дирижеров и до того, как в оперных театрах стали устраивать оркестровые ямы. Оркестром в те времена управляла первая скрипка прямо со своего места перед сценой, и порой этому «руководителю» приходилось прерывать собственную игру, чтобы подавать сигналы певцам и музыкантом при помощи смычка. Под конец долгой карьеры Верди, которая продолжалась до 1890-х годов, в первый раз репетиции и представления его «Аиды», «Отелло» и «Фальстафа» в «Ла Скала» возглавил дирижер. Оркестр сидел в только что устроенной оркестровой яме, а Верди — в зале. Порой он выбегал в проход, чтобы выразить протест против того, что ему не нравилось, и, судя по всему, это случалось довольно часто.
Тот факт, что роль дирижера стала основной, неотъемлемо связан с развитием западной музыки как таковой и появлением большого числа концертных залов и оперных театров в городах. Это было одновременно практичное и музыкальное решение. Практичность состояла в развитии нотной записи, которая стала показывать, как лучше играть музыку, и позволять исполнителям воспроизводить ее, ни разу не слышав и без присутствия самого композитора.
Всё началось со своего рода предосторожности, как только идея исполнять симфонию без присутствия при этом композитора стала новой нормой. Такое было бы невозможно, если б его намерения не отображались на страницах партитуры. С тех пор как у человечества появилось желание петь и танцевать, большая часть музыки изобреталась на месте и передавалась с помощью заучивания наизусть и имитации. Например, мы не можем точно представить, как звучала музыка при дворе Клеопатры, хотя знаем, какие использовались инструменты, по рисункам и живописным изображениям: увы, остатки системы нотной записи не были расшифрованы. Возможно, звучание тех мелодий отчасти сохранилось спустя тысячелетия в современной народной музыке Египта. Мы можем только вообразить их, как это сделал Верди в партитуре «Аиды» в 1871 году, Алекс Норт в музыке к фильму «Клеопатра» 1963 года и Сэмюэл Барбер в опере «Антоний и Клеопатра» 1966 года.
Совсем по-другому обстоит дело с музыкой Баха и Моцарта, которая до сих пор существует и которую мы понимаем в записанном виде. Хотя детали стиля всегда зависят от интерпретации, нам известны партитуры «Страстей по Матфею» и «Дон Жуана» в том виде, в каком они были созданы[4]. Без нотной записи в нынешней музыке сохранилось бы только слабое эхо Баха и Моцарта; мы не смогли бы исполнить произведения из того репертуара, который сегодня считаем бесценным.
Система нотации, что развивалась столетиями и сейчас используется по всему миру, появилась благодаря Римско-католической церкви и ее желанию стандартизировать служебные песнопения. Эта система сильно расширилась за последние сто пятьдесят лет. Состоит она из следующих трех элементов.
Во-первых, сами ноты: они как будто парят над пятью параллельными линиями, которые называются нотным станом. Их изобрел монах Гвидо д’Ареццо около тысячи лет назад. Партитура читается слева направо, как книга. Чем выше нота расположена на стане, тем более высокий звук она представляет. Когда используется несколько нотоносцев, как в оркестровой партитуре, ноты, стоящие ровно одна над другой, должны звучать одновременно. Таким образом, дирижер видит, как партия флейты сочетается с партией гобоя и контрабасов. Флейтист, гобоист и басовая секция в то же время не имеют возможности знать, что играют другие люди, потому что у них в нотах нет чужих партий. Один дирижер в полной мере видит намерения композитора, потому что только у него есть полная партитура.
Поначалу дирижеры не считали необходимым изучать все эти многочисленные партии, звучащие одновременно. Более того, многие произведения для оркестра не печатались в виде оркестровой партитуры: выходили отдельные партии, или клавир (ноты для фортепиано) для дирижера, или то и другое сразу. В клавире все партии оркестра помещаются на двух нотоносцах, как будто произведение написано для сольной игры на фортепиано. В некоторых случаях дирижер был скрипачом и управлял оркестром исключительно по партии скрипки. Иногда он играл на клавишном инструменте и дирижировал, двигая головой и исполняя версию симфонии для фортепиано, в то время как у оркестрантов были свои отдельные партии. Так случалось даже во времена Бетховена, хотя в его оркестровке нет партии фортепиано. Обе эти традиции имеют смысл. Прежде все музыканты ориентировались на клавесиниста, у которого была самая сложная партия, полностью сопровождавшаяся гармонией, и который, в отличие от других оркестрантов, играл с первого до последнего момента без пауз. В иных случаях, например в оперном театре, первая скрипка управляла оркестром с помощью смычка, выполняя сложную задачу координации певцов с оркестром. В начале XX века скрипачи дирижировали оркестрами в отелях и кинотеатрах на показах немого кино. Так делал Юджин Орманди в нью-йоркском кинотеатре «Капитолий» и мой дед Бальдассаре Мосери в отеле «Уолдорф-Астория».
Когда музыка стала сложнее и у композиторов появилось желание придумывать новые, необычные комбинации инструментов, любой, кто пытался дирижировать без оркестровой партитуры, рисковал остаться безо всякого представления, правильно ли исполняют музыканты свои индивидуальные партии. Мсье Альбер Ив Бернар, мой преподаватель в Беркширском музыкальном центре в Тэнглвуде, любил рассказывать историю о дирижере, который пытался репетировать «Ученика чародея» Поля Дюка, когда Бернар был молодым скрипачом во Франции перед Второй мировой войной. Большинство знает эту симфоническую поэму по анимационному фильму Уолта Диснея «Фантазия» 1940 года, однако она была написана в 1897-м.
Когда французский оркестр дошел до места, где бурная первая кульминация сменяется полной остановкой (а в мультфильме Микки-Маус рубит заколдованную метлу на щепки, после чего она медленно возвращается к жизни), требовалось сыграть короткие низкие ноты, сменяющиеся тишиной. В следующем такте были только контрафагот и пиццикато на контрабасах. Остальной оркестр — около девяноста музыкантов — сидел тихо и отсчитывал ритм. После этого целый такт не звучало вообще ничего. Через секунду-другую контрафагот, литавры, виолончели и басы играли одну ноту в унисон.
Дирижер решил, что вышло недоразумение. Он подумал, что либо оркестр считал неверно, либо партии переписывали после обеда (когда переписчики, выпив слишком много вина, чаще ошибались или что-то упускали). Тогда он снова попробовал сыграть эту часть — и получил такой же результат. Оказалось, он дирижировал по партитуре первых скрипок, а не по оркестровой. Первые скрипки в тот момент ничего не играли, и в нотах у него тянулась пауза длиной в восемьдесят четыре такта, — то есть понять, кому надо играть, было невозможно. Его расстройство сменилось яростью; он не верил, что намерение композитора именно таково. Он выкрикнул что-то непечатное, бросился вон из комнаты и отказался выступать.
Во-вторых, к нотному стану из пяти линий, который точно показывал музыканту, какую ноту и как долго нужно играть, примерно пятьсот лет назад добавили тактовую черту. Это вертикальная линия, которая идет через весь стан и отмечает определенное число метрических единиц перед следующей сильной долей. По сравнению с музыкой других культур — например, индийской или африканской — западная музыка использует очень простую ритмическую систему. Тактовая черта показывает музыканту, когда требуемое количество долей — единиц метра — уложится в такт. Если в произведении три доли, сильная и две слабые, то трехдольный метр сохраняется до конца. В других произведениях может быть четыре или две доли. Классическая музыка с пятью или семью долями в такте встречается очень редко, хотя это распространенный случай в незападных культурах. До XX века целые части симфоний сохраняли один метр от начала до конца. Мало того, большая часть западной музыки писалась в одном повторяющемся метре, а в популярной музыке такая ситуация сохранилась и сейчас.
Представьте, если угодно, целый музыкальный язык, в котором пульсация, или метр, остается неизменной от начала и до конца, — и вы поймете, насколько прост этот аспект западной музыки. (Вспомните о танцевальной музыке любого рода, и вы поймете, что там нет нужды в дирижере. Фразы «Раз, два, три, четыре!» обычно достаточно, чтобы запустить музыку в движение до конца песни или танца.) Если метр четырехдольный, то тактовая черта ставится после того, как заполнятся четыре доли. Первая доля после тактовой черты — самая сильная, и дирижер обычно обозначает ее нисходящим жестом правой руки. Последняя доля метра — слабая[5].
Музыканты воспринимают тактовую черту как промежуточную границу. Таким образом, западная музыка получила своего рода «миллиметровую бумагу» с нотами на стане, которые читаются слева направо, вертикальными линиями для обозначения повторяющегося метра и двойной тактовой чертой, указывающей на конец произведения.
Без дирижера музыканты общались, просто кивая друг другу, как правило в начале каждого такта, — это и сейчас можно увидеть на концертах камерной музыки. Но когда композиторы увеличили число задействуемых инструментов и появилось то, что мы сейчас называем оркестром, этот метод коммуникации стал невозможным. (Конечно, зрительный контакт и физические жесты, которыми обмениваются члены одной группы в оркестре — скрипки, медные духовые и т. п., до сих пор играют очень важную роль, так же как и контакты между лидерами групп, например первой виолончели с первой скрипкой.) Кроме того, музыку для оркестра стало невозможно играть без дирижера: в ней появились новые способы расширить выразительность нот, которые весьма упрощенно выглядят на странице. Благодаря им повторяющийся метр стал гораздо сложнее, а значит, интереснее.
Наконец, эта очень простая — и практичная — система нотации эффективно обеспечивала музыкантов необходимой информацией, но она не показывала, как именно играть ноты. Она не сообщала, насколько быстро нужно играть (то есть не задавала темп). Она не обозначала, громкая музыка или тихая и надо ли связывать ноты одну с другой гладко или играть их отрывисто. Шли годы, и в новой музыке начали одновременно звучать несколько мелодий, а плотность оркестровки (какие музыканты и в каком количестве играют одновременно) стала резко отличаться в разных произведениях. Кроме того, композиторам стало хотеться, чтобы музыкальное высказывание не сохраняло один повторяющийся метр, и в их музыке за трехдольным метром мог последовать четырехдольный или двудольный и т. д.
Что важнее, композиторы и публика жаждали гораздо большей гибкости в исполнении музыки с постоянным метром (то есть львиной доли всего, что существовало в то время). Им хотелось, чтобы тактовые черты размылись и прежде неизменный и негибкий ритм, записанный нотами, приобрел бесконечные возможности для нюансировки. Другими словами, более сложной стала не только сама музыка, но и исполнение как старых, так и новых произведений — если говорить о манипуляциях с метром и о создании новых уровней выразительности.
Для этого исполнительского приема итальянцы использовали слово «rubato», что переводится как «украденное». Музыканты словно крадут немного лишнего времени, отходя от жестко заданных на странице нот. Например, они могут чуть затянуть слабую долю или ускорить последовательность нот, делая ее более волнующей. Это новое выразительное средство, когда украденное в одном месте время возвращалось в другом, требовало от музыкального коллектива такого, что нельзя выполнить без руководителя. В этом случае без человека, который определяет, сколько времени можно взять и когда его использовать, легко воцарится хаос: например, когда скрипач захочет замедлиться, а фаготист в этот момент устремится вперед. Не будь дирижера, понадобилось бы ежеминутно собирать оркестровый комитет и решать, как следует проявлять выразительность и как сохранить — вот уж замечательно туманное слово! — «музыкальность».
Понятно, что композиторы хотели сами обозначать, должна ли музыка ускоряться или замедляться, хотя, как я говорил, метр — число долей в такте — оставался постоянным. Для этого были изобретены новые виды акцентов. Динамика, которая раньше сводилась к простому понятию «тихо» («piano», сокращенно p) и «громко» («forte», сокращенно f), теперь шла от «очень, очень, очень тихо» (pppp) до «очень, очень, очень громко» (ffff).
Чтобы сам композитор мог недвусмысленно указать точную скорость исполнения музыки, стал использоваться метроном[6]. А чтобы пояснить темп в целом, в партитуру вводились ключевые слова, например «andante» («шагом») и «largo» («широко»), порой и без обозначения метронома. Когда их не хватало, добавлялись наречия и целые фразы, лучше выражающие чувства или впечатления, которые имел в виду композитор. Ноты могут начинаться с «allegro brillante» («быстро, блестяще»), или с «andante mesto» («печальным шагом»), или, как в случае с «Тристаном и Изольдой» Вагнера, с «langsam und schmachtend» («медленно и томительно»).
Конечно, вы уже поняли, в чем здесь проблема: что такое «медленно и томительно» в объективных терминах? Нужно ли дирижировать всю прелюдию к «Тристану и Изольде» с «медленной и томительной» скоростью, как делает Бернстайн в полной записи произведения? Приобретает ли «томительное» приоритет над «медленным» в кульминации, как во всех других случаях?
Современник Вагнера в полном смысле слова (они оба родились в 1813 году) Джузеппе Верди, возможно, был самым точным из композиторов той эпохи — до того, как Рихард Штраус, Джакомо Пуччини и Густав Малер наполнили свою музыку огромным количеством указаний. В отличие от Вагнера, который презирал метроном, Верди давал дирижеру числовое обозначение темпа, а также указывал, как он должен «ощущаться». Например, в «Риголетто» темп шестьдесят шесть ударов в минуту (то есть чуть быстрее, чем один удар в секунду) помечен как «andante sostenuto» («сдержанным шагом») в прелюдии к первому акту; «andante mosso» («энергичным шагом») — в дуэте Риголетто и наемного убийцы Спарафучиле, с которого начинается вторая сцена первого акта; «adagio» («медленно») — в начале третьего акта; «andante» — в известном квартете; «largo» — в финальном соло Джильды прямо перед тем, как она умирает.
Верди явно не только называет чувство, которое хочет вызвать, но и показывает, как его добиться. То, что музыка с характеристиками «andante mosso», «andante», «andante sostenuto», «adagio» и «largo» должна играться в одном и том же темпе, потрясает и демонстрирует изобилие значений при описании одного и того же объективного темпа, своеобразие «стандартных блоков времени», из которых Верди создавал свои оперы. Но при всей этой конкретности нельзя представить, чтобы в двух постановках «Риголетто» музыканты смогли или захотели одинаково придерживаться инструкций, даже если дирижер будет пытаться их соблюсти. Стоит сказать, что пытаются очень немногие, — к этому я вернусь далее.
В общем, в нотах появились указания, основанные на исполнительской практике предыдущего поколения, то есть интерпретация напечатанного. Таким образом, если вы хотите знать, как Вагнера исполняли в его время, посмотрите на лексикон, который использовался в напечатанных нотах его последователей Штрауса и Малера. Но хотя описания становились всё более точными, ноты всё равно надо было интерпретировать и адаптировать к разным условиям — художественным, акустическим и техническим, как бы ни старались исполнители придерживаться напечатанного музыкального текста.
И здесь кроется затруднение: какой бы точной ни была нотная запись, ее всё равно надо толковать. В любом исполнении Симфонии № 5 Бетховена звучат одни и те же ноты, кто бы ни дирижировал и какой бы оркестр ни играл. Каждый музыкант пытается сделать то, что написано перед ним, однако не бывает двух одинаковых исполнений — да и не может быть.
В музыке, которую писали до середины 1700-х годов, каждый оркестрант легко понимал, как его партия встраивается в инструментальное произведение. Темп фиксировался в самом начале, и мало кому приходилось долго ждать своего вступления. По большей части все играли непрерывно, поэтому не возникало нужды считать длительность пауз; музыкант начинал с начала и продолжал до конца. Ансамбль был небольшим. Музыка исполнялась в таверне, во дворце, в просторном университетском помещении. В Лейпциге оркестр репетировал и выступал на третьем этаже магазина, где продавали одежду и ткани (по сей день этот коллектив называется Gewandhaus Orchestra — «оркестр в магазине одежды», хотя выступает в концертном зале, построенном в 1981 году). К концу XIX века в крупных городах Европы, России, Соединенных Штатов и Латинской Америки были построенные концертные залы, которые могли принять больше зрителей и более крупные инструментальные ансамбли. Композиторы мыслили масштабно, и нередко для исполнения произведения требовалось больше ста оркестрантов, а еще хор и певцы-солисты. Так, 12 сентября 1910 года Густав Малер представил в Мюнхене свою Симфонию № 8, которая стала известна как «Симфония тысячи». Фотография ее американской премьеры в марте 1916 года (Леопольд Стоковский и Филадельфийский оркестр) дает хорошее представление о том, почему для музыки, писавшейся и исполнявшейся в ту пору, требовался дирижер.
Еще в первой четверти XIX века было почти невозможно исполнять новую музыку, вроде симфонии Бетховена, без дирижера, стоящего перед музыкантами. Хорошо известна история, когда его важность была продемонстрирована на практике: тогда оркестру поставили задачу игнорировать дирижера, поскольку он гарантированно сбил бы музыкантов. Это случилось на премьере Девятой симфонии Бетховена 7 мая 1824 года. Хотя композитор уже полностью оглох, он настоял на том, чтобы встать перед оркестром и попытаться дирижировать. То же сделал и музыкальный руководитель Михаэль Умлауф. Музыканты смотрели на Умлауфа, а внимание зрителей было приковано к Бетховену, который переворачивал страницы и делал жесты, абсолютно не соответствующие динамике и акцентам, звучавшим в реальности. Очевидно, Бетховен часто оказывался в другом месте партитуры. И когда симфония завершилась бурной и всеохватной одой «К радости», Бетховен продолжал дирижировать, воображая несколько более медленное исполнение и не имея ни малейшего представления о бурных овациях за спиной. Только когда солистка, контральто Каролина Унгер, положила руки ему на плечи и повернула его к залу, Бетховен узнал о своем триумфе.
Фото для прессы на память об американской премьере Симфонии № 8 Малера в Филадельфии
В 1836 году Роберт Шуман писал, что «хорошим оркестром… нужно дирижировать только в начале и при смене темпа. Всё остальное время дирижер может тихо стоять на подиуме, следить за нотами и ждать, пока его указания понадобятся снова». Если это и подходило для простого и ясного исполнения, которого он хотел добиться, то скоро стало абсолютно невозможно интерпретировать большие работы без всезнающего маэстро, поскольку композиторы принялись писать музыку, в которой не только расширилось число музыкантов в оркестре, но и начали выборочно использоваться отдельные инструменты.
В 1850 году в немецком городе Веймаре оркестрант, игравший на тарелках, открыл новенькие ноты прелюдии из первого акта «Лоэнгрина» Вагнера, которая продолжается около десяти минут, и обнаружил, что у него в партии четыре ноты, причем первая звучит после пятидесяти пяти тактов в размере 4/4, помеченных единственным указанием темпа: «langsam» («медленно»). Конечно, пятьдесят раз досчитав до четырех, он поднял тарелки, чтобы подготовиться к вступлению. С тех пор как в начале произведения вступили скрипки, прошло больше шести минут. А что, если он сбился со счета? Левая рука с закрепленной на ней тарелкой пошла вверх, правая — вниз. Мог ли он правильно вступить без указаний от дирижера — единственного человека, который знал, чем с первого аккорда заняты все остальные? Удар тарелок, помеченный фортиссимо[7], особо не спрячешь, поэтому музыканту лучше было не ошибаться. На мировой премьере в 1850 году дирижировал Ференц Лист (Вагнер, изгнанный из Германии, находился тогда в Швейцарии), и мы можем только предположить, что он посмотрел на музыканта с тарелками прямо перед кульминационным моментом, и всё прошло хорошо.
Эта история подводит нас к более широкому вопросу о том, как опера сделала дирижера абсолютно необходимым. Веками считалось, что в греческих пьесах актеры просто произносили свои реплики. Но как только было решено, что актеры их пели, группа итальянцев, вошедшая в историю как «Флорентийская камерата», около 1600 года решила восстановить музыкальный театр греков, основателей западной культуры, и рассказывать великие истории с помощью пения, движения, декораций и костюмов[8]. Поскольку за дело взялись высокообразованные итальянцы, они выбрали для названия не греческое слово, а латинское. Они описали эту одновременно новую и старую форму искусства, взяв множественное число от слова «opus» («работа») и назвав ее «работы» — «opera».
Чтобы исполнить оперу, требовалось больше одного руководителя для подготовки, координации и синхронизации ее многочисленных элементов. Оперу, как торжественную мессу или праздничные ритуалы, очень сложно сочинять, репетировать и исполнять. В таком случае дирижер вел инструментальный ансамбль, сидя за клавишами, жестами общался с певцами и задавал темп для танцоров, наблюдая за их движениями.
Два столетия спустя эта форма искусства перестала быть сугубо придворной. Она переместилась в общественные театры и привлекала как аристократов, так и массы страстно увлеченных граждан. Еще на ранних этапах было замечено, что оркестр с его контрабасами загораживает вид на сцену и мешает той части аудитории, которая сидит на уровне пола (в отличие от богатых завсегдатаев в ложах наверху). Еще больше отвлекал дирижер. Обычно он стоял на полу лицом к певцам, но ближе к авансцене и спиной к большей части оркестра, которая тоже сидела лицом к сцене. Он одновременно подсказывал и руководил. Во многих случаях он также следил за экспрессивным пением, к которому великие артисты-интерпретаторы добавляли трели, каденции и переходные ноты, не записанные в партитурах, но ожидаемые композитором, поскольку стили того времени постоянно развивались. Это важно, поскольку оркестр мог слышать и видеть артистов, а значит, относиться к опере как к камерной музыке: реагировать одновременно на дыхание и жесты певцов и на движения дирижера, когда было необходимо изменить темп.
Проблемы баланса между певцами и оркестром не существовало, потому что звук шел к певцам и от аудитории. Мы провели эксперимент с этой практикой в Оперном театре Питтсбурга на постановке «Золушки» Россини в 2003 году. Оркестровую яму подняли, и музыканты могли видеть сцену, сидя лицом к певцам, а я, дирижер, стоял ближе к краю. Сперва певцы начали паниковать, потому что оркестр звучал очень громко. Мы выключили все мониторы — колонки, которые стоят по бокам и усиливают звучание оркестра; больше мы в них не нуждались. Да, кое-кто жаловался, что грифы контрабасов нарушают сценическую иллюзию. Но мне никогда не было так легко дирижировать оперу этого периода, и в конечном счете эксперимент признали успешным и певцы, и восторженные оркестранты, которые оказались полностью вовлечены в постановку и взаимодействовали с ее замечательными участниками.
Опера часто писалась для конкретных певцов, и во время репетиций ноты добавлялись в их вокальные партии или убирались, чтобы показать голос с наилучшей стороны. Такое было в порядке вещей. Порой, когда другие исполнители получали эти роли, композитор мог написать им иные арии, чтобы лучше показать новый талант.
В XIX веке эра бельканто, когда каждая ария должна была демонстрировать возможности голоса певицы, постепенно ушла. В 1860-е годы Аделина Патти, самое известное сопрано той поры, пела арию Розины «Una voce poco fa» («Если сердце полюбило») из оперы Россини «Севильский цирюльник», внося в нее украшения — рулады и каденции, которые мы сейчас ассоциируем с исполнительским стилем той эпохи. Россини, отличавшийся крайней язвительностью, сказал ей потом: «Прекрасная ария. Кто написал?»
В 1972 году, когда Леонард Бернстайн репетировал «Кармен» в Метрополитен-опере, у него возникло серьезное столкновение с Мэрилин Хорн, которая в первый раз пела главную партию. Хорн обладала одним из величайших меццо-сопрано столетия и в последней строчке «Хабанеры» переходила в мощный нижний регистр — грудной регистр, чтобы спеть строчку «Prends garde toi» («Поберегись»), замедляясь до полной остановки. Бернстайн сказал: «Джеки [так ее звали близкие], пожалуйста, не делай этого. Ты просто красуешься вместо того, чтобы быть Кармен». Хорн не согласилась. В ее представлении для превращения в Кармен требовалось, чтобы затертая строчка прозвучала с запоминающимся финальным акцентом: «Если хочешь меня любить, тебе должно быть очень, очень страшно». Кроме того, она указала, что фанаты хотят услышать эту уникальную особенность ее голоса, о которой они узнали благодаря впечатляющему исполнению более ранней музыки, обычно Россини и Беллини.
На генеральной репетиции в зале «Метрополитен», забитом спонсорами оперы и фанатами, я сидел за Бернстайном в первом ряду оркестрантов, чтобы делать заметки. Когда Хорн дошла до этого места в партии, то решила петь его громче и медленнее, чем когда-либо удавалось или удастся другому человеку. Бернстайн, который всегда был прекрасным аккомпаниатором, подождал, пока она дойдет до, казалось, бесконечного «», и, инстинктивно понимая, что она сделает, поднял правую руку, показывая огромную растянутую слабую долю, — а потом на «toi» дал гигантскую сильную долю (в партитуре здесь стоит «piano» — «тихо»), из-за чего оркестр заиграл фортиссимо. Пока продолжался этот грохот, он прокричал ругательство из двух слов, которое услышал только я. Я не записал его в блокнот. Стоит ли говорить, что это был незабываемый момент для двадцатисемилетнего подмастерья. (Ниже мы увидим, кто из них оказался прав.)
Сама идея фундаментального, правильного и неизменного текста для оперы долго не находила воплощения, и Верди, возможно, первым настоял на ней. Его карьера композитора, за которую он написал более двадцати опер, продолжалась с 1839 по 1893 год. Другими словами, в деле постановки и представления опер он видел всё — со времен, когда певцы управляли сценой, до момента, когда право последнего слова перешло к композитору и замещающему его дирижеру (за исключением случаев, когда диву не удавалось переубедить никому, даже Леонарду Бернстайну). Как я говорил выше, техника дирижирования оперой — определенно намного более трудная по сравнению со всем остальным. Поэтому неудивительно, что почти все великие дирижеры конца XIX и первой половины XX века имели опыт работы в оперных театрах.
В XIX веке появилось решение, позволившее избавиться от раздражающей помехи, которую представлял собой оркестр с его освещенными пюпитрами и верхушками контрабасов и фаготов, закрывающими вид на сцену. Оно только закрепило потребность в дирижере. Таким решением стала оркестровая яма. Сперва перед сценой начали опускать пол, и это была уже весьма хорошая идея, однако полностью решение реализовали в 1876 году, когда открылся театр мечты Вагнера — его Festspielhaus (Фестивальный театр) в Байройте: там появилась закрытая оркестровая яма, отчасти уходящая под сцену.
Вагнер писал об этой идее в 1850-е годы, задолго до того, как воплотилась его мечта. Верди подерживал его, так как верил, что так звучание оркестра станет более целостным. «Это не моя идея, но идея Вагнера, — писал он. — Она прекрасна. Кажется невозможным, что сегодня мы терпим вид потертых фраков и белых галстуков, например [дирижера], в сочетании с костюмами египтян, вавилонян и друидов и т. д. и т. п. [певцов на сцене] и, более того, вид всего оркестра в вымышленном мире, почти посередине пола, среди свистящей и аплодирующей толпы. Добавьте сюда неприличное зрелище верхушек арф, грифов контрабасов и дирижерской палочки высоко в воздухе…»[9]
В Фестивальном театре в Байройте, разработку которого контролировал лично Вагнер, зрители сидят полукругом, как в амфитеатре. Ряды постепенно поднимаются, с первого до последнего, нет никаких боковых лож для аристократии, и с каждого места открывается вид прямо на сцену. Оркестровая яма оказалась не только ниже, чем первые ряды, но и продолжалась вниз под сцену, чтобы музыканты сидели на трех уровнях разной высоты. Край ямы — изогнутый навес из дерева и кожи — был устроен так, чтобы аудитория не видела музыкантов. Звук, идущий из-под сцены, отражался от деревянно-кожаной стены и растворялся, создавая эффект, противоположный стереофоническому, или бинауральному, звуку. Оркестр хорошо слышали певцы на сцене, а для зрителей его громкость была несколько понижена по причине извилистого пути, который ему приходилось проделать: сначала от источника в яме до навеса за дирижером, затем вверх к сцене и наконец от сцены к зрителям. Поскольку главным строительным материалом было дерево, весь зрительный зал действовал как гигантский струнный инструмент, который мог незаметно вибрировать, резонируя с музыкой, производимой оркестром из ста инструментов. Однако никто в яме не видел (и не слышал достаточно хорошо) певцов на сцене. Процессом исполнения музыки руководил один-единственный человек, находящийся на возвышении на виду у всех артистов, но невидимый зрителям, — дирижер.
Англичане и американцы нарекли новшество, которое впервые было опробовано с 13 по 17 августа 1876 года на мировой премьере «Кольца нибелунга» Вагнера, «the pit» — «яма». Французы назвали его «la fosse d’orchestre» — «канава для оркестра», немцы — «Orchetergraben», «могила оркестра». Итальянцы, которые изобрели оперу, нашли самый поэтичный вариант: «il golfo mistico», «таинственный залив». Но как бы ни называли оркестровую яму, она до сих пор остается на месте, и там же находится дирижер.
Глава 2. Техника дирижирования
Хотя дирижеры были призваны спасать новые симфонии и оперы в XIX веке, выступая в качестве художественных контролеров, композиторы скоро поняли, что теперь могут пойти дальше в создании новой, более сложной, музыки: ведь дирижеры всегда будут на месте, чтобы донести до музыкантов и воплотить на практике любые авторские фантазии. С каждым нововведением дирижерам приходилось оттачивать технику, чтобы на должном уровне организовывать и проводить симфоническую и оперную работу, которая порой длилась много часов и требовала огромных сил.
Как только Верди увидел, что кто-то может не просто следовать его указаниям темпа, но и настаивать на соответствии исполнения написанному (с пониманием, что позволительны определенные изменения в вокальных партиях, так называемые puntature), он добавил в нотную лексику новые элементы, которые стали частью самой структуры его музыки, а не просто способом указать на желаемые оттенки выразительности.
В первой четверти XIX века симфоническая музыка обычно исполнялась в достаточно жестко задаваемом темпе. Волнительный эффект создавался с помощью восходящих гармонических секвенций и всё более высоких нот. Внезапные аккорды замещали то, чего ожидало ухо, а новая мелодия всегда вызывала восторг и удовольствие. Все эти приемы, возникшие до эпохи дирижеров, в условиях фиксированного темпа не требовали присутствия человека, который управлял бы музыкальными процессами. Для некоторых композиторов-дирижеров, например Феликса Мендельсона, — о котором говорят, что он первым использовал дирижерскую палочку вместо смычка или бумажного свитка, — сохранение одного темпа было еще и вопросом хорошего вкуса.
Многие считали Джоаккино Россини полной противоположностью Бетховену. Он был обратной стороной музыкальной монеты для тех, кто считал музыку Бетховена тяжелой и почти непостижимой. Сегодня это трудно вообразить, но я помню, что, когда в первый раз столкнулся с «Торжественной мессой» в 1971 году в Тэнглвуде, где пел ее в хоре, я решил, что Бетховен был сумасшедшим! Я просто не мог понять, как эта музыка гармонически, мелодически и структурно перетекает от одного момента к другому.
В отличие от Бетховена, чья музыка всё больше и больше нуждалась в дирижере, Россини писал оперы, как серьезные, так и более известные комические, которые всегда были логичными с музыкальной точки зрения. Слушателя не смущала структура и направленность его гораздо более простого музыкального языка. В отличие от Бетховена, который иногда мог писать радостную музыку, Россини писал смешную музыку. Основной частью этого юмора была склонность Россини к длительным крещендо[10]. Зрители в Вене, где жил Бетховен, — а какое-то время там был и Россини, — ожидали такого приема от «Сеньора Крещендо», как его стали называть. Смешки начинались с приближением одной из его фирменных шуток, обычно в финале акта. Все персонажи находились на сцене и выражали свои индивидуальные чувства, и в это время возникала очень-очень тихая повторяющаяся музыкальная фигура. Постепенно фигура становилась громче и громче, в то время как певцы продолжали излияния, пока наконец она не доходила до долгожданного фортиссимо, которое давало зрителям в точности то, чего им хотелось. Но потом лукавый Россини делал нечто еще более возмутительное: он повторял это! После короткого перехода всё возвращалось к началу, и каждый персонаж вновь принимался рассказывать о своих чувствах, один за другим, словно погружаясь в бесконечную историю. И разумеется, музыкальная фигура возвращалась в пианиссимо[11], а зрители уже понимали шутку. Теперь это была общая шутка, которую они делили с персонажами на сцене. Она приводила публику в восторг, и такой эффект сохраняется до сих пор.
Основное требование к крещендо у Россини состоит в том, что темп должен оставаться постоянным. Если его ускорить, эффект окажется смазан, потому что это должна быть невыносимо длинная и мастерски рассказанная шутка. Соответственно, ее можно исполнить и с дирижером, и без него. Но с появлением дирижера в музыкальном словаре возникли элементы, ранее недоступные композиторам.
Верди одним из первых использовал эти новые возможности, одна из которых, в отличие от крещендо Россини, стала называться «accelerando» («ускоряя»). Словесные указания, добавленные к системе нотации, как я уже говорил, сообщают нам очень многое о происходящем. В так называемый средний период творчества Верди, от «Риголетто» (1851) до «Аиды» (1871), мы уже видим такие слова, как «stringendo» (буквально «сжимая»), «accelerando» и «affrettando» («ускоряя»). Эти деепричастия характеризуют скорее процесс, чем внезапную перемену, и все они требуют, чтобы эффекта добился именно дирижер, потому что от оркестра и хора нельзя ожидать, что они гарантированно ускорятся или замедлятся вместе. Верди явно хотел, чтобы эти три варианта ускорения отличались друг от друга. Когда композитор осознал новые возможности, он стал вписывать в ноты те вещи, которые уже считал реальными для воплощения. В одном двадцатитактовом отрезке «Дона Карлоса» (1867) в нотах присутствуют «allegro giusto» («несколько оживленно»), «pi animato» («более оживленно»), «stringendo e crescendo» («ускоряя и наращивая громкость»), «corona» (указывает на паузу неопределенной длины), «a tempo» («возвращаясь к первому темпу»), «rallentando» («замедляя») и снова «tempo».
Однако Верди остался классицистом в плане структуры и, как я говорил, делал темповые пометки, чтобы создать желаемое время и пространство для своей музык. В прелюдии к gran finale secondo (второму гранд-финалу) «Аиды», более известному как «Триумфальная сцена», Верди дает ясное указание дирижеру начинать с allegro maestoso — «величественного» темпа с пульсом, полным достоинства, в сто ударов в минуту. На сцене звучат трубы, предвещая нечто поистине грандиозное. Спустя четыре такта оркестр вступает в mezzo forte («вполовину громкости»). Это потрясающая динамика, потому что она подразумевает некую направленность. Это не тихо, не громко. Это потенциальная энергия. Восемью тактами далее Верди указывает «crescendo e stringendo poco a poco» — «повышая громкость и сжимая [время]» — на следующие двенадцать тактов, подводя к первому выходу народа Египта, который поет «Gloria all’Egitto» («Слава Египту»). Именно в этот момент музыка вдруг возвращается к первому темпу — величественному аллегро, заданному трубами на сцене.
Десять тактов для хора, музыкантов на сцене и оркестра имеют самую громкую динамику из использованных Верди в этой партитуре, фортиссимо, и заканчиваются с пометкой «pesante e stentato» («тяжело и с силой»), после чего следует полная тишина на три доли. Как только атмосфера разряжается и аудитория приспосабливается к этой неожиданной взрывной тишине, Верди начинает заново, и (как Россини делал с техникой крещендо) последовательность повторяется, но на сей раз присоединяется хор — победивший народ. Музыка становится громче и быстрее, и всё это подводит к двухтактовому переходу, который возвращается к главному темпу. В модель Россини, таким образом, вносится радикальное изменение: теперь она строится и на повышении громкости, и на ускорении. Это полная противоположность комического финала. Вместо успокаивающей монотонности создается ощущение, что нужно спешить на важное и масштабное событие: «Торопись! Быстрее, побежали на парад! Там будет фараон… и слоны!»
Из этого примера музыкального фрагмента, который длится всего две минуты, легко увидеть, насколько сложно достичь того, о чем говорит музыка. Дирижер стоит перед оркестром из по крайней мере шестидесяти (а скорее, восьмидесяти) человек в оркестровой яме, в то время как на сцене находятся минимум шестнадцать музыкантов и восемьдесят хористов. Хор на большом расстоянии от дирижера, потому что нужно оставить место солистам, участникам парада (мимансу) и еще одному хору (эфиопам), который скоро появится. Свет приходит к нам немедленно, но звук на удивление нетороплив. Аудитории не важна физика воспринимаемой вселенной. Она хочет, чтобы все музыкальные элементы «Аиды» звучали вместе, а если этого не происходит, виноват оказывается дирижер.
Если сейчас вы решили включить запись «Аиды», хочу предупредить, что я никогда не слышал, чтобы хотя бы одна постановка соответствовала вышеописанному — ясным указаниям Верди, будь то исполнение под руководством Артура Тосканини, известного своей верностью тексту, или любых других моих современных коллег. Вводная музыка к «Триумфальной сцене» неизменно дирижируется в значительно более быстром темпе, чем сто ударов в минуту (обычно приблизительно сто двадцать шесть ударов, что соответствует «темпу марша»), и безо всяких ускорений. На это есть причины, которые мы исследуем ниже.
Мы должны держать всю оперу у себя в голове — даже если читаем партитуру — и использовать физический язык жестов, а это большая нагрузка на тело. В результате мы испытываем огромное физическое и умственное напряжение. К счастью, дирижирование — одна из немногих профессий, в которых считается, что чем ты старше, тем лучше владеешь мастерством. («Ja, — язвительно сказал великий вагнерианский бас-баритон Ханс Хоттер на вечеринке в Сан-Франциско во время репетиций „Лулу“ Альбана Берга в 1989 году, — если вы можете скрыть, что абсолютно глухи! Мы подшучивали над стариком [Хансом] Кнаппертсбушем[12] в Байройте после войны. Мы открывали рты на такт-другой раньше, а он махал на нас, чтобы мы прекратили петь!» Впрочем, несмотря на этот физический недостаток, Кнаппертсбуш мог блестяще дирижировать. И снова мы имеем дело со странным фактом: дирижер, чья работа — управлять чрезвычайно сложными звуками, делает это блестяще и к огромному восторгу зрителей, имея очень слабый слух.)
Чтобы контролировать мощные силы в течение долгого периода времени, все мы развиваем мускулатуру плеч и рук, а еще совершенствуем навык общения без слов. Для дирижера нормально размахивать руками по шесть часов в день — а иногда и по девять. В случае с «Золотом Рейна» Вагнера проходит два часа сорок пять минут с того момента, когда вы показываете первую долгую басовую ми, и до входа богов в Вальхаллу в финале. В отличие от любого певца на сцене и, конечно, любого музыканта в оркестре, вы не останавливаетесь. (Однажды я умудрился выпить пакетик сока через соломинку во время восьми тактов, когда звучат только наковальни за сценой, но это был рискованный шаг.)
Освоить язык жестов относительно просто, однако в нем надо тренироваться. Думать здесь нельзя, а когда ум выкидывает номера, рука всегда права. Это очень похоже на мышечную память балерины. Правая рука отсчитывает время, она задает ритм, или пульсацию музыки. Она может держать палочку. Левая поворачивает страницы, подает знаки к началу или указывает на музыкантов, а также обозначает свойства нот (отрывистые, гладко соединенные, удлиненные и т. п.). Не важно, левша вы или правша: обе руки одинаково необходимы вам и должны действовать независимо друг от друга.
Конечно, можно делать и гораздо большее в зависимости от вашей спортивности и «балетности». Глядя на записи и изображения великих дирижеров прошлого, мы видим, что они были очень разными. Рихард Штраус, например, выглядит как несколько раздраженный бизнесмен, который ждет запоздавший поезд. Тосканини как будто погружен в битву с невидимым демоном: его рот всегда открыт, а губы артикулируют непонятные слова. Вильгельм Фуртвенглер, долговязый и неграциозный человек, дирижируя финальные такты Симфонии № 4 Брамса, трясет руками и головой так, будто у него вдвое больше суставов, чем у всех остальных. Все они, несомненно, были великими, и все абсолютно по-разному общались с музыкантами, не говоря ни слова. Оркестр воспринимает не только указующий перст и мимолетный взгляд. В конце концов, между людьми в основном происходит телепатическое общение.
Дирижер выражает намерения телом: глазами, сердцем (грудной клеткой), полным поворотом корпуса, руками (держа их напряженными близко к телу или широко разводя ими, словно обнимая), ладонями (поворачивая их тыльной или внутренней стороной), выражениями лица. Каждый из этих сигналов имеет свое значение и влияет на звучание музыкантов. Если дирижер обращен грудью к скрипкам, а лицо повернул в сторону солирующей трубы, в то время как указательный палец левой руки предупреждает литавры о том, что им скоро вступать, оркестр звучит совсем не так, как в случае, если тот же дирижер повернется грудью к трубе и лицом — к литаврам, а пальцем будет предупреждать скрипки. При этом не надо говорить ни слова.
Некоторые дирижеры откликаются на пульсирующие ритмы музыки, а не на направление мелодии или внутренние оттенки пьесы. Эти дирижеры (особенно молодые) порой как будто танцуют и подпрыгивают, взмахивая палочкой, в то время как другие прочно стоят на земле обеими ногами. Всё это влияет на звучание оркестра, какой бы странной ни казалась такая мысль. Оркестры умны, и чем больше они думают и чувствуют сообща, тем мудрее становятся.
Леонарда Бернстайна знали как прыгуна. Движения его бедер были эквивалентом пластики его молодого современника Элвиса Пресли. Мой брат как-то описал Бернстайна, дирижирующего «Весну священную», как «человека, который пытается застегнуть ширинку без рук». Бернстайн признавался, что ему очень не нравится, как он выглядит на кинопленке или в видеозаписи, но говорил: «Когда я делаю то, что делаю, получается звук, который я хочу услышать». С другой стороны, Пьер Монто однажды отругал молодого Андре Превина за его исступленные движения: «Еще никто не доказал мне, что чем выше прыгнешь, тем громче заиграет оркестр».
В 1980 году я сидел сбоку за кулисами, прямо за последним рядом первых скрипок, на выступлении Лос-Анджелесского филармонического оркестра, которым руководил его главный дирижер Карло Мария Джулини. Джулини был одним из самых глубоких и набожных людей, которых я знал в своей жизни. В последний год Второй мировой войны он провел девять месяцев вместе с еврейской семьей, скрываясь от фашистов в тоннеле под римским домом, где жил дядя его жены, — и это навсегда сделало его печальным и сострадательным. Он видел худшие проявления человеческой натуры и невыразимые последствия войны.
В тот вечер Джулини дирижировал Симфонию № 8 Шуберта — «Неоконченную». Сидя за скрипками, я чувствовал, что зачарован этим великим верующим человеком. В какой-то момент он повернулся к скрипкам; его печальные глаза смотрели, казалось, куда-то вдаль. Он протянул левую руку с раскрытой ладонью в знак полного смирения, почти как нищий на улице. Я до сих пор вижу это внутренним взором, потому что в тот момент прочувствовал католическое воспитание Шуберта в первый раз за свою жизнь и понял, что его музыка — борьба между ангельским и демоническим в каждом из нас. Хотя Шуберт и не окончил симфонию, у Джулини она стала завершенной. Для меня это было глубокое переживание: я понял, что дирижер властен не только переводить, но и преображать и прежде всего просвещать.
В 1971 году концертмейстер Бостонского симфонического оркестра Джозеф Силверстайн выступил перед дирижерами-стажерами в Тэнглвуде, в одном из небольших зданий, где проходят занятия. Он предельно ясно обозначил, что оркестры хотят получить от дирижеров: «Не стройте воздушных замков. Просто говорите: длиннее — короче, быстрее — медленнее, выше — ниже». Это было довольно шокирующее и бессердечное заявление. Силверстайна явно до предела утомили многочисленные маэстро, которые поэтично описывали желаемое звучание, используя метафоры и сравнения. Он был прекрасным, щедрым, творческим музыкантом, и я слышу его голос в голове каждый раз, когда разговариваю с оркестром.
Выразительность западной музыки проявляется через длину, скорость и высоту нот, но этим дело вовсе не исчерпывается. Когда Леопольд Стоковский посетил Йель в 1971 году, он репетировал с двумя студенческими оркестрами. У нас была возможность наблюдать, как восьмидесятидевятилетний маэстро строит Симфонию № 7 Бетховена, а также собственную транскрипцию Пассакалии и Фуги до минор Баха. В какой-то момент он сказал главному гобоисту: «Гобой, первые четыре такта в мажоре, следующие четыре — в миноре, измените звук. Играйте по-другому». Никаких воздушных замков, однако молодой гобоист получил важный урок, как с пониманием играть собственную мелодию под аккомпанемент, переходящий из мажора в минор. Стоковский не сказал музыканту, каким должен быть звук, и это важный момент. Он предпочел подтолкнуть его к творческому поиску.
Один из музыкантов Тосканини рассказал мне, что однажды на репетиции симфонического оркестра NBC звук выходил слишком тяжелым. Итальянский дирижер, так и не достигший беглости в английском, определенно сумел донести свою мысль. Не говоря ни слова, он залез в карман, вынул шелковый платок, подбросил его, и все увидели, как он медленно скользит в воздухе. Посмотрев на это, оркестр сыграл отрывок точно так, как хотел Тосканини.
Мы, дирижеры, можем добиться своего — или, по-другому говоря, «получить то, что считаем правильным» — словами, развивая язык жестов или как будто ничего не делая, но непонятным образом настраивая всех внутренне. Например, Герберт фон Караян напряженно слушал, что уже делает оркестр, и с закрытыми глазами лепил из него, как из глины на гончарном круге. Фриц Райнер, кажется, работал только глазами: он угрожающе смотрел на оркестрантов и совершал самые мелкие движения руками по сравнению с остальными известными дирижерами его эпохи. То, что он был одним из двух главных учителей Бернстайна (второй — Сергей Кусевицкий), подтверждает: подмастерье должен найти свой собственный стиль, ему не следует подражать волшебнику — разве что он тоже сможет научиться колдовать. «Что» сияет перед молодым человеком волшебным светом, но «как» находится благодаря собственному пути — если только ученик его достоин. Те, кто видели Райнера и Бернстайна, никогда бы не заподозрили во втором протеже первого, но так оно и было.
При всех этих различиях любого дирижера можно поставить перед любым оркестром в мире, и он проведет выступление, даже если не говорит на языке музыкантов. Это возможно, потому что каждый оркестрант в любом коллективе понимает основные правила и значения наших жестов.
В молодости мне дали возможность дирижировать оркестром города Халапа в Мексике. В программу входила Симфония № 2 Брамса. Я пожелал всем доброго утра, потом сказал: «No hablo espaol»[13] и «Брамс». Тогда услышал, как музыканты передают друг другу имя композитора, превратив его в двусложное слово с гортанным «х» посередине. Я посмотрел на виолончели и контрабасы, легким взмахом подал сигнал к началу, и они стали играть симфонию. Спустя две доли я сделал следующий взмах и посмотрел на первые и вторые валторны. Они вступили на сильной доле второго такта и сыграли верные ноты с верной динамикой. Следующие пятнадцать минут мы знакомились друг с другом: я оценивал сильные и слабые стороны этого оркестра, а они оценивали меня.
Когда мы подошли к последним страницам первой части, я понимал, что надо что-нибудь сказать, — хотя бы обозначить переход ко второй части или попросить сыграть первую снова. Я решил повторить первую. «Попробуем снова», — предложил я. Тогда один из трубачей встал и сказал громким голосом: «De nuevo, por favor», а потом, к своему изумлению, я услышал что-то, похожее на болгарский, от скрипача в заднем ряду. Все согласно покивали, и мы начали сначала. На сей раз я использовал слова: английские, итальянские, немецкие, французские. Каждый раз следовало по меньшей мере два перевода. Этот оркестр состоял из мексиканцев, в основном в секции деревянных духовых, американцев из университета Индианы на медных духовых и когорты болгар или румын (точно я так и не узнал): я решил, что много лет назад в их самолете кончилось топливо по пути на концерт, они застряли в горах и просто решили остаться.
Вскоре один из американцев решил мне помочь и дал список переведенных на испанский фраз, которые я говорил, например: «Мы не вместе!» — «No estamos juntos!» (на болгарском я их так и не выучил). Однако мы могли бы выступить с этой симфонией (хотя и не очень хорошо) после первой же встречи, на которой не было сказано ни слова, — потому что музыканты понимали, что говорили мои руки, глаза и тело. Мы годами тренируем наши движения, учимся работать левой и правой рукой отдельно, делаем более широкие жесты для громкой музыки, напрягаем предплечье, чтобы обозначить сопротивление (музыканты, играющие на струнных, переводят наш знак в более длительное давление на струны), дышим так, словно пропеваем мелодические линии, — всё это нормально и понятно. Для немузыкантов, возможно, самый таинственный аспект нашей техники состоит в необходимости подавать сигнал о том, как будет звучать музыка, до того, как она зазвучит. В мозгу дирижера удерживаются сразу три «времени»: что произошло только что, что происходит сейчас и что произойдет дальше, и мы постоянно подстраиваем третье «время» на основе первых двух. Это не так удивительно, как оно звучит; то же делают водители, когда садятся за руль автомобиля, — оценивают, что нужно сделать на основе только что случившегося или происходящего. Кашель, лишний вдох солиста, удивительно красивое соло — всё это требует коррекции времени.
Наши жесты всегда на долю впереди музыки. Представьте теннисиста или бейсболиста: замаху всегда предшествует то, что дирижер называет подготовкой. Когда вы забиваете гвоздь в деревяшку, подготовка определяет, как гвоздь войдет в дерево и где он выйдет. Большая подготовка предвосхищает рывок и мощь, а малая — тонкую работу. В этом смысле дирижирование очень похоже на искусство мима. Однако время на подготовку должно точно соответствовать темпу, который нужно показать. Вот почему правая рука за время симфонии соверает тысячи движений.
Должен ли дирижер использовать палочку? Это полностью зависит от индивидуальных предпочтений. Функция палочки — продолжить руку и показывать ритм своим кончиком. Это должно походить на действие рыбака, ловящего на приманку, — в противном случае ритм окажется в районе запястья, и оркестр будет смотреть на него. Кроме того, она освобождает руку от огромного напряжения, потому что палочку можно держать очень по-разному, и это позволяет дирижеру управлять оркестром, используя все участки плеча или руки — даже просто двигая запястьем. Хорошо сбалансированная палочка может держаться на указательном пальце и управляться большим почти безо всякого усилия. А по мере того как дирижеры становятся старше, такие вещи оказываются всё более важными для них.
Композитор Жан-Батист Люлли (1632–1687), которого считают первым настоящим дирижером, пользовался предшественницей палочки — длинной тростью. Он стучал ею по полу. Эта практика отмерла, во-первых, потому, что была слишком шумной, а во-вторых, потому что Люлли умер от гангрены, проткнув себе ногу.
В XX веке главным представителем школы без палочки был Леопольд Стоковский. Это добавляло ему славы и таинственности. Считается, что он сделал такой выбор по физической причине: на заре карьеры он жаловался, что палочку держать неудобно. Впоследствии его длинные пальцы создали альтернативный «образ» и звук. У руки есть преимущество в виде широкой выразительности и недостаток в виде ограниченной длины. Из-за этого пользоваться ею в оркестровой яме опасно, в чем убедился Стоковский, когда дебютировал в Метрополитен-опере с «Турандот» в 1961 году: синхронизация между сценой и оркестровой ямой иногда нарушалась.
Пьер Булез тоже дирижировал без палочки, но в совершенно другой манере. Он использовал ребро ладони, как обладатель черного пояса в боевых искусствах, чтобы четко прорубить себе путь в музыке. Это было предельно ясно, но крайне ограничено: такая манера отлично подходила для сложной музыки, в которой выразительность создается благодаря неровным тактам и разному темпу, а не подъемам и спадам мелодических линий, как в «более простой» доавангардной европейской музыке. Стоковский же был балетмейстером пальцев, запястий и рук. Он создавал загадку и производил впечатление колдуна, который не нуждается в волшебной палочке и вытягивает звуки из оркестра, побуждая его двигаться вперед и назад, растягивая время, чтобы стереть тактовые черты, и гипнотизируя публику. Как и все известные мне великие дирижеры, он был уникален.
Свобода от палочки позволяет создавать в воздухе трехмерные формы. Для какой-то музыки это очень подходит, особенно если в ней нет повторяющегося ритма. С другой стороны, для такого способа нужна хорошая физическая форма, а еще кажется, что он создает ограничения, когда нужно управлять большими силами, особенно исполняя громкие произведения. Вот почему я дирижировал и с палочкой, и без нее.
Сэйдзи Одзава показал нам еще одну возможность. Его руки двигаются по направлению к оркестру и от него, в то время как большинство дирижеров живут в мире, где существует только верх, низ, лево и право. Да, и эти движения могут быть бесконечно тонкими и разнообразными, но Одзава научился так хорошо контролировать мускулы руки, что мог показать левым кулаком крещендо и диминуэндо невероятной силы, одновременно полностью отделив правую руку от левой части тела. Многочасовые тренировки позволили ему таким образом невероятно расширить свою технику.
В некоторых случаях дирижер не показывает сильную долю. Когда музыка хорошо известна оркестру (например, симфония Бетховена), звук может быть сформирован без обозначения тактов. Если в оркестровой музыке задан только один темп (вспомните «Болеро» Равеля), дирижер, отбивающий один и тот же ритм в течение многих тактов, становится бесполезным. Оркестр просто перестает на него смотреть. Напротив, если оркестр играет вразнобой, самый мощный инструмент воздействия — перестать отбивать метр, одновременно показывая, например красноречивым взглядом или кивком, что музыка всё еще должна продолжаться! Оркестр немедленно собирается и начинает слушать более внимательно. Как верно заметил музыкальный критик The New York Times Джеймс Эстрайх, существует «парадокс подиума»: попытка «слишком сильно всё контролировать часто приводит к утрате контроля», потому что оркестр начинает следить за взмахами палочки, а не за звуком, который в итоге производит.
Всем, кто видел, как дирижирует Герберт фон Караян, известно, что он иногда не показывал доли. Оркестры просто знали, чего он хочет. Он поощрял коллективное творчество, которое сам только контролировал. Нельзя взять и попробовать это просто так. В шестьдесят восемь лет мне удалось добиться чего-то подобного с Токийским филармоническим оркестром, которым я, кажется, вообще не дирижировал, но звучал он великолепно. Если бы я попытался сделать это в двадцать семь лет, вероятно, музыканты вообще перестали бы играть; такого эффекта можно добиться, только имея многолетний опыт. Когда Английская национальная опера (в ту пору театр «Сэдлерс-Уэллс») в начале 1970-х годов пригласила великого вокального педагога сэра Реджинальда Гудолла дирижировать цикл «Кольцо нибелунга», это вызвало сенсацию. Сэр Реджинальд считался много знающим и педантичным преподавателем вагнеровского канона. Однако его техника дирижирования была рудиментарной. Обходясь без палочки, сжав правую руку в кулак, он в основном смотрел в ноты, которые, словно большой кусок ростбифа, «нарезал» в воздухе, как сказали бы британцы. На одном из представлений «Гибели богов» он начал двигаться абстрактно и неопределенно, но оркестр не понял его и просто ждал. Тогда, как известно, сэр Реджинальд повернулся к концертмейстеру и сказал: «Вы знаете, я уже начал».
Иногда оркестр чувствует, что знает какие-то вещи лучше вас, и из чувства коллективного сопротивления не следует за вами. «Всегда стоит быть немного лучше, чем оркестр, которым вы дирижируете», — однажды сказал Георг Шолти. Однако если и оркестр, и дирижер действительно знают свое дело и у вас есть взаимное уважение, то возникает своего рода экстатическая сопричастность, и дирижеру кажется, что он почти не двигается. Конечно, это не так, просто достаточно выдоха, приглашающего жеста, легкого движения всем телом, возможно, чего-то во взгляде. Для нас такие моменты прекрасны.
Глава 3. Как выучить партитуру?
Чтобы стать дирижером классической музыки, прежде всего надо научиться читать оркестровую партитуру. Да, дирижеры бродвейских мюзиклов часто используют клавиры с дополнительными нотами в нужных местах. Так делалось в опереттах и во время золотого века Бродвея, с 1920-х по 1960-е годы. Но давайте сосредоточимся на тех, кто хочет стоять перед оркестром и дирижировать симфоническую музыку (включая оперу и балет). Первое препятствие на их пути — задача понять нотную запись, увидеть ее смысл; второе — необходимость найти способ, как воплотить этот смысл на практике.
Как я уже говорил, нотная запись — перевод того, что вообразил композитор, на страницу, где музыкальное намерение описано по вертикали (результирующее созвучие в каждый момент) и по горизонтали (процесс). Горизонталь подобна, например, словам на странице. Они идут одно за другим, формируя фразы, предложения и абзацы. При этом нотная страница выглядит намного специфичнее напечатанных слов.
У всех бывало такое, когда получатель письма совершенно неверно интерпретировал наш тон. Не имея литературного эквивалента темпа, динамики и акцентов, авторы электронных сообщений часто используют восклицательные знаки и эмодзи, чтобы получатель не заподозрил вас в недовольстве или насмешке. В художественной литературе писатель не жалеет времени на придаточные предложения и сочетания наречий с прилагательными, чтобы обозначить тон диалога. В музыке вся эта информация встроена в невероятно сложные описания абсолютно каждой ноты. Кроме того, нотные знаки являются лишь первыми в серии дескрипторов, в конечном счете воздействующих на аудиторию.
У композитора появляется идея музыкального произведения, и он приступает к работе. Сложность здесь состоит в том, чтобы выразить мысль на бумаге как можно более однозначно, превратив музыкальные идеи в ноты на пяти параллельных линиях и внеся туда сотни разных замечаний и требований: «громко», «немного громче», «ускорение», «сильный акцент», «пауза неопределенной длины». Все планы композитора переносятся на сетку, которую для удобства, хотя и неверно, называют музыкой. Я говорю «неверно», потому что она существует в голове композитора и не станет собственно музыкой, пока посредник (а то и сотни посредников) не прочитает и не переведет инструкции в виде нот, сделанные композитором, чтобы создать реальный звук.
Неопределенность усиливается здесь еще и потому, что нет такого объективного явления, как «тихое», без «громкого». Нет такого явления, как «медленное», без «быстрого». Большинство вещей, о которых просит композитор, могут быть определены только через их противоположности. Рок-концерт начинается громко. Через минуту уши закладывает, и дальше музыка не кажется ни громкой, ни тихой. Само понятие «громко» исчезает, и аудиторию заряжают ритм и виртуозность артистов. В классической музыке, однако, все меры скорости (темп) и громкости (динамика) относительны и постоянно меняются.
Тому, кто читает ноты, нужно, двигаясь слева направо, извлечь смысл из многих нотных строк, одновременно сводя их к результирующим созвучиям. Глаз должен быстро скользить вверх и вниз — видеть флейты на верхней строчке и контрабасы на нижней, — а также слева направо, пока звучание и все его компоненты не появятся в мозгу. У некоторых людей это врожденный талант, почти как склонность к определенному виду спорта. Другие пользуются иными приемами, но результат должен быть тот же: прежде чем даже помыслить об интерпретации нот, необходимо знать, как они звучат в каждый конкретный момент.
До изобретения фонографа молодые дирижеры обычно учили репертуар, посещая репетиции и концерты старших наставников. Иногда они адаптировали партитуру для фортепиано, чтобы услышать полученные гармонии. Сегодня начинающие дирижеры могут «учиться», слушая в записи выступления поколений предшественников. Это бывает невероятно полезно с точки зрения колебаний темпа и стиля. Но из записи нельзя понять, как дирижер прошлого общался со своей живой аудиторией.
Компетентный дирижер, например, должен знать, что на второй доле такта в середине сорокаминутной симфонии звучит до-мажорный аккорд. Если кто-то на репетиции играет что-то, отличающееся от до, ми и соль — составных частей аккорда, — значит, он ошибся, и дирижер должен остановить и поправить музыканта, будь то вторая валторна или контрафагот. Это нужно сделать быстро и решительно.
Но редко вопрос бывает таким простым, как до-мажорное трезвучие. Со временем музыка становилась всё более и более сложной, и в гармонии в любой момент могли участвовать все двенадцать нот хроматической гаммы — то есть все ноты вообще — одновременно. Дирижеры, которые входят в мир такого уровня сложности, должны знать, когда музыкант играет неверную ноту, даже если та же нота звучит в оркестре где-то еще. У некоторых оркестров есть чувство гордости и товарищества, помогающие дирижеру продираться сквозь эти дебри. Другие остаются пассивными и просто смотрят, сможет ли маэстро найти неверную ноту.
После Второй мировой войны стали собирать оркестры для отдельных выступлений, чтобы создать ощущение нормальности в европейской музыкальной жизни, и в те годы богатые люди нередко нанимали музыкантов и брали на себя роль дирижера. Рассказывают, что один оркестр был настолько разочарован своим «маэстро», что в середине медленной тихой части ударник взял тарелки и оглушительно лязгнул ими. Непрофессиональный дирижер внимательно посмотрел в партитуру и спросил: «Кто это сделал?»
Но были и противоположные случаи. Есть история о приглашенном дирижере, который, желая произвести впечатление на незнакомый оркестр, вставил неверную ноту в партию второго тромбона посреди невероятно сложного момента в симфонической поэме Рихарда Штрауса. На первой репетиции он резко остановил музыкантов, чтобы поправить тромбониста. Оркестрант сказал: «Маэстро, какой-то идиот вставил в мою партию не ту ноту, но я сыграл правильно».
Все ли великие дирижеры соответствуют требованиям для поступления на дирижерский факультет? Нет. Как такое возможно? Ответ на этот вопрос возвращает нас к загадкам и противоречиям дирижерского искусства.
Да, надо уметь читать ноты и слышать их. Однако кроме дирижеров, которые постоянно останавливают оркестр, чтобы исправить ту или иную деталь, есть и иные, которые доверяют музыкантам исправлять всё самостоятельно. В интервью 1958 года сэр Томас Бичем описал свой рабочий процесс так:
«Есть только один способ отрепетировать симфоническое произведение, который я и использую… я играю всё от начала и до конца — всю благословенную вещь. Оркестр, естественно, делает несколько ошибок. Я играю во второй раз. Оркестр не делает ошибок. Затем я беру несколько трудных моментов — и точно указываю на них, подчеркиваю их, повторяю три или четыре раза. Всё, я готов к выступлению».
Такой подход работает с некоторыми оркестрами, потому что вызывает чувство общей гордости и доверия. Но в случае с другими коллективами поступить так — значит обречь себя на неудачу.
Подготовка партитуры — процесс сугубо индивидуальный. Великий дирижер и импресарио Сергей Кусевицкий, например, испытывал трудности при чтении нот и нанимал двух пианистов, чтобы они играли ему произведения во время подготовки к репетициям. Какие-то дирижеры помечают ноты разными цветами, выделяя определенные вещи: важную мелодию или место вступления инструмента, который какое-то время не играл; другие просто делают пометки карандашом, вставляя информацию, полученную во время изучения партии или необходимую для выступления. Некоторые порой пишут названия образующихся аккордов внизу страницы. В конце концов, каким бы ни был природный талант, дирижер должен прийти к моменту, когда нужно встать перед большой группой людей и завоевать их доверие и уважение.
Учить и читать — это, конечно же, две разные вещи. Пометки Леонарда Бернстайна в нотах ясны и недвусмысленны. Он использовал двуцветный красно-синий карандаш. Эти карандаши появились в Европе и использовались бухгалтерами: красным цветом те записывали поступающие суммы, синим — расходы. Бернстайн подражал Малеру, который помечал свои ноты красным и синим. Синий показывал, куда нужно посмотреть, дирижируя на репетиции или выступлении, а красный обозначал изменения, которые он хотел внести в печатный нотный текст: изменения в динамике, оркестровке, темпе.
Малер был непоследователен в использовании синего и красного, в отличие от Бернстайна. Тот говорил, что всё, помеченное красным, можно отослать библиотекарю оркестра и добавить в партии, чтобы пожелания дирижера были известны до того, как начнутся репетиции. Подозреваю, он делал это еще и для того, чтобы показать студентам, как строился его индивидуальный стиль, чтобы они могли изучить его партитуру с пометками, так же как он изучал партитуры Бруно Вальтера и Артуро Тосканини в библиотеке Нью-Йоркского филармонического оркестра. Более того, как я говорил выше, Бернстайн содержал собственную нотную библиотеку с партитурами, которые он часто использовал, — чтобы в них не внес изменения никакой другой дирижер.
Кроме того, как и Малер, Бернстайн помечал синим карандашом музыкальные фразы — обычно по четыре такта, но иногда по три, два, пять или шесть. Это придавало его партитуре вид метаструктуры с частями, более широкими, чем такты. Благодаря ей он мог сразу увидеть всю страницу и вспомнить важные моменты, а потом перевести взгляд с нот на оркестр. А еще, размечая партитуру, Бернстайн делал ее индивидуальной. Так поступаем мы все. Каждая страница становится личной, и это прежде всего обеспечивает дирижеру ощущение собственной значимости при обращении к оркестру.
Дирижер всё время должен понимать, что происходит. Поскольку музыка развивается во времени, как я уже говорил, нам необходимо знание горизонтали (как партия каждого инструмента движется с начала до конца) и вертикали (как разные компоненты звучат одновременно в каждый отдельно взятый момент). Соответственно, чтобы поддерживать порядок, нам нужно знать, когда музыкант находится в неверном месте на горизонтали (вступил раньше или позже или вообще не вступил) и когда музыкант неправильно играет ноту (с неверной высотой, динамикой, атакой). Однако сейчас следить за порядком в огромном репертуаре, который мы называем «стандартным», стало не так важно. Если оркестрант не отвлекается, уже практически нет необходимости контролировать его в симфонии Бетховена. Однако в новых произведениях или в работах, неизвестных оркестру, дирижер должен знать, слышать и контролировать вступления и общее звучание с абсолютно технической (в противоположность интерпретационной) точки зрения, поскольку только у него есть полная партитура. При этом, репетируя стандартный репертуар, оркестранты ждут от дирижера особой интерпретации произведений, которые они, возможно, уже играли тысячи раз.
Хотя нет сомнений, что цель любого дирижера — знать всё, что напечатано в партитуре, и уметь это услышать, процесс приобретения такого знания может быть очень разным. Никто вроде бы не начинает сразу заниматься дирижированием. Сегодня подавляющее большинство дирижеров — те, кто учились на пианистов, а среди остальных больше всего скрипачей. Кроме того, есть те, кто были или остаются композиторами, и всё это влияет на рабочий процесс.
Преимущество пианистов — в том, что они привыкли слушать (и играть) много нот одновременно. Им легче услышать и вообразить, как сбалансированы аккорды и как артикулируются внутренние голоса в контрапункте. Руководители оркестров в начале XIX века имели то же преимущество. Те из нас, кто всю жизнь играл на пианино, можно сказать, слышат руками, и для нас вполне обычно сыграть всё произведение на фортепиано, чтобы его понять.
Так же важно и то, что пианисты сольно исполняют произведения крупной формы, сочиненные композиторами, чьи оркестровые произведения входят в центральный репертуар, — Гайдна, Моцарта, Бетховена, Брамса, Шуберта и Листа. Сольные клавирные произведения принадлежат по большей части к тем же эпохам, что и музыка, которую исполняют дирижеры, от барокко до XXI века. Пианист лично оформляет музыкальный нарратив пьесы, он и штурман, и пилот. И всё это хорошо переходит в подготовку дирижера.
Когда дело доходит до разучивания оперы, большинство пианистов начинают с проигрывания клавира. Клавиры необходимы для аккомпаниаторов и певцов при подготовке партии и используются на постановочных и музыкальных репетициях в отсутствие оркестра. Трудность здесь состоит в том, что в клавирах вынужденно опущены многие детали, в которых заключены жизненные соки оркестровки — то есть акустической вселенной, придуманной композитором. Когда я услышал, как пианист играет «Женщину без тени» Штрауса в Сан-Франциско, я был шокирован тривиальностью прозвучавших музыкальных элементов. Но как только Карл Бём начал репетиции с оркестром, обнажилась эпическая природа этой оперы. Если дирижер не рассматривает клавир как своего рода компромиссную скоропись, он подойдет к своей задаче наоборот: будет воспроизводить сокращение как источник и подспудно рассматривать оркестровку как своего рода вычурные украшения.
У скрипача, с другой стороны, есть иное преимущество — фундаментальное понимание струнной секции, которая, в конце концов, и делает оркестр оркестром, а не ансамблем. В отличие от фортепиано, на котором играют, прикасаясь к клавишам, скрипка звучит благодаря бесконечно тонким движениям пальцев левой руки и виртуозному контролю над правой рукой и запястьем. На грифе нет фиксированных и помеченных нот. Пианист же, когда фортепиано начинает фальшивить, зовет настройщика.
Дирижируя, пианисты обычно режут рукой воздух. Скрипачи гораздо экспрессивнее: они используют движения руки, которая играет смычком (обычно той же, что отбивает ритм и держит палочку), чтобы добиться устойчивого звучания от струнной секции оркестра. Без этого знания и этого звучания не выживет ни один оркестр, какими бы замечательными ни были секции деревянных духовых, медных духовых и ударных.
Широко известно, что Юджин Орманди, музыкальный руководитель Филадельфийского оркестра с 1936 по 1980 год, говорил: «Я — звучание Филадельфийского оркестра». Он имел в виду плотный и насыщенный звук, который создал, будучи скрипачом. Кроме того, скрипачи, в отличие от пианистов, имеют большой опыт работы в оркестрах, знают, как те реагируют на дирижеров и на их разнообразные подходы к репетициям и выступлениям.
Однако слышать все инструменты, а не только свою скрипку во всех переплетениях симфонической оркестровки — очень сложная задача для скрипача, который хочет стать дирижером, а мудро, со знанием дела разговаривать со струнной секцией и владеть физическими приемами, соответствующими движениям смычка, — такой же вызов для дирижера из числа пианистов.
Самая плохая физическая техника обычно бывает у композиторов. Они увлеченно исследуют работу коллег, но больше вдаются в составные элементы конструкции, а не в общую концепцию звучания. Когда композитор занимается музыкой другого композитора, сначала он разбирает ее на части, чтобы понять, а потом собирает обратно. Часто эта реконструкция должна показать преемственность, существующую между ним и другими композиторами. Пьер Булез дирижировал всё, включая произведения Вагнера, Дебюсси и Стравинского, так, словно он сам это сочинил. Особенно поучительно послушать архивные записи Пауля Хиндемита, который дирижирует музыку своего современника Игоря Стравинского: у Хиндемита она звучит полифонично и по-германски, тогда как под руководством самого Стравинского — отстраненно и аналитически.
Можно подумать, что исполнение собственной музыки — нечто предельно естественное, ведь вы представляете музыкантам свое видение напрямую, без посредника, интерпретирующего ноты. Любой композитор скажет, что подготовка к исполнению собственного произведения означает возвращение к самой его сути и перевод ее в практическое измерение. При этом многие композиторы совсем не практичны. А еще им приходится возвращаться к дорогам, по которым они когда-то решили не ходить.
Выступая со своей музыкой, вы снова открываете ее для себя. Это накладывает на вас огромную ответственность, хотя ни один слушатель о ней и не подозревает. Достаточно бросить один взгляд на ноты собственных произведений Малера и Штрауса, которые они использовали для выступлений, чтобы увидеть, сколько правок и пометок цветными карандашами внесено поверх напечатанных нот. Некоторые изменения объясняются желанием переписать произведение. (В музыкальной библиотеке Йельского университета есть карманная партитура Симфонии № 3 Сибелиуса, куда карандашом дописаны ноты. Это изменения, «внесенные господином Сибелиусом», когда он посещал летнюю школу в Йеле в 1914 году.) Иногда коррективы вносят, чтобы приспособить произведение к сильным и слабым сторонам конкретного оркестра и зала, в котором предстоит выступить. В других случаях они связаны с необходимостью адаптировать произведение к современности. Говорят, творцы не заканчивают произведение искусства — они просто останавливают работу.
Всё это предполагает, что композитор должен быть компетентным дирижером. Однако композитор Аарон Копленд не был дирижером; он не мог уверенно держать ритм и не отличался харизмой. В 1975 году я оказался в Париже. Я работал над исполнением Равеля в том же здании, где Копленд репетировал концерт собственных произведений с Филармоническим оркестром Радио Франции. Когда музыканты почувствовали слабость Копленда, они стали вести себя настолько грубо, что руководству оркестра пришлось вмешаться. После первого, очень трудного, репетиционного дня Копленда попросили прийти на пятнадцать минут позже, чтобы администрация успела провести «профсоюзное собрание». Никакого собрания не было. Администрацию так обеспокоило поведение оркестра, что ему пятнадцать минут объясняли, кто такой Копленд и почему он заслуживает уважения. Этот серьезный урок показал мне, насколько безжалостными бывают оркестры, если чувствуют слабину.
Порой композитор, который не является в полном смысле дирижером, испытывает трудности со сложными размерами в своем произведении. Стравинский так и не научился свободно дирижировать «Великую священную пляску», которой заканчивается «Весна священная», и переписал ноты так, чтобы можно было правильно показать размер. По его словам, сочиняя эту музыку в 1913 году, он знал, как она должна звучать, но не был уверен, как ее записать.
В 1943 году он выпустил отдельное издание этой последней части балета, известного своей сложностью, по-другому расставив такты. В конечном счете, отредактировав всю работу спустя несколько лет, он отказался от этого и вернулся к версии 1913 года. Тем не менее когда его многолетний ассистент Роберт Крафт, который готовил оркестры для работы со Стравинским, дирижировал «Весну священную» в исполнении Американского симфонического, он тоже изменил некоторые разделы, чтобы упростить распределение сильных долей. Поскольку музыка уложена в ритмическую сетку, ее можно записать разными способами и получить при этом один и тот же звук. Передвигая тактовые черты на нотной бумаге, мы меняем всего один элемент — место сильной доли, которую показывает дирижер. Оркестр следует за ним и играет ее соответственно.
Ксерокопия партии скрипки, использованной, когда ассистент Стравинского Роберт Крафт дирижировал «Весну священную». Заметьте, что между 46 и 47 восемь тактов с постоянно меняющимся метром заменены на четыре такта с простым трехдольным (пометка «1 2 3, 1 2 3» и т. п.)
Хотя это, возможно, не очевидно, но дирижеру крайне важно отбивать такты абсолютно так, как написано в партитурах; только в таком случае между нотами всех играющих будут правильные отношения. В конце концов, тактовая черта невидима. Изначально ее ввели, чтобы упростить исполнение музыки, а не усложнить ее. Стравинский-композитор подверг эту идею сомнению в 1913 году, отчего у Стравинского-дирижера случился стресс, который продолжался с первой (местами хаотичной) записи «Весны священной» в 1929 году до последней (более техничной, но неоднородной) записи в 1960 году.
Когда дирижер прочитает партитуру и осмыслит ее содержание, наступает следующий, весьма таинственный, этап. Дирижер отправляется в путешествие внутрь нот, чтобы выяснить, почему они начинаются с первого такта и заканчиваются последним именно так, — и путь этот у всех разный. Процесс настолько индивидуален, что, думаю, ни один дирижер не мог бы объяснить его, даже если бы у него появилось такое желание или потребность. Многие сказали бы: «Я даю музыке говорить за себя». Это верно, но, поскольку каждый аспект выступления требует тысячи решений, «за себя» подразумевает здесь очень много сложных вещей.
Представьте на минуту, что вся западная музыка рассказывает историю или, по крайней мере, имеет внутренний нарратив, который порождает ее как процесс. Язык нотной записи — это язык метафоры, отражающий чувства, которые мы испытываем. Это язык, основанный на переводе более быстрых и медленных колебаний (нот разной высоты) в видимый мир более высокого и низкого с целью понимания. Мы видим, что какая-то нота «ниже» (например, басовая), но на самом деле она вовсе не ниже в научном смысле слова. Это мы слышим ее как физически более низкую. Мы привыкли воспринимать самые медленные колебания среди нескольких, звучащих одновременно (то есть аккорда), как «корень». Возможно, так мы принимаем физические законы Вселенной, где в большинстве слышимых нами нот присутствуют более тихие ноты (под названием «обертоны»), которые вибрируют быстрее и придают ноте ее характерность. Вот почему мы чувствуем разницу между до, сыгранным на флейте, и до, сыгранным на скрипке. Каковы бы ни были причины, мы слышим западную музыку так: ноты «строятся» на основе баса.
Например, можно сказать, что первые ноты увертюры «Леонора» № 3 Бетховена «спускаются вниз». На странице видно, как ноты идут вниз по нотному стану. Конечно, у Бетховена перед глазами стоял образ (в конце концов, это увертюра к опере, рассказывающей историю): спуск в тюрьму, где держат мужа Леоноры. Зрителей, которые предположительно еще не знают сюжет, поскольку увертюру играют при закрытом занавесе, уводят «вниз», а потом еще «ниже», шаг за шагом, пока движение не заканчивается фа-диезом.
Музыковед может проанализировать этот спуск, объяснив, что, поскольку увертюра написана в тональности до мажор (и заканчивается в ней же), нота фа-диез удалена от до настолько, насколько это возможно в музыке. (В каждой октаве двенадцать полутонов. Нота фа-диез удалена на шесть полутонов от до вверху и до внизу.) Кроме того, вместе с до она составляет интервал под названием «тритон», который, как известно из истории ранней западной музыки, церковь считала «дьявольским». Получается, что с фа-диезом связано очень многое, хотя мы находимся всего лишь в четвертом такте четырнадцатиминутной увертюры.
Представим, что, будучи дирижером, вы всё это знаете — и всё это имеет для вас значение. И что? Может, вы попросите играть каждую ноту последовательности с собственным тембром, переходя от яркого к темному. Чтобы сделать так, музыканты, играющие на струнных и медных духовых, изменяют пропорцию высоких обертонов в звучании своих инструментов. Еще можно попросить струнные играть всё меньше и меньше вибрато, и, когда всё закончится на фа-диезе, звук будет мертвым. (Мы воспринимаем вибрато как живой звук. Когда струнные играют без этого небольшого трепета, создается ощущение безжизненности.) Если вы хотите показать, что оркестр остановится на фа-диезе и не будет продолжать еще неизвестно сколько, можно использовать ритардандо[14] и диминуэндо[15] на соль — последней слабой доле — прямо перед приземлением, и тогда остановка покажется неизбежной.
Первая страница увертюры «Леонора» № 3 Бетховена с пометками автора
Я делаю так потому, что, как мне кажется, таково намерение Бетховена и такова причина, по которой он написал то, что написал. Для меня это не просто последовательность нот, спускающихся по гамме вниз, а потом останавливающихся. Это музыка, и у нее есть смысл, который очень важен для оперы о свободе и политических заключенных. Где-то за тридцать шесть секунд Бетховен использует серию метафор: спуск, диминуэндо и особую серию нот, которые в соответствии с принципами традиционной гармонии определяют характерность этого пути — от света во тьму.
Я объяснил лишь малую толику процесса, с помощью которого дирижер пытается раскрыть главную тайну: почему существует эта музыка? В приведенном примере, мне кажется, я ее разгадал — по крайней мере, для себя. Так Бетховен рассказывает вам историю. Конечно, дирижерам постоянно приходится делать выбор. В целом мы пытаемся пролить свет на каждое произведение, то есть прояснить его структуру, а значит, неизбежно прояснить стоящее за ним намерение.
Даже если отказаться от концепции раскрытия нарративных аспектов в каждом произведении, остаются вопросы: что означает слово «структура» и как дирижер в итоге ее понимает? Посмотрите на любое здание. Можете ли вы представить, что поддерживает его в вертикальном состоянии? Да, вы видите его снаружи, но замечаете ли все детали внешней оболочки: расположение окон, декоративные элементы, цвет, текстуры, расстояние между окнами, размер дверей? У каждого здания есть внутренняя структура, несущие компоненты, благодаря которым оно стоит и не разваливается. И под видимой поверхностью скрыты тысячи средних элементов — среди них комнаты, полы и осветительная система. Именно там и живут люди.
Если использовать эту метафору, можно понять, как сконструировано музыкальное произведение. Западная музыка состоит из крупных блоков времени, сочетающихся друг с другом. Это могут быть части симфонии или крупные элементы внутри каждой части — структуры, которые опираются на время и память. Западная музыка строится снизу (с басовых нот), при этом мелодия обычно проходит сверху. Посередине звучат гармонии и формируются различные оттенки благодаря теневым мелодиям и гармоническим заменам, которые функционируют как простые и ожидаемые аккорды, но, будучи их экзотическими аналогами, придают музыке определенный аромат. Благодаря этому «Шехерезада» Римского-Корсакова звучит по-персидски, а саундтрек к «Гарри Поттеру» — волшебно.
Итак, в западной музыке есть два типа структур, которые, как и здание, имеют передний, средний и задний планы. Они основаны либо на процессе, то есть путешествии, либо на гармонии. Другими словами, мы, дирижеры, смотрим на движение вперед в процессе рассказывания истории и на гармонии, звучащие в каждый момент, — «одновременные события», если использовать технический термин.
Изучив тысячи нот на страницах и приобретя уверенность в том, что мы овладели дирижерской сеткой и можем подавать сигналы музыкантам, которым требуется наше внимание, а также в том, что у нас есть общее представление обо всем произведении и глубокое знание деталей и внутренних структурных элементов, мы готовы к следующему этапу, на котором продолжим завоевывать право дирижировать.
Мы понимаем, что ни одно выступление не может и не будет повторять другое, и все в зале вместе с музыкантами участвуют в создании конечного эффекта. Если слишком много возиться с внешними элементами, у публики может не сложиться общее впечатление. Если пренебречь тонкой сменой оттенков внутри гармоний, пьеса будет гораздо менее интересной. Если мы нечувствительны к более крупным структурам, произведение покажется тривиальным, как будто композитор создал длинную и аморфную импровизацию. Но как же сделать всё правильно?
Ответ на этот вопрос неизвестен. Вы просто понимаете, когда сделали всё правильно. Конечно, такое бывает редко, и, к счастью, в классической музыке обычно столько смысловых уровней, что прояснения некоторых из них, как правило, достаточно, чтобы вами восхищались. Это особенно справедливо для полифонической музыки, то есть для музыки, состоящей из нескольких одновременно звучащих мелодий, как в фуге, а не из одной мелодии, которую поддерживают «гитарные аккорды». Как только французы начали представлять музыку в виде аккордов, а не контрапункта, важнейшим элементом стал темп. Если играть слишком медленно, на переднем плане оказываются затянутые аккорды. Так происходит и с народными песнями, и с оперой Гуно. Чтобы аккордовая музыка «имела смысл», необходимо следить за скоростью изменения гармонии. В полифонической музыке всегда можно открыть что-то новое на любом уровне. Замедление выделяет мелодии среднего уровня, а ускорение акцентирует внимание на басовой линии и часто размывает более быстрые ноты (как правило, верхние). Такое происходит и с Бахом, и с Вагнером.
Этот факт приносит некоторое утешение: великое искусство музыки нельзя в полной мере показать на одном отдельно взятом выступлении. Мы, дирижеры, можем только изучать ноты, передавать их смысл и надеяться, что у нас получится сделать это в реальном времени, неизбежно эфемерно — но в некоторых случаях незабываемо.
Глава 4. Как научиться быть дирижером?
Свет в зале приглушают. Концертмейстер дает сигнал главному гобоисту сыграть ля, по которой настроится весь оркестр. Это Полярная звезда концерта — ориентир для интонирования, и все музыканты — не важно, как они извлекают звуки и каковы характеристики и история их инструментов, — согласны начинать отсюда[16]. Потом, после короткой, а порой и драматически долгой паузы, входит дирижер и вместе с оркестрантами кланяется под общие аплодисменты и отдельные выкрики «Браво!». Возможно, тут вы спрашиваете себя, как этот человек оказался на сцене.
Как и во всех историях о дирижерском искусстве, здесь нет одного-единственного пути, ведущего к центру лабиринта. Я уже говорил выше, что дирижером может стать исполнитель, который начинал в одной из секций оркестра и поднялся до роли лидера, как, например, скрипачи Бернард Хайтинк, много лет бывший главным дирижером оркестра Консертгебау, и Алан Гилберт, художественный руководитель Нью-Йоркского филармонического (в 2009–2017 годах). Николаус Арнонкур перешел из группы виолончелей Венского симфонического на должность руководителя Concentus Musicus Wien — оркестра, который исполняет классическую и раннюю музыку на копиях инструментов соответствующей эпохи.
Дирижеры Даниэль Баренбойм, Георг Шолти, Джеймс Ливайн, Риккардо Мути и Майкл Тилсон-Томас начинали как пианисты. Джон Адамс дирижирует не только собственную музыку, но и произведения других композиторов, как поступали в прошлом Мендельсон, Берлиоз и Вагнер. Стравинский, Копленд, Вила-Лобос и Миклош Рожа дирижировали только собственные работы на концертах и записях. Несколько певцов, например Дитрих Фишер-Дискау и Пласидо Доминго, перешли на подиум со сцены, и по крайней мере один хореограф, Марк Моррис, часто дирижирует представления собственных балетов.
Но кроме этих логичных с виду вариантов развития есть и исключительные. Леопольд Стоковский, например, был профессиональным органистом, никогда не играл в оркестре и формально не изучал дирижирование. В подростковом возрасте он наблюдал, как Ганс Рихтер выступает с концертами в Лондоне. Рихтер был дирижером, которого Рихард Вагнер выбрал для мировой премьеры «Кольца нибелунга» в 1876 году. Вторым источником вдохновения для Стоковского стал Артур Никиш, чьи концерты и оперные представления он посещал в юности и о ком Иоганнес Брамс однажды сказал: «Невозможно лучше услышать [мою Четвертую симфонию]». В то время для Стоковского, который в шестнадцать лет окончил Королевский колледж музыки в Лондоне, просто не существовало дирижерских программ.
Из сказанного вовсе не следует, что у всякого отличного инструменталиста есть способность дирижировать, даже если брать самых блестящих музыкантов. Такие солисты, как Яша Хейфец и Владимир Горовиц, не брались за дирижерскую палочку, а некоторые бывшие оркестранты — великие музыканты-виртуозы — хоть и пытались сделать дирижерскую карьеру, но не добились устойчивого успеха.
Ответ на вопрос, как учат дирижерскому мастерству, будет таким же туманным, как ответ на вопрос, кому в итоге суждено стать дирижером. Как и Стоковский, Артуро Тосканини никогда не учился на дирижера — эта задача на него просто свалилась. Он был ассистентом хормейстера и главным виолончелистом в гастролирующей оперной труппе из Италии. В 1886 году певцы заставили его взять на себя представление «Аиды» в Рио-де-Жанейро, потому что в театре случился кризис из-за раскола, причиной которого стал приглашенный бразильский маэстро. Тосканини дирижировал оперу по памяти, снискал славу и тем же вечером стал дирижером; ему было тогда девятнадцать лет.
Сегодня в каждой консерватории имеется программа для дирижеров. Более того, можно даже защитить докторскую диссертацию по дирижированию. Молодых людей учат читать партии и правильно пользоваться палочкой. Они изучают историю и теорию музыки, что обеспечивает их средствами для анализа произведения. Учащимся по-разному организуют практические занятия. Нетрудно догадаться, что это самая проблемная часть всего процесса. Можно дирижировать перед зеркалом, представляя себе музыку, но такие упражнения никак не подготовят вас к моменту, когда вы действительно встанете перед оркестром и почувствуете энергию многих людей, в ожидании смотрящих на вас. Можно дирижировать под запись (и, наверное, все, кто любит музыку, пробовали так делать) — это увлекательное занятие, однако абсолютно противоположное по сути дирижированию, поскольку вы реагируете на музыку, а не порождаете ее. Записи, в отличие от выступлений, не меняются при каждом проигрывании.
Поначалу учащиеся размахивают руками в классе перед одним фортепиано (или перед двумя, чтобы создавалось ощущение ансамбля). Позже им предстоит встать перед студенческим оркестром и продирижировать отрывок из симфонии, изученный на занятиях. Кроме того, их могут пригласить выступить с произведениями однокашников или возглавить ансамбль, собранный для экзаменационного концерта, где солист играет камерную пьесу, требующую присутствия дирижера.
В европейских оперных театрах кандидат в дирижеры из числа пианистов сперва аккомпанирует на репетициях, а потом продвигается выше, на роль помощника хормейстера или младшего капельмейстера. В европейской театральной системе молодому дирижеру в какой-то момент дают выступить с произведением из репертуара на сезон. Вероятнее всего, у него не будет возможности репетировать или он получит не слишком желанное произведение вроде мюзикла «Энни, бери ружье»[17]. Вряд ли ему позволят дирижировать «Зигфрида». Если у студента ничего не получится, его определят в администрацию оркестра, где он будет сидеть за столом и организовывать другим ту работу, которой хотел посвятить жизнь.
Американские оркестры обычно устраивают прослушивание молодых дирижеров на штатные позиции. Молодые люди становятся ассистентами дирижера, а потом его заместителями. Им поручают дирижировать детские концерты, выездные концерты, популярную музыку, а порой и «серьезные» вещи на выступлениях для владельцев абонементов классической музыки. Спустя несколько лет они продвигаются дальше, обычно в провинциальные оркестры, и, если там их заметят и поверят в их потенциал, идут на повышение. Однако, как указал один мой коллега, «в общем, хорошо бы не быть американцем».
Можно еще добавить: «Или женщиной».
Конечно, всё это обобщения, и любой дирижер, о котором вы слышали, расскажет вам собственную историю. У каждого свой путь и, что весьма важно, свои слабости, которые незначительны для величайших представителей нашей профессии, но непреодолимы для обычных смертных.
Однако у всех дирижеров есть нечто общее. Каждый из нас должен обладать врожденной способностью и желанием руководить. Мы, в конце концов, сержанты. Наша преданность армии сочетается с задачей добиваться от рядовых согласия и самоотдачи, что можно делать разными способами: с помощью страха, любви, уважения — и да, прагматизма. Во время так называемого золотого века маэстро дирижеры были всемогущими тиранами. Но и до самой середины XX столетия они порой демонстрировали диктаторские замашки: это можно услышать, например, в записях репетиций Тосканини с симфоническим оркестром NBC, сделанных в 1950-е годы. Разъяренный дирижер кричит и, очевидно, бросается на оркестр со своего подиума, потому что ему не нравится игра. За возгласом: «Нет! Нет!» — следует: «Corpo di Dio santissimo! No-o-o-o-o-o!»[18] Дирижер задыхается от ярости, его голос страшно слушать. Если бы он жил в наши дни, то, при всем своем величии, мог бы рассчитывать максимум на должность преподавателя или администратора университетского оркестра — конечно, если бы его не уволили за неподобающее поведение.
До тех пор, пока после Великой депрессии в американских оркестрах не образовались профсоюзы, музыкальный руководитель мог ткнуть пальцем в оркестранта, потребовать, чтобы он сыграл определенный отрывок, и, если тот сделал это недостаточно хорошо, уволить его на месте. Кроме того, не было правил, определяющих продолжительность репетиции. Когда Сергей Кусевицкий построил летнюю резиденцию для Бостонского симфонического оркестра — Тэнглвуд, она стала его личной игровой площадкой, и музыканты не могли заранее знать, в какой момент их отпустят домой поужинать с семьей. Некоторые, например Густав Малер, проводили короткие репетиции, но иные обращались с оркестрантами почти как садисты. Так они добивались результатов и поднимали стандарты, которых мы теперь ожидаем от великих дирижеров.
В 1920 году Тосканини судили за нападение на скрипача из его оркестра в Турине. Дирижер сломал ему смычок и ударил в глаз дирижерской палочкой. Обвинения сняли, потому что Тосканини «был приведен в экзальтацию своим гением», а значит, не собой. Газета Washington Times посвятила этому целую полосу в номере за 18 января, где ссылалась на современного психолога, некоего профессора Пастора, который свидетельствовал, что бессознательное Тосканини действовало как мать, способная на всё, чтобы защитить своего младенца. Этот аргумент послужил оправданием для дирижера, который набросился на скрипача, фальшивившего на репетиции Девятой симфонии Бетховена. Профессор Пастор в то время собирал материалы для работы с соответствующим названием: «Энтузиазм».