Антоний и Клеопатра Маккалоу Колин
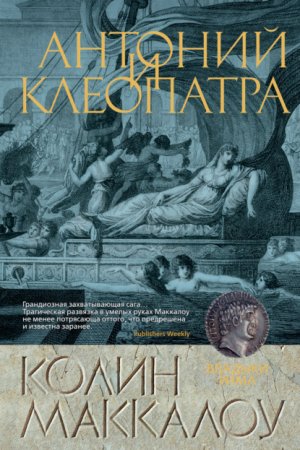
— Марция, если ты делаешь кому-то больно, будь готова получить сдачу, — сказала Октавия без тени сочувствия. — Перестань реветь, иначе я отшлепаю тебя за то, что ты начинаешь что-то, чего не можешь закончить.
Остальные четверо — трое примерно ровесники маленького мальчика и один чуть моложе светловолосой мегеры — увидели Антония и застыли с открытыми ртами, как и забияка Марция и ее жертва, которого Октавия представила как Марцелла. В пять лет Антилл смутно помнил своего отца, но не был уверен, что этот гигант действительно его отец, пока Октавия не убедила его в этом. Он просто стоял, боясь протянуть руки для объятия. Двухлетний Иулл громко расплакался, когда гигант двинулся к нему. Смеясь, Октавия подняла его и передала Антонию, а тот быстро вызвал у мальчика улыбку. Как только Антилл увидел это, он протянул руки, чтобы и его тоже обняли, и Антоний поднял его, держа на другой руке.
— Красивые малыши, правда? — спросила Октавия. — Когда они вырастут, то станут такие же большие, как ты. Какая-то часть меня ждет не дождется увидеть их в кирасах и птеригах, а другая часть боится этого, ведь тогда они уйдут из-под моей опеки.
Антоний что-то ответил, думая о другом. Марция? Марция? Чья она и почему называет Октавию мамой? Впрочем, Антилл и Иулл тоже называют ее мамой. Ребенок в кроватке, светленькая, как Марция, — это ее собственная дочь Целлина, как ему сказали. Но чья Марция? Она похожа на Юлиев, иначе он бы подумал, что она родственница Филиппа, спасенная от какой-то ужасной судьбы этой женщиной, помешанной на детях. Ибо она действительно помешана на них.
— Пожалуйста, Антоний, позволь мне взять к себе Куриона! — попросила Октавия, глядя на него умоляющими глазами. — Я не могу взять его без твоего разрешения, но он отчаянно нуждается в стабильном положении и присмотре. Ему скоро будет одиннадцать лет, а он совсем дикий.
Антоний очень удивился.
— Октавия, конечно, ты можешь взять его, но зачем тебе обременять себя еще одним ребенком?
— Потому что он несчастен, а ни один мальчик его возраста не должен быть несчастным. Он скучает по маме, игнорирует своего педагога, очень глупого, никчемного человека. Почти всегда он толчется на Форуме, где надоедает всем. Еще год или два — и он начнет красть кошельки.
Антоний усмехнулся.
— Ну, его отец, мой друг, в свое время проделывал и такое. Курион Цензор, отец моего друга, был скупым неумным автократом, и он, бывало, запирал Куриона. Я освобождал его, и мы создавали беспорядок. Возможно, ты — это то, что нужно Куриону.
— О, благодарю тебя!
Под хор протестующих голосов Октавия закрыла дверь детской. По-видимому, обычно она проводила в детской больше времени, и все дети, даже Антилл и Иулл, винили гиганта в том, что она так рано ушла.
— А кто такая Марция? — спросил Антоний.
— Моя сводная сестра. Меня мама родила в восемнадцать лет, а Марцию — в сорок четыре.
— Ты хочешь сказать, что она дочь Атии от Филиппа-младшего?
— Да, конечно. Она появилась у меня, когда мама не смогла за ней присматривать. У нее распухли и ужасно болели суставы.
— Но Октавиан ни разу не упоминал о ее существовании! Я знаю, он делает вид, что его мать умерла, но его сводная сестра! О боги, это нелепо!
— Фактически у нас две сводные сестры. Не забывай, что у нашего отца была дочь от первого брака. Теперь ей за сорок.
— Да, но…
Антоний затряс головой, как боксер, получивший серию хороших ударов.
— Ладно, Антоний, ты же знаешь моего брата! Хотя я очень люблю его, но прекрасно вижу его недостатки. Он слишком чувствителен к своему статусу и считает, что это недостойно — иметь сводную сестру на двадцать лет младше его. К тому же он чувствует, что Рим не будет воспринимать его серьезно, если его юность будет подчеркнута маленькой сестрой, о которой все будут знать. Плохо еще и то, что Марция была зачата так скоро после смерти нашего бедного отчима. Рим давно простил маме ее ошибку, но Цезарь никогда не простит. Кроме того, Марция появилась у меня, еще не умея ходить, и люди потеряли счет. — Она хихикнула. — Те, кто знакомятся с членами моей детской, считают, что она моя дочь, потому что она похожа на меня.
— Ты так любишь детей?
— Любовь — слишком слабое слово, слишком затасканное и неправильное. За ребенка я отдала бы жизнь.
— Чей бы он ни был?
— Именно. Я всегда верила, что дети — это возможность для людей сделать что-то героическое со своими жизнями, попытаться увидеть, что все их собственные ошибки исправлены, а не повторены.
На следующее утро слуги покойного Марцелла-младшего отвели детей в мраморный дворец Помпея Великого на Каринах, а те дети, которым пришлось остаться в доме Марцелла-младшего, плакали, потому что не хотели расставаться с госпожой Октавией. Дом этот принадлежал маленькому Марцеллу, но он смог бы поселиться там только через несколько лет. Антоний, душеприказчик покойного, решил пока не выставлять дом для найма. Его секретарь Луцилий был строгим надзирателем и сторожем. Он не даст дому прийти в упадок.
С наступлением сумерек Антоний перенес свою новую жену через порог дворца Помпея, видевшего, как Помпей перенес через этот же порог Юлию, и здесь их ждали шесть лет счастья, закончившиеся с ее смертью во время родов. «Пусть моя судьба не будет такой», — подумала Октавия, удивившись, с какой легкостью муж поднял ее на руки, а потом опустил, чтобы взять в руки огонь и воду. Он пронес ее руки над огнем и окунул в воду, тем самым утвердив ее как хозяйку дома. Около сотни слуг наблюдали, вздыхали, о чем-то шептались, тихо аплодируя. Репутация госпожи Октавии как самой доброй и самой понимающей женщины опередила ее. Старшие из них, особенно управляющий Эгон, мечтали, чтобы дом снова расцвел, как при Юлии. Фульвия была требовательной, но не интересовалась домашними делами.
От внимания Октавии не ускользнуло, что ее брат доволен и любезен, но она не понимала почему. Да, он надеялся заделать брешь, организовав этот брак, но что он получит от этого, если брак потерпит крах, как думали все присутствующие на церемонии? Но страшнее всего было предчувствие Октавии, что Цезарь рассчитывает на крах ее брака. Она поклялась, что если крах и наступит, то не по ее вине!
Ее первая ночь с Антонием доставила ей удовольствие, и намного большее, чем все ночи с Марцеллом-младшим, вместе взятые. То, что ее новый муж любит женщин, было видно по тому, как он касался ее, как выражал собственное удовольствие от близости к ней. Каким-то образом он избавил ее от всех запретов, преследующих ее всю жизнь. Он приветствовал ее ласки и тихое мурлыканье от ошеломившей ее радости. Он разрешил ей исследовать его тело, словно раньше никто его так не изучал. Для Октавии он был идеальным любовником, чувственным и сладострастным, его интересовали не только его желания. Слова любви и акты любви сплавились в огненный поток наслаждений, такой чудесный, что она заплакала. Прежде чем погрузиться в полубессознательный сон, почти в транс, она поняла, что умерла бы за него с такой же радостью, с какой умерла бы за ребенка.
А утром она узнала, что Антоний тоже доволен в равной степени. Когда она попыталась встать с кровати, чтобы заняться домашним хозяйством, все началось снова и было еще прекраснее, потому что они уже узнали друг друга. Она получила еще большее удовлетворение, ведь теперь она лучше знала, что именно ей надо, а он был счастлив выполнить ее просьбы.
«О, отлично, — подумал Октавиан, увидев новобрачных на обеде, который устроил Гней Домиций Кальвин два дня спустя. — Я был прав, они настолько разные, что очаровали друг друга. Теперь мне остается только ждать, когда он устанет от нее. А он устанет. Он устанет! Я должен принести жертву Квирину, чтобы он оставил ее ради любви к иностранке, а не к римлянке, и Юпитеру Наилучшему Величайшему, чтобы Рим выиграл от его неизбежного разочарования в моей сестре. Посмотрите на него, полного любви, хлещущей через край. Сентиментален, как пятнадцатилетняя девица. Презираю людей, которые поддаются такой тривиальной, неприятной болезни! Со мной этого никогда не случится, я это точно знаю. Моими эмоциями управляет ум. Я неуязвим для столь приторного дела. Как может Октавии понравиться половой акт с ним? Она удержит его в рабстве не более двух лет, а дольше — маловероятно. Ее доброта и мягкий характер для него новость, но, поскольку сам он не добрый и характер у него не мягкий, его очарование добродетелью будет меркнуть, пока не превратится в типичное для Антония бурное отвращение.
Я неустанно буду распространять слух о его женитьбе, заставлю моих агентов говорить об этом в каждом городе, большом или малом, в каждой муниципии в Италии и Италийской Галлии. До сих пор я держал агентов, чтобы они защищали мои интересы, перечисляя вероломства Секста Помпея и описывая безразличие Марка Антония к положению в своей стране. Но следующей зимой они почти не будут этим заниматься. Они будут восхвалять не сам этот союз, а госпожу Октавию, сестру Цезаря и олицетворение всего, чем должна быть римская матрона. Я воздвигну ее статуи, столько, сколько смогу, и буду умножать их, пока полуостров не застонет под их тяжестью. Ах, я это уже сейчас вижу! Октавия, целомудренная и добродетельная, как обесчещенная Лукреция; Октавия, более достойная уважения, чем весталка; Октавия, укротительница безответственного деревенщины Марка Антония; Октавия, которая без посторонней помощи спасла свою страну от гражданской войны. Да, Октавия Целомудренная должна иметь безупречную репутацию! К тому времени как мои агенты проделают всю работу, Октавия Целомудренная станет почти богиней, как Корнелия, мать Гракхов! Так что когда Антоний бросит ее, каждый римлянин и италиец проклянет его как грубое, бессердечное чудовище, которым управляет вожделение.
О, если бы я мог заглянуть в будущее! Если бы я знал ту женщину, ради которой Антоний бросит Октавию Целомудренную! Я принесу жертву всем римским богам, чтобы эту женщину все римляне и италийцы стали ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть. Если возможно, боги, перенесите вину за поведение Антония на нее. Я изображу ее злобной, как Цирцея, тщеславной, как троянская Елена, зловредной, как Медея, жестокой, как Клитемнестра, смертоносной, как Медуза. И если она не такая, я сделаю так, чтобы она всем казалась такой. Я заставлю моих агентов разносить слух, создавать образ демона из этой неизвестной женщины, так же как я создаю богиню из моей сестры.
Есть много способов победить человека, не начиная с ним открытую войну. Это же напрасная потеря жизней и процветания страны! Сколько денег она стоит! Денег, которые должны быть потрачены к вящей славе Рима.
Берегись меня, Антоний! Но ты не станешь это делать, потому что считаешь меня неудачником и женоподобным. Я не бог Юлий, нет, но я достойный преемник его имени. Прикрой глаза, Антоний, будь слепым. Я достану тебя, даже ценой счастья моей любимой сестры. Если бы Корнелия, мать Гракхов, не вела жизнь, полную боли и разочарований, римские женщины не клали бы цветы на ее могилу. Такая же судьба будет и у Октавии Целомудренной».
9
С изумлением видя, как триумвир Антоний и триумвир Октавиан ходят по городу вместе, как старые и добрые друзья, Рим бурно радовался в ту зиму, приветствуя это как начало золотого века, который, по уверениям предсказателей, стучался в дверь человечества. Да к тому же жена триумвира Антония и жена триумвира Октавиана были беременны. Воспарив так высоко в эфир творческого преображения, что не знал, как опуститься вниз, Вергилий писал свою Четвертую эклогу, предвещая рождение ребенка, который спасет мир. Более циничными были заключаемые пари, чей сын — триумвира Антония или триумвира Октавиана — станет избранным сыном. И никому даже в голову не приходило, что могут родиться девочки. Девочка не возвестит приход Десятой эры — это было несомненно.
Не то чтобы все на самом деле было хорошо. Говорили о тайном суде над Квинтом Сальвидиеном Руфом, но никто, кроме членов сената, не знал, что за свидетельство было представлено и что сказал Сальвидиен, когда адвокаты осуществляли его защиту. Вердикт шокировал всех. Уже давно римлянина не казнили за измену. Много раз ссылали, да, много было проскрипционных списков, но не было официального суда в сенате со смертельным приговором, который не может быть вынесен римскому гражданину: сначала надо лишить гражданства, а потом уже отрубать голову. Был закон о суде за измену, и хотя он не применялся уже много лет, он оставался записанным на таблицах. Так зачем секретность и почему сенат?
Не успел сенат избавиться от Сальвидиена, как на улицах Рима появился Ирод в тирском пурпуре и золотых украшениях. Он остановился в самом лучшем номере гостиницы на углу кливуса Орбия, самой дорогой гостиницы в городе, и приступил к раздаче щедрых даров определенным нуждающимся сенаторам. Его прошение в сенат назначить его царем евреев было зачитано в зале заседаний сената перед небольшой группой сенаторов, чуть больше кворума, собравшейся только благодаря его щедрым дарам и присутствию Марка Антония, который выступал на его стороне. В любом случае, вопрос был чисто гипотетическим, поскольку с санкции парфян царем евреев стал Антигон, который в обозримом будущем вряд ли отдаст трон. Парфяне или не парфяне, большинство евреев хотели Антигона.
— Где ты достал все эти деньги? — спросил Антоний, когда они входили в небольшое здание, соседнее с храмом Согласия у подножия Капитолийского холма.
В этом здании сенат принимал иностранцев, которым был запрещен вход в палату.
— У Клеопатры, — ответил Ирод.
— У Клеопатры?!
— Да, а что в этом удивительного?
— Она слишком прижимиста, чтобы давать деньги кому-то.
— Но ее сын щедр, и он управляет ею. Кроме того, мне пришлось согласиться заплатить ей доход от иерихонского бальзама, когда я стану царем.
— А-а!
Ирод получил senatus consultum, который официально утвердил его царем евреев.
— Теперь тебе остается лишь завоевать свое царство, — сказал Квинт Деллий за изысканным обедом (повара гостиницы славились своим искусством).
— Я знаю, знаю! — резко оборвал его Ирод.
— Это не я щипал Иудею, так зачем срывать злость на мне? — укоризненно промолвил Деллий.
— Потому что ты здесь, под моим носом доишь корову в свое брюхо со скоростью одной капли иерихонского бальзама за один щипок. Ты думаешь, Антоний когда-нибудь поднимет задницу и станет воевать с Пакором? Он даже не упомянул о парфянской кампании.
— Он не может. Он должен находиться на расстоянии видимости от этого сладкого мальчика, Октавиана.
— О, всему миру это известно! — нетерпеливо воскликнул Ирод.
— Кстати, о сладких вещах. Ирод, что случилось с твоими надеждами, связанными с Мариамной? Разве Антигон уже не женился на ней?
— Он не может жениться на ней, он ее дядя, и он слишком боится своих родственников, чтобы отдать ее кому-то из них. — Ирод ухмыльнулся и похлопал у себя за спиной пухлыми ручками. — Кроме того, она у меня, а не у него.
— У тебя?!
— Да, я увез ее и спрятал как раз перед падением Иерусалима.
— Ну ты и умник! — Деллий взял еще одну порцию деликатеса. — Сколько капель иерихонского бальзама в этих фаршированных птичках?
Эти и многие другие события бледнели перед реальной, животрепещущей проблемой, которая стояла перед Римом со дня смерти Цезаря: запасы зерна. Пообещавший быть хорошим Секст Помпей вновь курсировал по морю и отбирал пшеницу, даже не дождавшись, пока высохнет восковая печать на пакте. Осмелев еще больше, он посылал отряды на берег Италии каждый раз, когда наполнялись амбары, и крал пшеницу, хотя склады считались неприступными. Когда цена общественного зерна достигла сорока сестерциев за шестидневный рацион, в Риме и во всех остальных городах, независимо от размера, возникли мятежи. Раньше существовали пособия бесплатным зерном для самых бедных граждан, но бог Юлий уменьшил их количество вдвое, до ста пятидесяти тысяч, введя проверку нуждаемости. Разъяренные толпы кричали, что этот закон был введен, когда пшеница стоила десять сестерциев за модий, а не сорок! Список на получение бесплатного зерна надо расширить и включить тех, кто не может платить четырехкратную цену. Сенат отказался выполнить это требование, и мятеж стал серьезнее, чем во времена Сатурнина.
Ужасная ситуация для Антония, вынужденного быть свидетелем того, какой острой проблемой стал запас зерна, и осознавать, что он, и никто другой, дал возможность Сексту Помпею продолжать разбой.
Подавив вздох, Антоний отказался от мысли использовать по назначению двести талантов, отложенные им на свои удовольствия. Вместо этого он купил достаточно зерна, чтобы накормить еще сто пятьдесят тысяч голодных, тем самым заработав незаслуженную благодарность от неимущих. Откуда это неожиданное счастье? Откуда же еще, как не от Пифодора из Тралл! Антоний предложил этому плутократу свою дочь Антонию-младшую, невзрачную, тучную и тупую, в обмен на двести талантов наличными. Пифодор, мужчина все еще в расцвете сил, с радостью ухватился за предложение. Плачущая, как теленок без матери, Антония-младшая уже отправилась в Траллы, к чему-то, что называлось мужем. Вопящая, как корова, у которой отняли теленка, Антония Гибрида позаботилась о том, чтобы весь Рим знал, что случилось с ее дочерью.
— Как можно совершать такие гнусные вещи? — воскликнул Октавиан, разыскав своего врага Антония.
— Гнусные? Во-первых, она моя дочь и я могу выдать ее замуж за кого захочу! — взревел Антоний, ошеломленный этим новым проявлением безрассудной смелости Октавиана. — Во-вторых, деньги, которые я взял за нее, накормили вдвое больше граждан на полтора месяца! Ты сможешь критиковать меня, Октавиан, когда у тебя будет дочь, способная сделать хоть десятую долю того, что сделала для неимущих моя дочь!
— Чушь! — презрительно ответил Октавиан. — Пока ты не приехал в Рим и сам не увидел, что происходит, ты хотел сохранить эти деньги для оплаты своих растущих счетов. У бедной девочки нет ни капли здравого ума, чтобы осознать свою участь. По крайней мере, ты мог хотя бы послать с ней ее мать, а не оставлять в Риме женщину, которая будет кричать о своей потере всем и каждому в Риме, кто захочет ее выслушать!
— С каких это пор в тебе проснулись чувства? Mentulam сасо!
Октавиана чуть не стошнило от такой непристойной брани, а Антоний в ярости выскочил из комнаты, и даже Октавии не удалось смягчить ситуацию.
Гней Асиний Поллион, наконец официально утвержденный как консул, получил все положенные регалии, принес жертву богам и дал клятву выполнять долг. Он все время задавал себе вопрос, что бы такое сделать, чтобы прославить свое двухмесячное пребывание в этой должности. И теперь он знал ответ: образумить Секста Помпея. Чувство справедливости говорило ему, что этот недостойный сын великого отца отчасти прав. Ему было семнадцать лет, когда его отца убили в Египте, не было еще и двадцати, когда его старший брат умер после Мунды, где Цезарь сражался с сыновьями Гнея Помпея, и он ничего не мог сделать, когда мстительный сенат заставил его жить изгоем, отказав ему в праве восстановить семейное состояние. Чтобы избежать этой ужасной ситуации, нужен был только декрет сената, который позволил бы ему вернуться домой и наследовать статус и состояние своего отца. Но первый был намеренно опорочен с целью повысить репутацию его врагов, а второе давно уже исчезло в бездонной яме финансирования гражданской войны.
«И все же, — подумал Поллион, пригласив Антония, Октавиана и Мецената к себе в дом, — я могу попытаться заставить наших триумвиров понять, что надо предпринять что-то положительное».
— Если этого не сделать, — сказал он, угощая гостей разбавленным вином в своем кабинете, — не много времени понадобится, чтобы все присутствующие здесь оказались мертвы от рук толпы. Поскольку толпа не умеет управлять, появится новый комплект хозяев Рима — я не могу даже догадываться, кто это будет и с какого дна они поднимутся так высоко. Я не хочу, чтобы так закончилась моя жизнь. Я хочу уйти в отставку, увенчанный лаврами, и писать историю нашего бурного времени.
— Красивый оборот речи, — пробормотал Меценат, поскольку оба триумвира молчали.
— Что именно ты предлагаешь, Поллион? — спросил Октавиан после долгой паузы. — Чтобы мы, те, кто в течение нескольких лет страдал из-за этого безответственного вора и видел пустую казну, теперь восхваляли его? Сказали ему, что все прощено и он может вернуться домой? Тьфу!
— Эй, послушай, — произнес Антоний тоном государственного деятеля, — сказано немного сурово, а? Мнение Поллиона, что Секст не такой уж плохой, отчасти справедливо. Лично я всегда чувствовал, что с Секстом обошлись жестоко, отсюда мое нежелание, Октавиан, уничтожать мальчика. Я хотел сказать, молодого человека.
— Ты лицемер! — зло крикнул Октавиан. В такой ярости его никто никогда не видел. — Тебе легко быть добрым и понимающим, ты, бездеятельный болван, праздно проводящий зимы в пьянках, пока я ломаю голову, как накормить четыре миллиона человек! И где деньги, которые мне нужны, чтобы сделать это? Да в хранилищах этого трогательного, лишенного собственности, жутко оклеветанного мальчика! У него должны быть хранилища, он столько из меня выжал! А когда он выжимает из меня, Антоний, он выжимает из Рима и Италии!
Меценат положил руку на плечо Октавиана. Рука казалась мягкой, но пальцы так впились в плечо, что Октавиан поморщился и отбросил руку.
— Я пригласил вас сегодня не для того, чтобы вы тут выясняли отношения, — сурово промолвил Поллион. — Я пригласил вас, чтобы посмотреть, сможем ли мы четверо придумать такой способ обуздать Секста Помпея, который обойдется нам дешевле, чем война на море. Ответ — переговоры, а не конфликт! И я надеюсь, что ты, со своей стороны, поймешь это, Октавиан.
— Я скорее заключу пакт с Пакором, отдав ему весь Восток, — ответил Октавиан.
— Похоже, ты не хочешь найти решение проблемы, — подколол его Антоний.
— Я хочу найти решение! Единственное! А именно сжечь все его корабли до последнего, казнить его адмиралов, продать его экипажи и солдат в рабство и дать ему возможность эмигрировать в Скифию! Ибо пока мы не признаем, что именно это мы должны сделать, Секст Помпей будет продолжать морить голодом Рим и Италию себе в угоду! Этот подлец не имеет ни ума, ни чести!
— Я предлагаю, Поллион, отправить посланника к Сексту и просить его встретиться с нами, скажем, в Путеолах. Да, Путеолы подойдут, — сказал Антоний, излучая добрую волю.
— Я согласен, — тут же ответил Октавиан.
Это поразило всех, даже Мецената. Значит, его взрыв был рассчитанным ходом, а не спонтанным? Что он задумал?
Поскольку Октавиан без возражений согласился на встречу в Путеолах, Поллион поменял тему разговора.
— Тебе, Меценат, придется все организовать, — сказал он. — Я намерен сразу же уехать в Македонию выполнять обязанности проконсула. Сенат может назначить консулов-суффектов до конца года. Мне достаточно одного рыночного интервала в Риме.
— Сколько легионов ты хочешь? — спросил Антоний, довольный тем, что можно обсудить что-то, бесспорно находящееся в его компетенции.
— Достаточно шести.
— Хорошо! Это значит, что я могу дать Вентидию одиннадцать легионов для Востока. Ему нужно сдерживать Пакора и Лабиена там, где они сейчас находятся. — Антоний улыбнулся. — Опытный старый погонщик мулов, этот Вентидий.
— Возможно, опытнее, чем ты думаешь, — сухо заметил Поллион.
— Хм! Я поверю этому, когда увижу. Он почему-то не проявил себя, когда мой брат был заперт в Перузии.
— И я тоже не проявил себя, Антоний! — огрызнулся Поллион. — Может быть, наша бездеятельность объяснялась тем, что один триумвир не счел нужным отвечать на наши письма?
Октавиан поднялся.
— Я пойду, если вы не против. Простого упоминания о письмах достаточно, чтобы я вспомнил, что мне надо написать сотни их. В такие моменты я жалею, что не обладаю способностью бога Юлия диктовать одновременно четырем секретарям.
Октавиан и Меценат ушли. Поллион в упор посмотрел на Антония.
— Твоя беда, Антоний, в том, что ты ленивый и разболтанный, — едко выговорил он. — Если ты не поднимешь поскорее задницу и не сделаешь что-нибудь, может оказаться, что уже поздно что-либо делать.
— А твоя беда, Поллион, в том, что ты дотошный, беспокойный человек.
— Планк ворчит, а он возглавляет фракцию.
— Тогда пусть ворчит в Эфесе. Он может поехать управлять провинцией Азия, и чем скорее, тем лучше.
— А Агенобарб?
— Может продолжить управлять Вифинией.
— А как насчет царств-клиентов? Деиотар мертв, а Галатия рушится и погибает.
— Не беспокойся, у меня есть несколько идей, — промурлыкал Антоний и зевнул. — О боги, как я ненавижу Рим зимой!
10
В Путеолах в конце лета был заключен пакт с Секстом Помпеем. Антоний своего мнения об этом не разглашал, но что касается Октавиана, он знал, что Секст не будет вести себя как честный человек. В глубине души он был плебеем из Пицена, опустившимся до пирата и неспособным сдержать слово. В ответ на согласие разрешить свободно провозить зерно в Италию Секст получал официальное признание его губернаторства в Сицилии, Сардинии и Корсике. Он также получал греческий Пелопоннес, тысячу талантов серебра и право быть выбранным консулом через четыре года с Либоном в качестве консула на следующий год. Все, у кого ум был больше горошины, понимали, что это фарс. «Как ты, наверное, смеешься сейчас, Секст Помпей», — думал Октавиан после переговоров.
В мае жена Октавиана Скрибония родила девочку. Октавиан назвал ее Юлией. В конце июня Октавия тоже родила девочку, Антонию.
Один из пунктов контракта с Секстом Помпеем гласил, что оставшиеся ссыльные могут вернуться домой. Среди таких ссыльных был и Тиберий Клавдий Нерон, который не чувствовал себя достаточно защищенным после пакта Брундизия. Поэтому он оставался в Афинах до тех пор, пока не решил, что теперь может безнаказанно вернуться в Рим. Сделать это было сложно, так как состояние Нерона почти исчезло. Частично это произошло по его вине, поскольку он неумно инвестировал в компании по сбору доходов, которые отдавали на откуп сбор налогов с провинции Азия и прогорели, после того как Квинт Лабиен и его парфянские наемники вторглись в Карию, Писидию, Ликию — их самые богатые источники наживы. А частично — не по его вине, разве что более умный человек остался бы в Италии и умножал свое богатство, а не убегал, оставив его в распоряжении недобросовестных греческих вольноотпущенников и бездеятельных банкиров.
Таким образом, Тиберий Клавдий Нерон, возвращавшийся домой ранней осенью, находился в таком финансовом затруднении, что оказался плохим компаньоном для своей жены. Финансовые ресурсы позволили ему нанять только открытую тележку для багажа и паланкин. Правда, он разрешил Ливии Друзилле разделить с ним это средство передвижения, но она отказалась без объяснения причин. А причин было две. Во-первых, носильщики были слабые, жалкие, едва способные поднять паланкин с Нероном и его сыном. А во-вторых, она ненавидела находиться рядом с мужем и его сыном. Транспортное средство передвигалось со скоростью пешехода, а Ливия Друзилла шла пешком. Погода была идеальная: теплое солнце, прохладный бриз, много тени, запах пожухлой травы и специальных ароматных трав, выращиваемых фермерами, чтобы вредители погибали зимой. Нерон предпочитал ехать по дороге, Ливия Друзилла шла по обочине, где ромашки образовали мягкий ковер под ногами и можно было подобрать ранние яблоки и поздние груши, которые ветром сорвало с деревьев. Пока она не исчезала из поля зрения сидящего в паланкине Нерона, мир принадлежал ей.
У Теана Сидицинского они свернули с Аппиевой дороги на Латинскую: те, кто продолжал путь в Рим по Аппиевой дороге через Помптинские болота, рисковали жизнью, ибо место было малярийное.
У города Фрегеллы они остановились в скромной гостинице, и Нерон тут же заказал ванну.
— Не выливайте воду, после того как я и мой сын вымоемся, — предупредил он. — Моя жена сможет воспользоваться ею.
В их комнате он хмуро посмотрел на нее. Сердце у нее забилось, она боялась, что лицо выдаст ее, но стояла сдержанная и услужливая, готовая выслушать уже давно известное из многолетнего опыта.
— Мы приближаемся к Риму, Ливия Друзилла, и я напоминаю тебе: старайся не тратить лишних денег. Маленькому Тиберию в будущем году понадобится педагог — вынужденные расходы, — и ты должна быть достаточно экономной, чтобы облегчить это бремя. Никаких новых платьев, никаких драгоценностей и определенно никаких специальных слуг вроде парикмахера или косметолога. Это понятно?
— Да, муж, — покорно ответила Ливия Друзилла и вздохнула про себя.
Не то чтобы ей очень нужен был парикмахер или косметолог, но она отчаянно нуждалась в покое, в спокойной жизни без постоянной критики. Она хотела прибежища, где могла бы читать, что хотела, выбирать меню независимо от стоимости блюд и не отчитываться о тех ничтожных суммах, что она тратила. Она хотела, чтобы ее обожали, хотела видеть лица, которые светились бы при упоминании ее имени. Вот, к примеру, Октавия, благородная жена Марка Антония, чьи статуи стояли на рыночных площадях в Беневенте, Капуе, Теане Сидицинском. Что она сделала, в конце концов, кроме того, что вышла замуж за триумвира? Но люди воспевают ее, словно она богиня, молятся, чтобы хоть раз увидеть ее, когда она путешествует между Римом и Брундизием. Люди продолжают бредить о ней, приписывая наступивший в стране мир ее заслугам. О, если бы стать такой Октавией! Но кого интересует жена патриция, если его зовут Тиберий Клавдий Нерон?
Он в упор смотрел на нее, озадаченный. Ливия Друзилла вдруг очнулась, облизнула пересохшие губы.
— Ты хочешь что-то сказать? — холодно спросил он.
— Да, муж.
— Тогда говори, женщина!
— Я жду ребенка. Думаю, снова сына. Симптомы такие же, какие были, когда я носила Тиберия.
Сначала пришло потрясение, потом все возрастающее неудовольствие. Уголки рта опустились, Тиберий скрипнул зубами.
— Ливия Друзилла! Неужели ты не могла лучше следить за собой? Я не могу позволить себе иметь второго ребенка, тем более второго сына! Тебе надо пойти к Bona Dea и попросить снадобье, как только мы прибудем в Рим.
— Боюсь, будет уже поздно, господин.
— Cacat! — крикнул он в ярости. — Какой срок?
— Думаю, почти два месяца. А снадобье можно применять только до шести рыночных интервалов. А у меня уже семь.
— Даже если это так, ты примешь снадобье.
— Конечно.
— Не хватало только этого! — крикнул он, вскинув кулаки. — Уйди, женщина! Уйди и дай мне спокойно принять ванну!
— Ты хочешь, чтобы Тиберий присоединился к тебе?
— Тиберий — моя радость и утешение, конечно я хочу!
— Тогда позволь мне прогуляться, посмотреть старый город?
— Что касается меня, жена, ты можешь хоть шагнуть с утеса!
Фрегеллы уже сорок восемь лет представляли собой город-призрак, разграбленный Луцием Оптимием за восстание против Рима в те дни, когда полуостров представлял собой мозаику из италийских государств, между которыми были расположены «колонии» римских граждан. Несправедливость бесцеремонного обращения с ними заставила наконец италийские государства объединиться и попытаться сбросить римское ярмо. Ожесточенная война имела много причин, но началась она с убийства приемного деда Ливии Друзиллы, плебейского трибуна Марка Ливия Друза.
Может быть, потому, что его внучка все это знала, она с болью в сердце, сдерживая слезы, медленно шла среди разрушенных стен и сохранившихся старых зданий. О, как смеет Нерон так обращаться с ней! Как может он винить ее в беременности? Ее, которая, если бы это было возможно, никогда не легла бы в его постель? В Афинах она поняла, как быстро растет в ней отвращение к нему. Она оставалась покорной женой, но ненавидела каждый момент исполнения своего долга.
Она знала о своем деде. Но она не знала, что пятьдесят лет назад Луций Корнелий Сулла шел тем же путем, глядя на алые маки, удобренные кровью италийцев и римлян, с пятнами желтых ромашек, качавшихся на ветру, словно кокетливо строивших глазки, и задавал себе вопрос, на который никто не может ответить: ради чего было совершено убийство, почему мы идем войной на наших братьев? И как и он, Ливия Друзилла сквозь слезы, застилающие глаза, увидела римлянина, приближавшегося к ней, и подумала: реальный он или привидение? Сначала она огляделась в поисках места, где могла бы спрятаться. Но когда он приблизился, она опустилась на ту же секцию колонны, которую Гай Марий использовал как сиденье, и стала ждать, когда человек подойдет к ней.
На нем была тога с пурпурной каймой. Копна великолепных золотистых волос, грациозная и уверенная походка, под широкой тогой угадывалось стройное молодое тело. Он был уже на расстоянии нескольких шагов от нее, и его лицо стало отчетливо видно. Очень гладкое, красивое, суровое и в то же время доброе, с серебристыми глазами, обрамленными в золото ресниц. Ливия Друзилла смотрела, открыв рот.
У Октавиана тоже возникло желание убежать. Иногда люди утомляли его, каким бы благонамеренным ни было их внимание и какой бы неоспоримой ни была их лояльность. А старый город Фрегеллы находился совсем близко от Новой Фабратерии — города, построенного вместо него. Октавиан шел, подставив лицо солнечным лучам и позволив мыслям блуждать где-то, что он делал нечасто. Эти руины действовали удивительно успокаивающе, наверное из-за тишины. Жужжание пчел вместо гомона рыночной площади, еле слышное мелодичное пение какой-то птицы вместо концерта уличных музыкантов на той же рыночной площади. Покой! Как красиво, как необходимо!
Может быть, из-за того, что он отпустил мысли на волю, его охватило чувство одиночества. Впервые в его деятельной жизни он осознал, что нет вокруг него ни одного человека, который существовал бы только для него. О да, есть Агриппа, но это не то, что он имеет в виду. Кто-то только для него, кто-то вроде матери или жены, эта изумительная смесь женственности и бескорыстной преданности, какой Октавия одарила Антония или его мать — будь она проклята! — одарила Филиппа-младшего. Но нет, он не будет думать об Атии и ее непристойном поведении! Лучше думать о сестре, самой дорогой, любимой римлянке, когда-либо жившей на свете. Почему столько радости достается этому грубияну Антонию? Почему у него нет своей собственной Октавии, хотя и отличной от его сестры?
Вдруг он увидел, как кто-то идет по опустевшим каменным останкам Фрегелл. Женщина при виде его готова была убежать, но потом опустилась на основание колонны и осталась сидеть со слезами на щеках, блестевшими при солнечном свете. Сначала он подумал, что она привидение, но, остановившись, понял, что она реальная. Самое очаровательное личико повернулось сначала к нему, потом опустилось вниз. Красивые руки, сложенные на коленях, дрожали. На них не было драгоценностей, но больше ничто не говорило о том, что она низкого происхождения. Это была знатная дама, он чувствовал это нутром. Какой-то инстинкт в нем вырвался из клетки и закричал с такой силой, что внезапно он понял его божественный посыл: она послана ему, это божественный дар, который он не может — не хочет — отвергнуть. Он чуть не крикнул громко своему божественному отцу, но только покачал головой. Заговори с ней, разрушь чары!
— Я помешал тебе? — спросил он, улыбаясь своей чудесной улыбкой.
— Нет-нет! — выдохнула она, вытирая еще не высохшие слезы. — Нет!
Он сел у ее ног, недоуменно глядя на нее снизу вверх. Взгляд его поразительных глаз вдруг стал ласковым.
— На какой-то момент я подумал, что ты — богиня на рыночной площади, — сказал он, — а теперь вижу горе, которое можно было бы принять за оплакивание судьбы Фрегелл. Но ты не богиня — пока. Однажды я превращу тебя в богиню.
Какое безрассудство! Она не поняла его, сначала подумала, что он немного сумасшедший, но — тут же влюбилась.
— У меня появилось свободное время, — произнесла она с пересохшим ртом, — и я захотела осмотреть руины. Они такие мирные. А я так хочу покоя!
Последние слова вырвались у нее против воли.
— О да, когда люди покидают место, оно освобождается от всех своих ужасов. Оно излучает покой смерти, но ты слишком молода, чтобы готовиться к смерти. Мой двоюродный прадед Гай Марий однажды встретил другого моего двоюродного прадеда Суллу здесь, среди опустошения. Это была своего рода передышка. Видишь ли, оба они занимались тем, что делали другие города мертвыми.
— И ты тоже это делал? — спросила она.
— Не намеренно. Я скорее строил бы, чем разрушал. Но я никогда не буду восстанавливать Фрегеллы. Это мой памятник тебе.
Действительно сумасшедший!
— Ты шутишь, а я не заслуживаю этого.
— Как я могу шутить, если видел твои слезы? Почему ты плакала?
— Из-за жалости к себе, — честно призналась она.
— Ответ хорошей жены. Ты хорошая жена, не правда ли?
Она посмотрела на свое простое золотое обручальное кольцо.
— Я пытаюсь быть ею, но иногда это тяжело.
— Тебе не было бы тяжело, если бы твоим мужем был я. Кто он?
— Тиберий Клавдий Нерон.
Дыхание вырвалось со свистом.
— Ах этот. А ты?
— Ливия Друзилла.
— Из благородного старинного рода. И наследница.
— Уже нет. Моего приданого больше не существует.
— Ты хочешь сказать, Нерон потратил его.
— Да, после нашего побега. На самом деле я из рода Неронов, но ветви Клавдиев.
— Значит, твой муж — твой двоюродный брат. У вас есть дети?
— Один, мальчик четырех лет. — Ее черные ресницы опустились. — И еще одного я ношу. Я должна принять снадобье.
Ecastor, что заставило ее сказать это совершенно незнакомому человеку?
— Ты хочешь принять снадобье?
— И да, и нет.
— Почему да?
— Я не люблю моего мужа и моего первенца.
— А почему нет?
— Мне кажется, что у меня больше не будет детей. Bona Dea говорила со мной, когда я принесла ей жертву в Капуе.
— Я только что вернулся из Капуи, но тебя там не видел.
— Я тоже тебя там не видела.
Наступило молчание, сладкое и безмятежное, лишь где-то на периферии сознания пели жаворонки и жужжали крошечные насекомые в траве, словно даже тишина была слоистой. «Это магия», — подумала Ливия Друзилла.
— Я могла бы сидеть здесь вечно, — хрипло сказала она.
— Я тоже, но только если ты будешь со мной.
Боясь, что он дотронется до нее, а она не сможет его оттолкнуть, она быстро заговорила.
— На тебе toga praetexta, но ты так молод. Это значит, что ты один из приближенных Октавиана?
— Я не приближенный. Я — Цезарь.
Она вскочила.
— Октавиан? Ты — Октавиан?
— Я не откликаюсь на это имя, — сказал он, но не сердито. — Я — Цезарь, сын бога. Придет день, и я буду Цезарем Ромулом, согласно декрету сената, утвержденному народом. После того, как я одержу победу над моими врагами и мне не будет равных.
— Мой муж — твой заклятый враг.
— Нерон? — Он засмеялся, искренне развеселившись. — Нерон — ничтожество.
— Он мой муж и судья моей судьбы.
— Ты хочешь сказать, что ты его собственность. Я его знаю! Слишком многие мужчины обращаются со своими женами как с животными или рабами. Очень жаль, Ливия Друзилла. Я думаю, жена должна быть самым любимым товарищем мужа, а не рабыней.
— Ты именно так относишься к своей жене? — спросила она, когда он поднялся на ноги. — Как к твоему товарищу?
— Не к нынешней жене, нет. Бедной женщине не хватает ума. — Его тога немного съехала набок. Он поправил складки. — Я должен идти, Ливия Друзилла.
— Я тоже, Цезарь.
Они пошли вместе в сторону гостиницы.
— Я сейчас направляюсь в Дальнюю Галлию, — сказал он у развилки дорог. — Я планировал долго пробыть там, но теперь я встретил тебя и вернусь еще до конца зимы. — Он улыбнулся, и его белые зубы сверкнули на фоне смуглой кожи. — А когда я возвращусь, Ливия Друзилла, я женюсь на тебе.
— Я уже замужем и верна своим клятвам. — Она гордо выпрямилась. Достоинство ее было задето. — Я не Сервилия, Цезарь. Я не нарушу клятв даже с тобой.
— Поэтому я и женюсь на тебе.
Он пошел по левой дороге, не оглядываясь, но голос его был ясно слышен:
— Да и Нерон никогда не разведется с тобой, чтобы ты вышла замуж за подобного мне, верно? Какая ужасная ситуация! Как же ее разрешить?
Ливия Друзилла смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду. Только тогда она вспомнила, для чего ей даны ноги, и пошла. Цезарь Октавиан! Конечно, все это чепуха. Из того, что она знала о мужчинах, он говорил похожие слова каждой симпатичной женщине, какую встречал. Власть дает мужчинам преувеличенное представление о своей привлекательности для женщин. Взять хотя бы Марка Антония, который так старался очаровать ее. Единственная проблема заключалась в том, что Антоний вызвал у нее отвращение, а вот в его врага она влюбилась. Один взгляд — и она пропала.
Когда она принесла яйца и молоко священной змее, живущей в храме богини Bona Dea в Капуе, та выползла из щели блестящей чешуйчатой лентой, которую солнечные лучи превратили в золотую, сунула морду в молоко, проглотила оба яйца, потом подняла клинообразную голову и посмотрела на Ливию Друзиллу холодными глазами. Она без страха взглянула в эти глаза, сердцем слушая, как змея что-то говорит ей на непонятном языке, потом протянула руку, чтобы погладить змею. Та положила голову на ее ладонь и стала высовывать и прятать язык, высовывать и прятать — словно что-то говорила ей. Что же она сказала? Словно сквозь плотный серый туман Ливия Друзилла силилась вспомнить. Она считала, что у змеи послание от Bona Dea: если она готова принести жертву, Bona Dea подарит ей целый мир. После этого дня она убедилась в своей новой беременности. Никто никогда не видел священную змею, которая ждала ночи, чтобы выползти и выпить молоко и съесть яйца. Но Ливии Друзилле она явилась при свете яркого солнца — длинная золотая змея толщиной с руку. «Bona Dea, Bona Dea, подари мне мир, и я восстановлю церемонию поклонения тебе, какой она была до того, как вмешались мужчины!»
Нерон был занят чтением многочисленных свитков. Когда она вошла, он зло посмотрел на нее.
— Слишком долго гуляла, Ливия Друзилла, для человека, который весь день провел на ногах.






