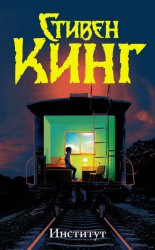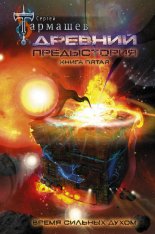Насосы интуиции и другие инструменты мышления Деннетт Дэниел
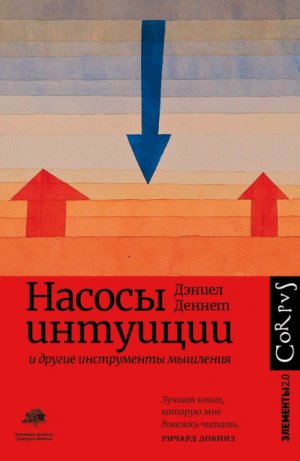
Термитник и Храм Святого Семейства Антонио Гауди очень похожи по форме, но их происхождение и конструкция сильно различаются. Структура и форма термитника обусловлены определенными причинами, однако эти причины не выражаются ни одним из термитов. Нет никакого термита-архитектора, который проектирует термитник, а отдельные термиты не имеют ни малейшего понятия о том, почему они строят его именно таким образом. Это компетентность без понимания. Структура и форма шедевра Гауди тоже обусловлены определенными причинами, но эти причины (в основном) объясняются замыслом Гауди. Гауди имел причины возвести именно такие формы, а форма термитника определяется другими причинами, однако термиты не имеют никаких причин возводить его именно таким образом. Есть причины, по которым деревья широко раскидывают свои ветви, но нельзя сказать, что деревья имеют на это причины. Поведение губок небеспричинно; поведение бактерий небеспричинно; небеспричинно даже поведение вирусов. Однако ни губки, ни бактерии, ни вирусы не имеют причин вести себя именно таким образом – причины им просто не нужны.
Существует множество причин такого поведения, но, как правило, организмы их не понимают. Они получают готовые паттерны поведения, сформированные в процессе эволюции, и извлекают из них выгоду, не осознавая их принципов. В природе эта характеристика встречается повсеместно, но часто ее скрывает наша тенденция принимать интенциональную установку и считать поведение более разумным и рациональным, чем на самом деле. Как умны термиты, которые проветривают термитники с помощью удачно расположенных вентиляционных шахт! Как дальновидны белки, которые запасаются едой на зиму! Как хитры щуки, которые замирают на месте при приближении жертвы! Все эти стратегии действительно ведут к успеху в условиях жесткой конкуренции в природе, но их выгодоприобретателям не обязательно понимать все то, что понимаем мы в процессе их изучения. До нас никто не формулировал причины, которые обусловливают успешность этих стратегий.
41. Понимают ли цикады простые числа?
Чтобы подчеркнуть независимость чисел и цифр, плавающих оснований и сформулированных причин, рассмотрим пример цикад. В 1977 г. Стивен Джей Гулд написал любопытную работу, в которой восхищенно заметил, что длительность репродуктивного цикла цикад (например, “семнадцатилетней саранчи”) всегда выражается простыми числами – так, цикл может продолжаться тринадцать или семнадцать лет, но не пятнадцать и не шестнадцать. “Как эволюционисты, – замечает Гулд (p. 99), – мы ищем ответ на вопрос почему. Почему, в частности, возникает такая поразительная синхронность и почему между эпизодами полового размножения проходит так много времени?” Ответ – красота которого очаровывает – заключается в том, что большое простое число лет между появлениями выводков позволяет цикадам минимизировать вероятность, что их обнаружат, а затем выследят и поймают хищники, которые сами появляются раз в два или три года или даже раз в пять лет. Если бы выводки появлялись, скажем, раз в шестнадцать лет, тем хищникам, которые появляются ежегодно, полакомиться ими удавалось бы нечасто, но при этом они служили бы более надежным источником пропитания для хищников, которые появляются раз в два или четыре года. Всегда в выигрыше оставались бы хищники, попадающие в фазу с цикадами и появляющиеся раз в восемь лет. Однако если длительность репродуктивного цикла цикад не раскладывается на множители, “пытаться” отследить их имеет смысл разве что тем видам, которым повезло иметь точно такую же длительность цикла (или цикл которых в несколько раз длиннее – мифическому 34-летнему пожирателю цикад голодать бы не пришлось).
Стоит пояснить, что основательность этого объяснения (которая, впрочем, еще не установлена) не опирается ни на какую гипотезу, предполагающую, что цикады понимают арифметику, не говоря уже о простых числах. Она не опирается и на понимание простых чисел процессом естественного отбора. Бездумный, ничего не сознающий процесс естественного отбора может эксплуатировать это важное свойство некоторых чисел, вообще не испытывая нужды его понимать. Вот другой пример: ни пчелы, ни Мать-Природа не испытывают нужды понимать геометрию, которой объясняется совершенство шестигранной формы сот. Можно привести и множество других примеров, в которых эволюция демонстрирует математическую компетентность без понимания.
42. Как объяснить смотровые прыжки
Помните обескураживающую закономерность, которая наблюдалась в насосе интуиции о двух черных ящиках? Не нужно было располагать ни семантической, ни интенциональной интерпретацией ящиков, чтобы увидеть, что каждое нажатие на кнопку зажигало красную лампочку, а каждое нажатие на кнопку зажигало зеленую лампочку, – этот очевидный паттерн не требовал объяснений. Ученые в точности понимали, как выполняются вычисления и как передается сигнал при каждом отдельном нажатии на кнопку, однако не могли вывести общее правило. Чтобы объяснить существование закономерности, необходимо прибегнуть к семантической интерпретации. Иными словами, “макрокаузальный” уровень, на котором формулируется объяснение, не “сводится” к “микрокаузальному”.
Вот другой пример этого типичного явления. Вероятно, вы видели по телевизору, как газели убегают от хищника по равнине, и замечали, что некоторые газели, стремясь уйти от преследователя, время от времени высоко выпрыгивают в воздух. Такие прыжки называются смотровыми. Зачем газели их совершают? Очевидно, смотровые прыжки идут им на пользу, поскольку газели, высоко выпрыгивающие во время погони, редко оказываются пойманными и растерзанными. Эта каузальная закономерность наблюдалась в течение долгого времени, подобно закономерности кнопок и лампочек. И она тоже может обескураживать. Как бы хорошо мы ни представляли механику работы всех белков во всех клетках всех газелей и всех преследующих их хищников, это не поможет нам объяснить существование закономерности. Чтобы понять, чем она обусловлена, нам нужно обратиться к ответвлению теории эволюции, которое называется теорией дорогостоящих сигналов (Zahavi 1987; FitzGibbon, Fanshawe 1988). Самые сильные и быстрые газели выпрыгивают, чтобы показать преследователю свою физическую форму, сигнализируя тем самым: “Даже не пытайся меня догнать, поймать меня слишком сложно. Лучше обрати внимание на моих собратьев, которые не умеют так прыгать, ведь съесть их гораздо проще!” Преследователь считает этот сигнал подлинным, поскольку подделать его нелегко, и не обращает внимания на выпрыгивающих газелей. Это плавающее основание, которое не нужно понимать ни газели, ни хищнику. Иными словами, газель может даже не догадываться, почему при возможности ей стоит делать смотровые прыжки, а хищник, скажем лев, может не понимать, почему выпрыгивающие газели не привлекают его в качестве добычи, но если бы сигналы не были подлинными, дорогостоящими сигналами, они не сохранились бы в эволюционной гонке вооружений между хищниками и жертвами. (Если бы эволюция попыталась использовать “дешевые” сигналы вроде виляния хвостом, на которое способна любая газель, какой бы сильной или слабой она ни была, львам не было бы смысла обращать на это внимание, а потому они не стали бы этого делать.) Подобные закономерности объясняются только на уровне плавающих оснований, поскольку свести их на более низкий, например молекулярный, уровень невозможно. При этом важно понимать, что, даже если причины и принципы смотровых прыжков объясняются из интенциональной установки (с позиции того, какой рациональный вывод лев может сделать, наблюдая смотровые прыжки газели), конкретному льву или газели нет нужды поимать смысл смотровых прыжков, чтобы они выполняли свою задачу; им достаточно лишь вроде как понимать его.
43. Опасайтесь первого млекопитающего
Вы можете полагать, что сами являетесь млекопитающим, а также что млекопитающими являются собаки, коровы и киты, но на самом деле млекопитающих вообще не существует. Их просто не может быть! Вот философское доказательство (взято с изменениями из работы Sanford 1975):
1. Мать каждого млекопитающего – млекопитающее.
2. Если бы млекопитающие существовали, их число было бы конечно.
3. Однако если бы существовало хотя бы одно млекопитающее, то, согласно пункту (1), число млекопитающих было бы бесконечно, что противоречит пункту (2), а следовательно, млекопитающих существовать не может. Возникает логическое противоречие.
Так как мы прекрасно знаем, что млекопитающие существуют, это доказательство мы рассматриваем всерьез лишь с целью понять, где в нем кроется ошибка. Очевидно, в нем используется доведение до абсурда, поэтому нужно разобраться, что с ним не так. И, в целом, мы знаем, что с ним не так: если проследить родословную любого млекопитающего достаточно далеко, рано или поздно в ней возникнут терапсиды – странные, вымершие виды, представляющие собой промежуточное звено между рептилиями и млекопитающими. Чистые рептилии эволюционировали в чистых млекопитающих постепенно, и многие промежуточные звенья на пути от одних к другим с трудом поддаются классификации. Как нам определить, в какой момент рептилии стали млекопитающими, наблюдая этот спектр постепенных изменений? Можем ли мы назвать первое млекопитающее, мать которого млекопитающим не была, и тем самым отвергнуть условие (1)? На каких основаниях? Какими бы ни были эти основания, они вступят в конфликт с основаниями, которые мы могли бы использовать для доказательства, что это животное не было млекопитающим, поскольку его мать была терапсидой. Как лучше проверить животное на терапсидность? Допустим, мы перечислили десять главных отличий терапсид от млекопитающих и постановили, что животное можно признать млекопитающим, если у него есть пять и более соответствующих признаков. Даже если не принимать во внимание произвольность обозначенных критериев – почему десять отличий, а не шесть и не двадцать? разве их не стоит выстроить в порядке важности? – любое подобное разделение породит множество нежелательных вердиктов, поскольку на протяжении долгого, очень долгого переходного периода от чистых терапсид к чистым млекопитающим найдется много случаев, когда млекопитающие (по нашему правилу пяти и более признаков) спаривались с терапсидами (менее пяти признаков млекопитающих) и производили потомство, которое представляло собой терапсид, рожденных у млекопитающих, млекопитающих, рожденных у терапсид, рожденных у млекопитающих, и так далее! Само собой, чтобы увидеть все эти аномалии, нам потребуется машина времени, поскольку прошли уже миллионы лет и в подробностях их уже не изучить. Но в этом нет ничего страшного, ведь в долгосрочной перспективе подробности не важны. Что нам делать? Нам следует подавить свое желание провести черту между классами. В этой черте нет нужды. Нам под силу смириться с тем, что все постепенные изменения, накапливавшиеся на протяжении миллионов лет, в конце концов привели к появлению настоящих млекопитающих, и в этом факте нет ничего шокирующего и таинственного. Подобным образом нет нужды и точно определять различия между озерами, прудами, болотами и топями – такая точность ни к чему даже лимнологам (специалистам по внутренним водам).
Философы, однако, склонны придираться к словам. С тех пор как Сократ потребовал, чтобы ему однозначно назвали отличительные черты добродетели, знания, смелости и подобных вещей, философы лелеют надежду остановить подобный бесконечный регресс, выявив сущность, которая станет – должна стать – его стопором: в нашем случае это первое млекопитающее. Часто в результате появляются доктрины, тонущие во множестве загадок и тайн, а философы обращаются к эссенциализму. Первым млекопитающим должно быть то млекопитающее, которое первым получило все сущностные характеристики млекопитающего. Если сущность млекопитающего определить невозможно – а эволюционная биология показывает нам, что это и впрямь невыполнимо, – эти философы оказываются в затруднительном положении. В связи с этим просто не обращайте внимания на философские требования сущности, отличительной черты, “определителя истинности”. Как правило – хоть и не всегда, – подобные требования только запускают охоту за призраками, которая может быть любопытна, но в лучшем случае приносит лишь скромные плоды.
Многим философам очень сложно отказаться от этого требования. Рациональные методы философствования, применявшиеся со времен Сократа, почти всегда предполагают необходимость определения терминов, тем самым заставляя всех участников дискуссии принять доктрину эссенциализма, пускай, как говорится, и чисто теоретически. Если отказаться от эссенциализма, некоторые из наших любимых типов доказательств окажутся практически бесполезными. Рассмотрим, к примеру, структуру аргументов, начинающихся с заведомо истинной дизъюнкции:
Или А, или не-А (что на это возразить?)
Если выбрать путь А, затем то-то-то, вы придете к выводу С;
если выбрать путь не-А, затем то-то-то, вы тоже придете к выводу С!
Следовательно, С установлено.
Но что если существует множество промежуточных случаев, в которых сложно понять, считать их А или не-А (млекопитающие или не млекопитающие, живые или неживые, сознательные или несознательные, убеждение или не убеждение, моральное или аморальное и т. д.)? Чтобы отбросить эти тревоги, нужно “провести черту”, отделяющую А от не-А, и запретить все разговоры о вроде как. В отсутствие этой четкой границы, определяющей сущность обсуждаемого предмета, доказательство просто не сконструировать. Такие доказательства блестяще работают в математике, где действительно можно проводить все нужные черты. Любое целое число действительно четно или нечетно; любое число действительно рационально или иррационально; а любой многоугольник действительно (трехсторонний) треугольник или нет. За пределами таких абстрактных сфер подобные аргументы работают не столь хорошо.
Упрямо настаивать, что первое млекопитающее должно существовать, даже если нам не под силу установить, когда и где оно существовало, – значит, предаваться истерическому реализму. Он намекает нам, что если бы мы знали достаточно, мы разглядели бы – иначе и быть не может – особое свойство млекопитающих, которое определяет сущность млекопитающих раз и навсегда. Отрицать это, как порой замечают философы, значит, путать метафизику с эпистемологией: науку о том, что (на самом деле) существует, с наукой о том, что мы можем знать о сущем. Я отвечу, что мыслителям случается свернуть не туда и спутать метафизический вопрос с (исключительно) эпистемологическим, однако в подобных случаях их ошибку следует доказывать, а не просто озвучивать.
44. Когда происходит видообразование?
Любопытная черта эволюции путем естественного отбора заключается в том, что она полагается на события, которые “почти никогда” не происходят. К примеру, видообразование – процесс, в ходе которого появляются новые виды, отделяющиеся от родительских видов, – происходит чрезвычайно редко, однако каждый из миллионов видов, когда-либо существовавших на этой планете, появился в результате видообразования. Каждое рождение в каждой генеалогии потенциально может привести к видообразованию, однако видообразование не происходит почти никогда – даже в одном случае на миллион. Мутация ДНК не происходит почти никогда – даже в одном случае на триллион копирований, – но эволюция зависит от нее. Более того, подавляющее большинство мутаций либо губительны, либо нейтральны; неожиданно “удачных” мутаций не случается почти никогда. Но эволюция полагается на эти редчайшие из редких событий.
Рассмотрим насос интуиции о любопытной возможности. Насколько нам известно, сейчас планету населяет лишь один вид гоминид, Homo sapiens. Допустим, через пятьдесят лет все люди, за исключением горстки счастливчиков из числа наших потомков, погибнут из-за вируса. На планете останется только две группы выживших: тысяча инуитов, живущих на острове Корнуоллис неподалеку от Гренландии, и тысяча андаманцев, живущих в полной изоляции на островах посреди Индийского океана. Две этих популяции были на протяжении тысяч лет изолированы друг от друга и выработали характерные физиологические различия в ответ на разные условия обитания, но у нас нет оснований сомневаться в стандартном предположении, что они принадлежат к нашему виду. Допустим, эти популяции останутся географически и репродуктивно изолированными друг от друга еще на десять тысяч лет и в конце концов населят планету двумя видами – это выяснится, когда они встретятся и обнаружат, что спаривание друг с другом не представляет для них интереса, а немногочисленные случайные попытки спаривания не приносят результата, что характерно для аллопатрического видообразования, при котором географическая изоляция со временем приводит к репродуктивной. Они могут задуматься: когда именно произошло видообразование? Возможно, их последний общий предок жил более тридцати тысяч лет назад, но видообразование произошло не в ту же секунду (насколько нам известно, оно не произошло до сих пор!), и все же через несколько тысяч лет может выясниться, что оно случилось в какой-то момент до воссоединения двух популяций. Произошло ли видообразование до появления земледелия или после создания интернета? Обоснованного, доказуемого ответа на этот вопрос не существует. Последний общий предок видов, или копредок, как называет его Докинз (2004), возможно, жил на этой планете тридцать тысяч лет назад, а потомки этого предка в свое время стали основателями двух разных видов, но сегодня нельзя с точностью сказать, в тот ли момент началось видообразование.
Это событие – рождение, которое могло в итоге сыграть ключевую роль в человеческой (и постчеловеческой) истории, – случилось в конкретное время в конкретном месте, но не приобрело свой особый статус, пока в этой роли его не утвердили тысячелетия последствий, которые никогда заранее не предопределены. Чтобы это рождение не стало отправной точкой видообразования, единственной группе островитян на лодке (или на самолете) достаточно совершить путешествие, которое приведет к “преждевременному” воссоединению ветвей родословного древа. Можно вообразить, что видообразование произошло в конкретный, но непостижимый момент в период между изначальной изоляцией генеалогий и итоговой демонстрацией их статуса в качестве двух отдельных видов, но как определить этот переломный момент? Вероятно, это самый ранний момент, в который – благодаря накоплению хромосомных различий между двумя генеалогиями – попытки спаривания представителей разных генеалогий перестали бы приносить потомство. Но подобные гипотетические предположения не имеют ценности.
Прокладка трансконтинентальной железной дороги разделила стада американских бизонов на репродуктивно изолированные популяции, но Буффало Билл с товарищами в зародыше задушили потенциальный момент видообразования, очень быстро истребив одну из популяций. Природные катаклизмы часто разделяют популяции конспецифичных организмов на две (и более) изолированные группы, которые несколько поколений остаются репродуктивно изолированными друг от друга, и почти всегда эти группы либо воссоединяются в итоге, либо одна из них вымирает. Таким образом, несмотря на то, что подобные первые шаги к видообразованию должны случаться достаточно часто, они почти никогда не ведут к реальному видообразованию, а когда это все-таки происходит, результат закрепляется на протяжении жизни многих сотен поколений. Никакие сведения об обстоятельствах изначального разделения не могут сказать, положило ли это разделение начало видообразованию, даже если вы будете в точности знать, в каком физическом состоянии в тот момент пребывала каждая молекула в мире. Само понятие вида – лишь вроде как понятие. Домашние собаки, койоты и волки – представители разных видов, и все же достаточно часто встречаются помеси собак с койотами или с волками, поэтому, возможно, “официально” нам стоит считать их лишь вариациями, а даже не подвидами семейства собачьих. Сделать общие выводы о возможности гибридизации – появления потомства у представителей разных видов – довольно сложно, но в этом нет ничего удивительного, если вспомнить, что любой представитель любого вида несколько отличается от любого другого представителя того же вида. Это не слишком тревожит биологов: они привыкли не волноваться из-за определений и сущностей, поскольку прекрасно понимают процессы, приводящие к появлению всех промежуточных типов.
45. Вдоводелы, Митохондриальная Ева и ретроспективные коронации
Женщина в Нью-Йорке может неожиданно стать вдовой из-за пули, которая пробила голову какого-то мужчины в Додж-Сити, на расстоянии более тысячи миль от нее. (Во времена Дикого Запада один из револьверов прозвали “Вдоводелом”. Порой даже самый внимательный осмотр места преступления не позволит установить, оправдал ли конкретный револьвер в конкретном случае свое прозвище.) В этом примере пространство и время преодолеваются благодаря условной природе взаимоотношений в браке, где событие прошлого, то есть свадьба, создает постоянную связь – формальную, а не каузальную, – которая не разрывается, несмотря на последующие скитания или несчастья (к примеру, случайную потерю обручального кольца или уничтожение свидетельства о браке).
Система генетического воспроизводства естественна, а не условна, но работает как часы, что систематически позволяет нам формально размышлять о каузальных цепочках, которые растягиваются на миллионы лет и выявить и отследить которые в ином случае было бы практически невозможно. Это дает нам возможность интересоваться более дистанцированными и невидимыми на местном уровне отношениями, чем формальные брачные отношения, а также активно о них рассуждать. Видообразование, как и брак, подкрепляется строгой, формально определяемой системой взглядов, но, в отличие от брака, не имеет наблюдаемых условных признаков – свадеб, колец, свидетельств. Как мы только что видели, феномен видообразования также удивительно “дистанционен” в пространстве и времени. Постепенно границы видов размываются, поэтому мы лишь ретроспективно (и произвольно) можем назначить отдельный организм из всей совокупности на роль первого млекопитающего (так что не стоит и беспокоиться). Чтобы лучше изучить это свойство видообразования, стоит сначала обратить внимание на другой пример ретроспективной коронации – присвоение титула Митохондриальной Евы, которое нельзя считать произвольным.
Границы между отдельными организмами четче, а следовательно, своеобразие отдельных организмов очевиднее своеобразия видов, но и здесь наблюдается множество промежуточных вариаций. Возьмем самый поразительный пример: в вашем теле примерно десять триллионов клеток, и девять из десяти этих клеток – не человеческие! Да, симбионты тысяч видов превосходят по численности ваши собственные клетки – клетки, которые произошли от зиготы, сформированной в результате союза ваших родителей. Среди этих симбионтов не только бактерии, но и эукариоты, как одноклеточные микробы, так и многоклеточные организмы: грибки, клещи у вас на ресницах и в других местах организма, микроскопические и более крупные черви – чего там только нет. Вы представляете собой ходячую экосистему. Хотя некоторым гостям мы не рады (грибкам, вызывающим эпидермофитию стоп, а также бактериям, лишающим дыхание свежести и стремящимся к любой инфекции), другие настолько важны, что вы умрете, если сумеете выселить всех своих квартирантов. Поскольку эти клетки-симбионты, как правило, гораздо меньше человеческих, на вес вы в основном человек, однако их совокупную массу не назвать ничтожной – наберется пара килограммов, а может, даже все пять. Существуют также вирусы, которых еще больше.
И все же, несмотря на ваши пористые границы, вы – как и остальные отдельные организмы – легко отличимы от других. Порой мы можем назвать конкретный организм, который исполнил конкретную роль в эволюционной истории. Один из самых знаменитых подобных организмов – Митохондриальная Ева. Это женщина, которая по женской линии является ближайшим прямым предком каждого человека, живущего сегодня. В клетках каждого из нас содержатся митохондрии, которые передаются только по материнской линии, поэтому все митохондрии во всех клетках всех живущих сегодня людей – прямые потомки митохондрий в клетках конкретной женщины. Ребекка Канн, Марк Стоункинг и Аллан Вильсон (1987) назвали ее Митохондриальной Евой.
Митохондриями называются крошечные внутриклеточные органеллы, которые играют важнейшую роль в обмене веществ, извлекая энергию из пищи и используя ее во всех начинаниях тела. Митохондрии обладают собственной ДНК, что и свидетельствует об их симбиотическом происхождении несколько миллиардов лет назад. Анализируя паттерны митохондриальной ДНК различных живущих сегодня людей, ученые сумели определить, когда примерно жила Митохондриальная Ева и даже где она жила. Сначала считалось, что Митохондриальная Ева жила в Африке около трехсот тысяч лет назад, однако недавно эти данные были скорректированы: она жила (почти наверняка в Африке) всего двести тысяч лет назад. Определить, где и когда жила Митохондриальная Ева, гораздо сложнее, чем установить сам факт ее существования, в котором не сомневается ни один биолог. Рассмотрим, что нам известно о Митохондриальной Еве, не заостряя внимания на спорных моментах. Мы знаем, что у нее было по меньшей мере две дочери, дочери которых тоже выжили. (Если бы у нее была всего одна дочь, корона Митохондриальной Евы досталась бы именно этой дочери.) Чтобы не путать ее титул с собственным именем, давайте назовем ее Ами. Ами носит титул Митохондриальной Евы, потому что она стала матерью-прародительницей всех современных людей. Важно не забывать, что во всех остальных отношениях в Митохондриальной Еве, вероятно, не было ничего особенного или уникального: она совершенно точно не была ни первой женщиной, ни основательницей вида Homo sapiens. До нее жило множество женщин, которые, без сомнения, принадлежали к нашему виду, однако ни одна из них, как оказалось, не стала самым недавним источником митохондрий всех живущих сегодня людей. Кроме того, хотя у Митохондриальной Евы были дочери и внучки, вероятно, она не была заметно сильнее, быстрее, красивее или плодовитее других женщин ее времени.
Чтобы подчеркнуть, насколько непримечательной, скорее всего, была Митохондриальная Ева – то есть Ами, – допустим, что завтра, много тысяч поколений спустя, по земле распространится новое опасное заболевание, которое за несколько лет истребит 99 процентов человечества. Выжившие, которым повезло иметь какую-то врожденную сопротивляемость к смертельному вирусу, вероятно, будут состоять в достаточно близком родстве. Их ближайшим общим прямым предком по женской линии – назовем ее Бетти – будет какая-то женщина, жившая на сотни тысяч поколений позже Ами, и корона Митохондриальной Евы задним числом перейдет к ней. Возможно, именно она была источником мутации, которая несколько веков спустя помогла спасти вид от вымирания, но ей самой это, вероятно, не принесло никакой пользы, поскольку агрессивной формы вируса, которой противостоит мутация, тогда еще не существовало. Суть в том, что короновать Митохондриальную Еву можно только задним числом. Ее ключевая роль в истории определяется не только случайностями в период жизни Ами, но и последующими случайностями. Это потрясающее совпадение! Если бы дядя Ами не спас ее от утопления, когда ей было три года, никого из нас (именно с нашей митохондриальной ДНК, которую мы унаследовали от Ами) вообще бы не было! Если бы все внучки Ами умерли от голода в младенчестве, как случалось в то время со многими детьми, мы бы тоже не появились на свет.
Согласно той же логике существует – должен существовать – и Адам, ближайший прямой предок каждого живущего сегодня мальчика и мужчины по мужской линии. Его можно назвать Y-хромосомным Адамом, поскольку все наши Y-хромосомы передаются по отцовской линии, подобно тому как митохондрии передаются по материнской линии[57]. Был ли Y-хромосомный Адам мужем или любовником Митохондриальной Евы? Исключено. Отцовство требует гораздо меньше времени и энергии, чем материнство, а следовательно, логически возможно, что Y-хромосомный Адам жил весьма недавно и был очень, очень активен в спальне – утирая нос Эрролу Флинну. Если самому старому живущему сегодня мужчине, скажем, 110 лет, логически возможно, что Y-хромосомным Адамом был его отец, Дон Жуан начала двадцатого века, который также является отцом, дедом, прадедом и т. д. всех живущих сегодня более молодых мужчин. В конце концов, мы, мужчины, производим миллиарды сперматозоидов, по сотне миллионов при каждой эякуляции, поэтому Y-хромосомный Адам всего за неделю мог бы произвести достаточное количество спермы, чтобы стать отцом всему человечеству (в принципе)! Однако если учесть все генетические различия в мужских Y-хромосомах по всему миру и рассчитать, сколько времени потребуется для накопления подобных мутаций, мы можем сказать, что Y-хромосомный Адам жил чуть меньше ста тысяч лет назад. И снова, если бы чума унесла, скажем, половину мужского населения, вероятнее всего, корона Y-хромосомного Адама перешла бы к прародителю, который жил гораздо менее давно[58].
Любопытный факт о любом отдельном организме – будь то вы, я, ваша собака или ваша герань – заключается в том, что он потенциально может основать новый вид, стать первым в длинном ряду кактамихов, но только сотни или тысячи поколений спустя кактамихи достаточно выделятся из общей массы, чтобы их признали отдельным видом, так что ко времени коронации вы, я, ваша собака или герань давно обратятся в прах. Ваши родители, таким образом, могут стать ближайшими общими предками всех представителей двух видов гоминид, но не радуйтесь раньше времени. Чихуахуа и немецкий дог принадлежат к одному виду Canis familiaris, но если цивилизация падет, а их потомки одичают, они с большей вероятностью выделятся в два отдельных вида, чем, скажем, бигли и бассет-хаунды, поскольку без человеческого вмешательства оплодотворение чихуахуа немецким догом – или немецкого дога чихуахуа – маловероятно. Вполне вероятно, однако, что обе генеалогии вымрут, как происходило со множеством генеалогий на протяжении тысячелетий, прежде чем это произойдет.
По оценкам, более 99 процентов всех организмов, которые когда-либо жили на земле, умерли, не оставив потомства. И все же вы живете, а это значит, что ни один из миллиардов ваших предков, от одноклеточных организмов до червей, рыб, рептилий, млекопитающих и приматов, не умер бездетным! Как же вам повезло! Само собой, каждая травинка, каждый комар, каждый слон и каждая маргаритка могут похвастаться столь же длинной и славной генеалогией.
46. Циклы
Всем знакомы крупномасштабные циклы природы: день-ночь-день; лето-осень-зима-весна-лето-осень-зима-весна; цикл испарения воды и выпадения осадков, благодаря которому снова наполняются озера, становятся полноводными реки и восстанавливаются запасы воды, питающие все живое на нашей планете. Но не все понимают, что эти циклы – в каждом пространственном и временном масштабе, от атомного до астрономического – выступают в качестве скрытых двигателей, приводящих в действие все удивительные природные явления. В 1861 г. Николаус Отто сконструировал и продал первый работающий бензиновый двигатель внутреннего сгорания, а в 1897 г. свой двигатель представил Рудольф Дизель, и эти блестящие изобретения изменили мир. В основе работы каждого из двигателей лежит цикл – четырехтактный цикл Отто и двухтактный цикл Дизеля, – который производит некоторое действие и затем возвращает систему в исходное положение, чтобы она была готова работать дальше. Механика этих циклов весьма оригинальна – она была открыта и оптимизирована в ходе цикла НИОКР, растянувшегося на несколько сотен лет. Еще более элегантным, микроминиатюзированным двигателем стал цикл Кребса, открытый в 1937 г. Хансом Кребсом, но изобретенный за миллионы лет эволюции на заре жизни. Это химическая реакция, имеющая восемь стадий и превращающая топливо – пищу – в энергию в процессе метаболизма, который имеет критическую значимость для всех живых организмов, от бактерий до секвой.
Биохимические циклы вроде цикла Кребса отвечают за все движение, рост, саморегенерацию и воспроизводство в живом мире. Они представляют собой колесики внутри колесиков внутри колес, механизм с триллионами подвижных частей, каждый из элементов которого необходимо перематывать, восстанавливать в исходном положении, чтобы он готов был снова выполнять свою функцию. Все эти циклы оптимизированы великим дарвиновским циклом воспроизводства, в котором поколение за поколением на протяжении миллионов лет выбираются удачные усовершенствования.
В совершенно другом масштабе наши предки обнаружили эффективность циклов, сделав один из важнейших успехов ранней истории человечества: распознав роль повторений в процессе производства. Если взять палку и провести по ней камнем, не произойдет практически ничего – разве что на дереве появится пара царапин. Если вернуть камень на исходную позицию и повторить движение, снова почти ничего не изменится, как бы вы ни старались. Даже после сотни повторений смотреть будет не на что. Но если точно так же провести камнем по палке несколько тысяч раз, палка превратится в прямое древко стрелы. Накапливая незаметные изменения, цикличный процесс приводит к созданию нового. Необходимая для осуществления подобных проектов комбинация дальновидности и самоконтроля тоже была человечеству в новинку и свидетельствовала о большом шаге вперед от преимущественно инстинктивных строительных и созидательных процессов, наблюдаемых у других животных. А эта новизна, в свою очередь, была продуктом дарвиновского цикла, подкрепленного более быстрым циклом культурной эволюции, в ходе которого техника передавалась потомству не на генетическом уровне, а распространялась среди не связанных родством людей, которые научились имитации.
Первый предок, который отполировал камень, сделав из него ручной топор приятной глазу симметричной формы, должно быть, в процессе этого выглядел глупо. Он сидел, часами точа свой камень, но это ни к чему не приводило. Однако бесконечные бездумные повторения приводили к постепенным совершенствованиям, не заметным невооруженным глазом, ведь глаз был создан эволюцией, чтобы замечать изменения, происходящие гораздо быстрее[59]. Эта кажущаяся тщетность порой сбивала с толку искушенных биологов. В прекрасной книге “Биологический фактор” специалист по молекулярной и клеточной биологии Деннис Брэй (2009) описывает циклы нервной системы:
На типичном сигнальном пути белки постоянно модифицируются и восстанавливаются. Киназы и фосфаты непрестанно работают, подобно муравьям, добавляя к белкам фосфатные группы и удаляя их снова. Казалось бы, в этом нет никакого толка, особенно если учесть, что каждый цикл добавления и удаления стоит клетке одной молекулы АТФ – одной единицы драгоценной энергии. Цикличные реакции подобного рода изначально даже назывались “футильными”[60]. Однако это прилагательное некорректно. Добавление фосфатных групп к белкам – самая типичная реакция в клетках, и она лежит в основе многих осуществляемых ими вычислений. Получается, что эта циклическая реакция вовсе не бесполезна, поскольку она снабжает клетку важнейшим ресурсом: гибким и быстро настраиваемым механизмом. [p. 75]
Слово “вычисления” выбрано очень удачно. Еще не прошло и ста лет с тех пор, как программисты начали исследовать пространство всех возможных вычислений, но пока их урожай изобретений и открытий состоит из миллионов циклов внутри циклов внутри циклов. Как выясняется, вся “магия” познания зависит, как и сама жизнь, от циклов внутри циклов повторяющихся, “реципрокных”, неосознанных информационно-трансформационных процессов в диапазоне от наноуровневых биохимических циклов в каждом нейроне и циклов перебора предиктивного кодирования систем восприятия информации (блестящее исследование см. в работе Clark 2013) до цикла сна всего мозга, крупномасштабных волн церебральной активности и восстановления, которые фиксируются на ЭЭГ. Секрет совершенствования в любой сфере жизни один: практика, практика, практика.
Важно помнить, что дарвиновская эволюция представляет собой лишь один тип цикла накопления и совершенствования. Есть и множество других. Проблема происхождения жизни может казаться неразрешимой (“неприводимо сложной” – Behe 1996), если утверждать, как делают сторонники теории разумного замысла, что, поскольку эволюция путем естественного отбора полагается на воспроизводство, дарвиновского ответа на вопрос, как появился первый организм, способный к воспроизводству, просто не может быть. Безусловно, он был невероятно сложен и прекрасно спроектирован – должно быть, произошло чудо. Если представить добиологический, дорепродуктивный мир безликим хаосом химических веществ (наподобие разрозненных частей самолета, собираемых ураганом, в который нас заставляют поверить креационисты), проблема действительно внушает страх, но если вспомнить, что ключевой процесс эволюции – циклическое повторение (и прекрасно отточенное, оптимизированное генетическое копирование – лишь частный его случай), у нас появится способ превратить эту тайну в загадку: как все эти сезонные, водные, геологические и химические циклы, повторяющиеся миллионами лет, постепенно накопили предпосылки для появления биологических циклов? Вероятно, первая тысяча “проб” была бесполезна – фактически все эти пробы стали осечками. Но, как говорит нам невероятно чувственная песня Джорджа Гершвина и Бадди ДеСильвы, всегда лучше проверить, что случится, если “сделать это снова” (и снова, и снова)[61].
Таким образом, сталкиваясь с очевидным волшебством мира живой природы и сознания, лучше всего поискать в нем циклы, которые выполняют всю тяжелую работу.
47. Что именно глаз лягушки сообщает ее мозгу?
Одной из первых классических работ по когнитивной науке считается знаменитая статья “Что глаз лягушки сообщает ее мозгу”, написанная Дж. Леттвином и его коллегами (1959). В ней было продемонстрировано, что зрительная система лягушки чувствительна к маленьким движущимся темным точкам на сетчатке – крошечным теням, которые почти в любых природных условиях отбрасывают пролетающие неподалеку мухи. Этот механизм обнаружения мух мгновенно заставляет лягушку выбросить язык, что и объясняет, как лягушки добывают пропитание в этом жестоком мире и обеспечивают продолжение своего рода. Но что именно глаз лягушки сообщает ее мозгу? Что рядом муха, или что рядом муха или “обманка” (фальшивая муха любого рода), или объект типа К (какой бы тип объектов ни заставлял это зрительное приспособление среагировать наверняка – вспомните четвертачник)? Этот вопрос подняли теоретики-дарвинисты (например, Рут Милликен, Дэвид Израэль и я), но главный критик эволюционной теории Джерри Фодор вмешался в дискуссию, чтобы показать, что, на его взгляд, не так с любым дарвинистским представлением о подобных смыслах: эти представления слишком неопределенны. Они не различают, как должны бы, такие поступающие от глаза лягушки сигналы, как “муха здесь сейчас” и “муха или маленькая черная частица здесь сейчас” и так далее. Но это не так. Чтобы различать сигналы, можно использовать среду выбора лягушки (насколько возможно установить, какой она была). Для этого используются те же самые соображения, которые использовались при решении вопросов о значении того или иного состояния четвертачника. В тех случаях, когда в среде выбора нет ничего, что однозначно говорило бы о конкретном типе сигналов, нет и предмета для обсуждения по вопросу о том, что на самом деле значит поступающий от глаза сигнал. Наглядно продемонстрировать это можно, отправив лягушку в Панаму – или, точнее, отправив лягушку в новую среду выбора.
Допустим, ученые собрали небольшую популяцию питающихся мухами лягушек вымирающего вида и поместили под опеку в новую среду – в специальный лягушачий зоопарк, где не было мух, но были смотрители, которые периодически бросали подопечным лягушкам маленькие частички пищи. К радости смотрителей, система оказалась рабочей: лягушки прекрасно себя чувствовали, на лету хватая эти частички, и через некоторое время у них появилось потомство. Молодые лягушки вообще никогда не видели мух – только частички пищи. Что же сообщали их мозгу их глаза? Если вы утверждаете, что значение сигналов не изменилось, вы в тупике. История с лягушками – искусственно чистый пример типичной для естественного отбора экзаптации, то есть приспособления существующих структур для выполнения новых функций. Как напомнил нам Дарвин, приспособление механизмов для новых целей – один из секретов успеха Матери-Природы. Если кто-то еще сомневается в этом, можно допустить, что не все лягушки в зоопарке чувствуют себя одинаково хорошо. Некоторые из них не слишком удачливы в обнаружении частичек пищи с помощью своих зрительных систем, а потому едят меньше остальных и оставляют меньше потомства. В короткие сроки отбор начнет отдавать предпочтение лягушкам, которые лучше справляются с обнаружением пищи, хотя будет ошибкой спрашивать, когда именно это случится достаточное количество раз, чтобы это “имело значение”. Не ждите, когда прозвенит колокольчик, возвещающий, что глаз лягушки только что начал сообщать ее мозгу иное. Первого млекопитающего не было. Нет и первого случая обнаружения частички пищи.
Если только не было “бессмысленной” или “промежуточной” вариации в условиях отправки сигнала глазами разных лягушек, не может быть никаких оснований (слепая вариация) для выбора новой цели действия. Неопределенность, которую Фодор (и не только) считает недостатком дарвинистских представлений об эволюции смысла, на самом деле выступает предпосылкой такой эволюции. Идея о том, что глаз лягушки на самом деле должен иметь в виду нечто определенное – возможно, какое-нибудь непознаваемое утверждение на лягушачьем языке, которое точно описывает, что именно глаз лягушки сообщает ее мозгу, – фактически представляет собой проявление эссенциализма в отношении смысла (или функции). Смысл, как и функция, от которой он непосредственным образом зависит, не определяется в момент его рождения. Он возникает не в результате сальтации – огромных скачков в проектном пространстве – и не в результате намеренного творения, а в результате изменения обстоятельств (как правило, постепенного).
48. Скачки в пространстве Вавилонской библиотеки
В 1988 г. великому историку астрономии Отто Нейгебауэру прислали фотографию фрагмента греческого папируса, на котором в столбик было выписано несколько чисел. Отправитель, специалист по классической истории, понятия не имел, что значит этот фрагмент, и решил посоветоваться с Нейгебауэром. Вычислив разницу между числами в разных строках, а также верхний и нижний пределы ряда, 89-летний ученый пришел к выводу, что на папирусе записан перевод фрагмента “Колонки G” с вавилонской клинописной таблички, содержащей лунные эфемериды вавилонской системы “Б”! (Эфемерида – это таблица для вычисления местоположения небесного тела в любой момент времени в конкретный период.) Как Нейгебауэру удалось сделать этот вывод, достойный Шерлока Холмса? Элементарно: он узнал, что написанное на греческом (последовательность шестидесятеричных – не десятичных – чисел) было фрагментом – колонкой G! – в высшей степени точных расчетов местоположения Луны, осуществленных вавилонянами. Существует множество способов вычисления эфемерид, и Нейгебауэр знал, что любой, кто займется расчетами сам, используя собственную систему, не получит в итоге точно такие же числа, хотя результат и может оказаться близким. Вавилонская система “Б” была великолепна, поэтому в переводе ее сохранили полностью – вместе со всеми характерными чертами (Neugebauer 1989).
Нейгебауэр был великим ученым, но и вы, возможно, сумеете по его примеру применить дедукцию. Допустим, вам прислали фотокопию приведенного ниже текста, сопроводив ее теми же вопросами: что это значит? откуда этот фрагмент?
Прежде чем читать дальше, попробуйте разгадать эту загадку. Вероятно, вы справитесь с ней, даже если не умеете читать старый немецкий шрифт фрактуру – и даже если вовсе не знаете немецкого! Присмотритесь к этому фрагменту. Прочитайте его с выражением, добавьте звучности. Не обращайте внимания на произношение. Узнали? Впечатляет! Может, Нейгебауэр и распознал вавилонскую колонку G, но вы быстро – так ведь? – установили, что этот фрагмент, должно быть, представляет собой отрывок из немецкого перевода елизаветинской трагедии (если точнее, акт III, сцена 2, строки 79–80). Стоит вам подумать об этом, как вы поймете, что ничем иным это быть не может! Вероятность того, что эта конкретная последовательность немецких букв родилась при любых других обстоятельствах, Исчезающе мала.[62]
Проведенные при создании этой последовательности НИОКР слишком специфичны, чтобы их можно было продублировать случайно. Почему? В чем особенность подобной цепочки символов? Николас Хамфри (1987) добавил этому вопросу остроты, переформулировав его следующим образом: если бы вас заставили “предать забвению” один из следующих шедевров, какой бы вы выбрали – “Начала” Ньютона, “Кентерберийские рассказы” Чосера, “Дона Жуана” Моцарта или Эйфелеву башню? Хамфри отвечает:
Если бы меня заставили сделать выбор, не приходится и сомневаться, что я остановился бы на “Началах”. Почему? Потому что из всех перечисленных работ только работа Ньютона незаменима. Все просто: если бы Ньютон не написал ее, ее написал бы кто-то другой – возможно, всего через несколько лет… “Начала” стали великолепным памятником человеческому интеллекту, а Эйфелева башня – относительно скромным торжеством романтической инженерии, но факт остается фактом: Эйфель работал на свой лад, а Ньютон – на лад Бога.
49. Кто автор “Спамлета”?
Допустим, доктор Франкенштейн создал монстра Шпексира, который после этого сел и написал пьесу “Спамлет”.
Кто автор “Спамлета”?
Для начала давайте обратим внимание на то, что, на мой взгляд, не имеет значения в этом насосе интуиции. Я не сказал, является Шпексир роботом, сконструированным из металла и кремниевых чипов, или, подобно оригинальному чудовищу Франкенштейна, собран из человеческих тканей – или при помощи методов наноинженерии создан из клеток, или белков, или аминокислот, или атомов углерода. Неважно, какие материалы были использованы при конструировании монстра, – главное, что его создал доктор Франкенштейн. Вполне возможно, единственный способ сделать робота, который был бы достаточно маленьким, быстрым и энергоэффективным, чтобы сидеть на стуле и печатать пьесу, – это сконструировать его из искусственных клеток, наполненных искусно синтезированными двигательными белками и другими нанороботами на основе углерода. Этот вопрос любопытен с технической и научной точки зрения, однако здесь он не имеет значения. По той же самой причине, если робот Шпексир сконструирован из металла и кремния, не исключено, что по размерам он превосходит галактику, поскольку иначе его программу просто не сделать достаточно сложной. К тому же нам, возможно, придется пренебречь ограничением скорости света, чтобы представить, как описанное происходит в рамках человеческой жизни. Такие технические ограничения, как правило, признаются непринципиальными для подобных насосов интуиции, и мы не будем спорить, поскольку от них действительно ничего не зависит. (Покрутите регуляторы и проверьте, так ли это.) Если доктор Франкенштейн решит создать своего робота на основе искусственного интеллекта (ИИ) из белков и подобных элементов, это его дело. Если его робот окажется кросс-фертильным с обычными людьми, а следовательно, способным к созданию нового вида посредством рождения ребенка, это будет просто потрясающе, но нас интересует только мнимое дитя разума Шпексира – “Спамлет”. Вернемся к нашему вопросу: кто автор “Спамлета”?
Для ответа на этот вопрос нужно заглянуть внутрь Шпексира и понять, что там происходит. В одном из крайних случаев мы найдем внутри файл (если Шпексир – робот с компьютерной памятью) – фактически сохраненную в памяти версию “Спамлета”, готовую к воспроизведению. В этом случае автором “Спамлета”, безусловно, следует считать доктора Франкенштейна, который создает свое промежуточное творение, Шпексира, лишь в качестве устройства хранения и передачи информации, то есть исключительно замысловатого текстового процессора. Все НИОКР проводятся ранее и тем или иным способом копируются в память Шпексира.
Чтобы четче визуализировать это, можно представить “Спамлета” в галактике ближайших соседей в Вавилонской библиотеке. Как “Спамлет” туда попал? По какой траектории шли приведшие к его созданию НИОКР? Если мы увидим, что весь путь был уже пройден к моменту создания и наполнения информацией памяти Шпексира, будет очевидно, что Шпексир не сыграл в этом процессе никакой роли. Если мы, работая с конца, выясним, что Шпексир только пропустил сохраненный текст через программу проверки орфографии, прежде чем использовать его в качестве образца для воспроизведения, вряд ли мы сможем назвать Шпексира автором этого текста. Это измеримая, но Исчезающе малая доля всех проведенных НИОКР. Галактика почти идентичных текстов “Спамлета” достаточно велика – в нее входит около сотни миллионов разных мутантов, имеющих лишь одну опечатку, – а если расширить горизонты и включить все экземпляры с одной опечаткой на страницу, мы войдем в пространство Чрезвычайно больших количеств вариаций на заданную тему. Работая дальше и переходя от опечаток к одумкам[63], то есть ошибочным или неверно выбранным словам, мы придем к вопросу серьезного авторства, а не просто редактуры. Относительная незначительность редактуры и ее неоспоримая важность в формировании итогового продукта прекрасно представляются в проектном пространстве, где учитывается каждый маленький подъем и где даже маленький подъем порой перемещает вас на совершенно новую траекторию. Здесь сложно удержаться и не процитировать Людвига Миса ван дер Роэ: “Бог – в деталях”.
Теперь давайте покрутим регуляторы нашего насоса интуиции и рассмотрим другой крайний случай, в котором доктор Франкенштейн оставляет большую часть работы Шпексиру. Безусловно, реалистичнее всего выглядит сценарий, в рамках которого доктор Франкенштейн наделяет Шпексира виртуальным прошлым и коллекцией псевдовоспоминаний о пережитом, чтобы монстр мог обращаться к ним, реагируя на навязчивое желание написать пьесу, заложенное в него Франкенштейном. Можно предположить, что среди этих псевдовоспоминаний есть множество воспоминаний о театральных вечерах и о чтении книг, а также о неразделенной любви, шокирующе опасных ситуациях, горьких предательствах и тому подобных вещах. Что происходит в таком случае? Возможно, отрывок из показанной в новостях человеческой истории станет катализатором, который спровоцирует Шпексира без устали перебирать полезные крупицы своих воспоминаний, разыскивая нужные темы, а затем преобразовывать найденное и переставлять фрагменты, формируя тем самым временные, перспективные структуры, борющиеся друг с другом за право быть законченными и в большинстве своем уничтожаемые в ходе критического отбора, но тоже время от времени дающие полезные элементы, позволяя процессу идти дальше. Весь этот многоуровневый поиск в некотором роде управляется многоуровневыми эндогенными оценками, включая оценку оценки функций оценки в ответ на оценку (оценки) продуктов текущих поисков (циклы внутри циклов внутри циклов).
Если же великолепный доктор Франкенштейн предвидел всю эту активность в мельчайших деталях на самом беспокойном и хаотическом уровне и собственноручно создал виртуальное прошлое Шпексира, а также спроектировал его поисковый аппарат, чтобы произвести только один продукт, “Спамлета”, то доктор Франкенштейн снова будет автором “Спамлета”, но также, одним словом, Богом. Такое знание о будущем Чрезвычайно велико, а потому чудесно. Чтобы сделать нашу фантазию чуточку реальнее, можно ослабить регуляторы и предположить, что доктор Франкенштейн не мог предвидеть все это в деталях и просто в основном делегировал Шпексиру тяжелую задачу пройти в проектном пространстве по нужной траектории к тому или иному литературному произведению, а последующие НИОКР, осуществляемые внутри Шпексира, должны определить, к какому именно. Итак, повернув один регулятор, мы оказались в непосредственном соседстве с реальностью, поскольку у нас уже есть примеры впечатляющей работы искусственных авторов, которые Чрезвычайно превосходят ожидания собственных создателей. Никто еще не создал достойного внимания искусственного драматурга, но и искусственный шахматист (Deep Blue компании IBM), и искусственный композитор (EMI Дэвида Коупа) добились результатов, которые в некотором отношении сравнимы с лучшими образчиками творений человеческого гения.
Кто обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова? Не Мюррей Кэмпбелл и не один из членов его команды в IBM. Каспарова обыграл компьютер Deep Blue. Именно Deep Blue выстраивает шахматную партию лучше, чем любой из них. Никто из них не может выиграть в поединке с Каспаровым. Deep Blue может. Да, но. Да, но. Возможно, вам хочется подчеркнуть, что, пускай Deep Blue и побеждает Каспарова в шахматах, его поиск посредством перебора совершенно не похож на рекогносцировочные работы, проводимые Каспаровым при обдумывании хода. Однако это не так – или, по крайней мере, не так в единственном смысле, который имеет значение в контексте этой дискуссии о дарвинистских представлениях о креативности. Мозг Каспарова состоит из органических материалов, а его архитектура по всем ключевым аспектам не похожа на архитектуру Deep Blue, и все же, насколько нам известно, этот мозг представляет собой мощный параллельный поисковый движок, со временем накопивший выдающийся массив эвристических техник отсечения лишнего, которые не позволяют ему терять время на бесперспективные ответвления. Несомненно, профиль инвестиций в НИОКР в этих случаях различается: Каспаров пользуется методами извлечения удачных расстановок из прошлых игр, благодаря чему распознает и со знанием дела игнорирует обширные сферы игрового пространства, в то время как Deep Blue все равно приходится их систематически прочесывать. “Проницательность” Каспарова существенным образом меняет порядок предпринимаемого им поиска, но не приводит к появлению “совершенно иного” способа творения. Всякий раз, когда обстоятельный поиск Deep Blue выявляет определенный тип направления мысли и алгоритмически устанавливает, что им, вероятно, можно пренебречь (это сложная, но выполнимая задача), компьютер получает возможность впоследствии при случае снова использовать эти наработки, точь-в-точь как делает Каспаров. Существенную часть этой аналитической работы провели создатели Deep Blue, которые вложили ее результаты в память Deep Blue, но Каспарову тоже помогали плоды сотен тысяч человеко-лет исследования шахмат, переданные ему другими шахматистами, тренерами и авторами книг и впоследствии усвоенные его мозгом.
В связи с этим любопытно рассмотреть предложение, которое однажды внес Бобби Фишер. Он предложил восстановить изначальную рациональную чистоту шахмат, перед стартом каждой партии случайным образом расставляя старшие белые фигуры в заднем ряду, а старшие черные фигуры расставляя в таком же случайном порядке (зеркально) в заднем ряду на противоположном конце доски (но всегда проверяя, чтобы с каждой стороны было по одному слону на белой и на черной клетке, а король стоял между ладьями). При таком раскладе целая гора заученных дебютов мгновенно стала бы практически бесполезной как для людей, так и для машин, поскольку шанс сыграть хоть один из них выпадал бы крайне редко. Пришлось бы снова обращаться к фундаментальным принципам и внимательно продумывать каждую партию в реальном времени, под тиканье часов. Возможно, от такого изменения правил выиграли бы люди, но не компьютеры, однако сложно сказать наверняка. Все зависит от того, кто из шахматистов в большей степени полагается на то, что фактически представляет собой механическую память, то есть с минимальным пониманием использует НИОКР своих предшественников.
Факт остается фактом: пространство поиска в шахматах настолько велико, что даже Deep Blue не успевает основательно изучить его в реальном времени, а потому, подобно Каспарову, отсекает лишние деревья перебора, идя на обдуманный риск, причем этот риск часто оказывается рассчитан заранее, как и у Каспарова. Как Каспаров, так и Deep Blue, по-видимому, совершают огромное количество операций перебора, используя совершенно разные архитектуры. В конце концов, что нейроны знают о шахматах? Любая выполняемая ими работа – это перебор того или иного рода.
Может показаться, что я выступаю за применение компьютерного подхода, подхода ИИ, поскольку описываю работу мозга Каспарова таким способом, однако эта работа должна осуществляться каким-то способом, а другого способа выполнить эту работу пока никто не описал. Нет смысла утверждать, что Каспаров использует “понимание” или “интуицию”, поскольку это лишь означает, что сам Каспаров не имеет возможности понять, как именно добивается хороших результатов. Таким образом, поскольку никто не знает, как мозг Каспарова делает это (и хуже всех это знает сам Каспаров), пока нет никаких подтверждений тому, что методы Каспарова “совершенно не похожи” на методы Deep Blue. Не стоит забывать об этом, когда возникает желание сказать, что методы Каспарова, “само собой”, существенно отличаются. Что вообще может толкнуть человека так рисковать? Необоснованный оптимизм? Страх?
Но это только шахматы, скажете вы, а не искусство. В сравнении с искусством шахматы тривиальны (особенно теперь, когда чемпионом мира по шахматам стал компьютер). Здесь в игру вступают “Эксперименты с музыкальным интеллектом”, или EMI (2000, 2001) композитора и программиста Дэвида Коупа. Коуп хотел создать всего лишь устройство для повышения эффективности – компаньон композитора, который помог бы ему справляться с творческими блоками, знакомыми каждому человеку искусства. Это устройство должно было стать высокотехнологичным дополнением к традиционным поисковым аппаратам (пианино, нотной бумаге, магнитофону и т. д.). Возможности EMI постепенно расширялись, и в конце концов программа стала полноценным композитором, осуществляя все больше операций перебора. Если загрузить в EMI музыку Баха, в ответ она генерирует музыкальные композиции в стиле Баха. Если загрузить в нее произведения Моцарта, Шуберта, Пуччини или Скотта Джоплина, система с готовностью анализирует их стили и сочиняет новую музыку в этих стилях лучше самого Коупа – и почти любого настоящего композитора. Если загрузить в EMI музыку двух композиторов, она быстро генерирует пьесы, в которых их стили причудливым образом комбинируются, а если загрузить произведения всех стилей одновременно (не очищая память), система пишет музыку на основании всего своего музыкального “опыта”. Полученные композиции можно снова и снова загружать в EMI вместе с любой другой музыкой в формате MIDI[64] – и в результате EMI выработает “личный” музыкальный стиль, корнями уходящий к работам мастеров, но при этом представляющий собой несомненно оригинальное слияние всего этого “опыта”. Сегодня EMI под силу сочинять не только двухчастные инвенции и песни, но и целые симфонии – насколько я знаю, она сочинила уже больше тысячи. Они достаточно хороши, чтобы обмануть специалистов (композиторов и профессоров музыки), и я лично готов засвидетельствовать, что ария EMI-Пуччини заставила меня прослезиться. Но Дэвид Коуп не вправе считать себя композитором симфоний, мотетов и романсов EMI, как и Мюррей Кэмпбелл не вправе утверждать, что обыграл Каспарова в шахматы.
Для дарвиниста этот новый элемент в каскаде подъемных кранов – просто последнее слово в долгой истории, и мы должны понимать, что граница между создателями и их артефактами должна быть столь же проницаемой, как и любые другие границы в каскаде. Когда Ричард Докинз (1982) замечает, что плотина наряду с зубами и мехом входит в фенотип бобра – его расширенный фенотип, – он закладывает основы для дальнейшего наблюдения о том, что границы человеческого авторства точно так же поддаются расширению. На самом деле мы знали это веками и выводили различные относительно стабильные правила, в соответствии с которыми отличали произведения Рубенса от произведений мастерской Рубенса и его учеников. В какой бы сфере люди ни прибегали к помощи, всегда можно задать вопрос, кто кому помогает, что есть создатель и что есть творение.
50. Шум в виртуальном отеле
Рассмотрим разницу между виртуальными и реальными мирами. При строительстве реального отеля вам придется потратить немало времени, сил и материалов, чтобы люди из соседних номеров не слышали друг друга. При строительстве виртуального отеля вы получаете эту звукоизоляцию бесплатно. В виртуальном отеле, если вы вдруг захотите, чтобы люди из соседних номеров слышали друг друга, вам придется специально добавить эту возможность. Вам придется добавить отсутствие звукоизоляции. Вам также придется добавить тени, запахи, вибрацию, пыль, грязные следы и признаки износа. В реальном, вещественном мире все эти нефункциональные характеристики вы получите бесплатно. Все, что приходится добавлять в виртуальные миры, чтобы сделать их реалистичнее, называется обнаружением столкновений. Если вы когда-нибудь пытались написать компьютерную видеоигру, вероятно, вы быстро поняли, что недостаточно заставить формы двигаться по экрану. Если не прописать в корректировочном цикле программы обнаружение столкновений (которое без конца вклинивается в деятельность программного объекта и спрашивает: “Я ни с чем не сталкиваюсь”?), формы будут просто проходить сквозь друг друга без какого-либо эффекта.
В книге Le Ton beau de Marot Даг Хофштадтер (1997) обращает внимание на роль того, что он называет спонтанными вторжениями в творческий процесс. В реальном мире почти все происходящее оставляет след, отбрасывает тени, имеет аромат, производит шум, и это обеспечивает огромное количество возможностей для спонтанных вторжений. Именно этого не хватает в виртуальном мире. Компьютерные моделисты считают это спокойствие одной из главных прелестей виртуальных миров: в них не происходит ничего, кроме так или иначе запланированного вами. Это позволяет при моделировании начинать с чистого листа и добавлять к своей модели по одной характеристике, чтобы проверить, какая минимальная конфигурация произведет желаемый эффект.
Из-за отсутствия этого шума компьютерные симуляции эволюции получаются в высшей степени ограниченными, поскольку эволюция путем естественного отбора питается шумом, преобразуя полезные фрагменты этого шума в сигналы, мусор в инструменты, а баги – в фичи. Одной из самых впечатляющих компьютерных симуляций эволюции остается ранняя модель “Эволюции виртуальных организмов” Карла Симса (1994), которую можно посмотреть в сети: http://www.karlsims.com/evolved-virtual-creatures.html.
Симс начал со случайных конфигураций виртуальных шарнирных блоков с виртуальными мускулами для управления шарнирами и позволил им эволюционировать в виртуальном мире, где действуют законы виртуальной физики. Программа автоматически отбирала конфигурации, которые лучше всего проявляли себя, для виртуального спаривания, а затем повторяла цикл с их потомством. Эволюция приводила к появлению все лучших пловцов, ходоков и прыгунов, в создании которых не принимал участия никакой разумный творец. Итоговые конфигурации были совсем не случайными, и это демонстрировало, как эффективно (виртуальная) эволюция вроде как выявляет удачные принципы конструирования и вроде как изобретает заново огромное количество разнообразных характеристик, обнаруживаемых в природе.
Этот великолепный пример показывает, как много может дать относительно простая модель, а также очерчивает узкие рамки эволюции виртуального мира. Симс спроектировал простую систему “развития”, которая получает целые геномы и создает новые организмы, однако этот процесс происходит за кулисами моделируемого виртуального мира. В результате случайное столкновение или соударение с фрагментом (виртуального) мусора не может укоротить или удлинить геном или изменить правила экспрессии генов. Всех этих механизмов просто нет в виртуальном мире с виртуальными структурами, а следовательно, он неизменяем. К примеру, в организме Симса не может развиться новая хромосома. Вся его генетическая система находится за пределами модели и не сталкивается с естественным отбором, а только в принудительном порядке передает генетическую информацию от поколения к поколению. (Другой пример этого явления см. в главе 51.)
В компьютерной модели креативности должен быть мусор, с которым смогут сталкиваться творческие процессы, и шумы, которые они не смогут игнорировать. Спонтанное вторжение незначительного шума из соседней комнаты может изменить ход этих процессов непрогнозируемым и даже деструктивным образом, но в любом случае оно открывает новые возможности. Ключ к творчеству – использование случайностей, будь то при создании нового генома, новой модели поведения или новой мелодии.
Позвольте мне пояснить, чего я не говорю. Проблема с эволюцией организмов Симса не в том, что они состоят не из углерода или что в них нет белков и гемоглобина. Проблема в том, что они виртуальны. И, будучи виртуальными, они живут в мире, который устроен на много порядков проще мира биологической эволюции. То же верно и в отношении EMI Коупа. При всей своей удивительности EMI на несколько порядков проще мира человеческого сочинения музыки. Прелесть этих примеров заключается в том, что они показывают, что именно может дать нечто столь чистое, столь свободное от шума, столь абстрактное.
Можно представить, как улучшить EMI Коупа, модель Симса или любой другой проект в сфере искусственной жизни или искусственного творчества, добавляя в виртуальный мир все больше и больше мусора, все больше возможностей для столкновений. В результате виртуальным организмам придется взаимодействовать с большим количеством виртуальных структур, и заранее никак не угадать, когда произойдет счастливая случайность. Но подумайте, насколько нелогичным покажется такой совет:
Что бы вы ни моделировали, старайтесь, чтобы каждое явление, каждая подпрограмма, каждое событие этого мира оказывало на него ряд нефункциональных воздействий: производило посторонние шумы, оставляло след, мусорило, вызывало вибрации и так далее.
Зачем? Зачем весь этот шум? У него нет четкого назначения: он нужен только для того, чтобы служить потенциальным источником сигналов для всех остальных процессов, которые могут обратиться к алхимии творческих алгоритмов и превратить их в функции, искусство, смысл. Каждое усовершенствование конструкции во вселенной начинается со счастливого случая, незапланированного пересечения двух траекторий, которое, как выясняется впоследствии, оказывается не просто столкновением. Но, следуя этому совету, компьютерные моделисты растрачивают производительность, которая делает компьютеры столь полезными инструментами. Возникает гомеостаз. Неудивительно, что результаты компьютерного моделирования креативности все меньше впечатляют. Чтобы подобраться к уровню креативности настоящего композитора, модель должна стать максимально вещественной: в ней должно происходить все больше случайных столкновений, которые будоражат композитора-человека.
51. Херб, Элис и малыш Хэл
Покойный эволюционный биолог Джордж Уильямс утверждал, что нельзя отождествлять гены с молекулами ДНК. Делать так – значит, совершать ошибку. Эта ошибка сродни ошибке, которую можно допустить, если сказать, что “Гамлет” состоит из чернил. Само собой, любой экземпляр пьесы Шекспира должен из чего-то состоять (если не из чернил, то, возможно, из очертаний букв на экране компьютера или даже цепочек двоичного кода, записанных на лазерный диск), но сама пьеса представляет собой абстрактную информационную структуру, которая может перемещаться с одного носителя на другой. Будучи рецептами создания белков, гены тоже представляют собой абстрактные информационные структуры, если следовать этой логике – а эта логика всегда казалась мне верной. Но есть и несогласные – все те, кто сомневается в ценности такого представления о генах. Для них – и, в частности, для философа биологии Питера Годфри-Смита – я сконструировал небольшой насос интуиции:
Херб и Элис хотят завести ребенка, но вот каким образом:
1. Оба их генома секвенируются. Они по почте получают файл, в котором их геномы прописаны как две последовательности примерно по три миллиарда букв в каждой: A, C, G, T…
2. Затем они пишут небольшую компьютерную программу, которая применяет алгоритм деления к обоим геномам и (случайным образом) создает виртуальные сперматозоиды и яйцеклетки, которые затем (случайным образом) объединяются in silico, чтобы создать новую спецификацию генома (которая проходит все биоинформатические аналитические проверки как спецификация ДНК ребенка Херба и Элис). (Пока все происходит на уровне символов A, C, G, T как чисто машинный процесс редактирования цепочки.)
3. На основе этой спецификации кодон за кодоном конструируется фактическое ДНК-воплощение всего генома, где A = аденин, C = цитозин, G = гуанин и T = тимин. (Сегодня это возможно в лаборатории Крейга Вентера.)
4. Затем этот геном внедряется в ядро человеческой яйцеклетки (имеет ли значение, чья это яйцеклетка, раз ее собственную ДНК удаляют до внедрения ядра?) и становится “младенцем из пробирки” одним из обычных способов.
Можно ли считать этого младенца ребенком Херба и Элис? Мне кажется достаточно очевидным, что Хэл – действительно их биологический потомок, поскольку в него заложена вся генетическая информация, которую они передали бы ему, если бы он был зачат обычным образом. Этот насос интуиции подчеркивает важность того, что имеет значение в репродуктивной информации и при каузальной передаче информации (в этом случае в форме ASCII-кода для “A”, “C”, “G” и “T”, а не в форме молекул). Каузальная связь может, например, осуществляться через телекоммуникационные спутники, а не по более прямым биохимическим путям. [Из частного письма от 26 апреля 2010 г.]
Годфри-Смит согласился со мной и признал Хэла потомком Херба и Элис, однако усомнился в некоторых моих формулировках (полный вариант см. в работах Dennett 2010; Godfrey-Smith 2011). В том же духе конструктивной критики я подтвердил, что существует биологически важное различие между процессом, который использовали для продолжения рода Херб и Элис, и обычным способом размножения. Что если бы все следовали примеру Херба и Элис? Поскольку генетическая информация от Херба передается в яйцеклетку не традиционным методом – не в сперматозоиде, – подвижность сперматозоидов перестает быть критерием для отбора, а потому при прочих равных будет снижаться от поколения к поколению. Используй – или потеряешь. И все же я утверждаю – и думаю, что этот насос интуиции ясно показывает, – что молекулярная структура, которая по большей части не меняется из поколения в поколение, сохраняется именно потому, что содержит в себе всю необходимую информацию.
Эволюция беспрепятственно продолжалась бы и если бы существовали другие структуры для хранения информации. Для проверки этого утверждения можно использовать еще один насос интуиции. Допустим, на другой планете “нечетные” поколения использовали спирали ДНК, состоящие из A, C, G и T, а “четные” поколения – другие двойные спирали, скажем ХНК, состоящие из P, Q, R и S (некоторых других молекул). Можно предположить, что молекулы ХНК потомства нечетного поколения создавались по образцам родительских молекул ДНК при помощи механизма, подобного матричной РНК, но “осуществляющего перевод” с одного биохимического языка на другой. В следующем поколении эти сообщения переводились бы обратно другим матричным механизмом – и так далее. Чтобы обзавестись потомством, вам пришлось бы найти партнера, гены которого были бы написаны на том же языке, но гены вашего ребенка были бы написаны на другом языке. Эдиповы союзы были бы бесплодны – что, возможно, и к лучшему, – но случалось бы немало трагедий в духе “Ромео и Джульетты”, поскольку любовники из разных общин были бы неспособны к продолжению рода. (При этом они могли бы довольствоваться бесплодной сексуальной жизнью и усыновлять детей любого типа или даже использовать донорские яйцеклетки и сперматозоиды и растить уйму детишек, которые приходились бы друг другу сводными братьями и сестрами.) В таком мире, несмотря на все эти сложности, эволюция шла бы своим чередом, от поколения к поколению передавая генетическую информацию об удачных адаптациях (а также наследственных заболеваниях и т. п.) с использованием двух систем кодирования, которые могут сколь угодно сильно различаться на структурном уровне. Те же гены, разные молекулы. У каждого гена было бы две формы, которые отличались бы друг от друга, как слово “кот” отличается от слова cat, а слово “дом” – от слова house. (Обратите внимание на параллель с насосом интуиции о двух черных ящиках: в обоих случаях общим для двух синтаксически и структурно различных проводников выступает одна и та же информация, одна и та же семантика.)
52. Мемы
Я еще не упоминал о мемах, и некоторые читатели могли подумать, что я решил от них отказаться. Вовсе нет. Концепция мемов – один из моих любимых инструментов мышления. Говорить о мемах я могу долго – всей книги не хватит! Я уже не раз высказывался о мемах в других работах (среди прочего см. Dennett 1990, 1991a, 1995a). По разным причинам многим эта концепция категорически не нравится, поэтому они склонны цепляться за многочисленные замечания, высказываемые в ее адрес. Я решил еще раз попытаться отстоять концепцию мемов и ответить критикам – как серьезным критикам, так и оголтелым мемоненавистникам, – но для этого мне понадобится отдельная небольшая книга. Пока же я рекомендую всем тем, кто хочет узнать о мемах больше, обратиться к моему эссе “Новые репликаторы” (2002, также в Dennett 2006a).
Но здесь, в качестве прелюдии, я сделаю краткое введение в серьезную концепцию мемов (в отличие от свободного определения этого чрезвычайно популярного термина в интернет-среде). Как заметил Докинз (1976) при введении концепции мема как культурной единицы, которая подвергается копированию, фундаментальный принцип биологии заключается в том,
что все живое эволюционирует благодаря неравномерному выживанию реплицируемых сущностей…
На нашей планете в качестве реплицируемой сущности господствует ген – молекула ДНК. Могут существовать и другие подобные сущности. Если они существуют – и выполняется ряд других условий, – они практически наверняка станут основой процесса эволюции.
Но нужно ли нам отправляться в далекие миры, чтобы найти другие типы репликации, а следовательно, и другие типы эволюции? На мой взгляд, репликатор нового типа недавно возник на этой самой планете. Он прямо перед нами. Пока он только зарождается, неловко барахтаясь в своем первичном бульоне, но уже эволюционирует с такой скоростью, что оставляет старый ген далеко позади. [p. 206]
Этот инструмент мышления позволяет нам сделать два наблюдения, которые существенным образом меняют картину нашего воображения, когда мы думаем о человеческой культуре и креативности. Во-первых, мемы разрушают притягательную в остальном идею о том, что к хорошему проекту ведут лишь две дороги: либо гены, либо гений. В представлении большинства мыслителей, пока мемы не открывают им глаза, если что-то в человеческой жизни проявляет характерные признаки адаптации для достижения целей или повышения функциональной эффективности, должно быть, это либо продукт генетического естественного отбора, либо результат целенаправленного, демонстрирующего понимание и намерение человеческого мышления – разумного проектирования. Казалось бы, второй закон Орджела – эволюция умнее вас – закрепляет два этих варианта, но на самом деле есть и третий вариант, распространенный повсеместно: это негенетический, культурный отбор, осуществляемый в процессе того же самого бездумного естественного отбора, который дает нам гены. Прекрасный пример – сделанное более века назад наблюдение о форме полинезийских каноэ: “Каждая лодка делается по образцу предыдущей… само море выделывает лодки, выбирая те из них, которые плавают лучше всех остальных” (Alain 1908). Совершенно очевидно, что это естественный отбор в действии: островитяне следуют простому правилу – если лодка вернулась из моря неповрежденной, делай другую такую же! Возможно, они обладают глубоким пониманием принципов морского строительства, которые задним числом подкрепляют их любимые формы, но в этом нет никакой нужды. Контроль качества осуществляет эволюция. То же самое верно в отношении правил правописания, слов, религиозных практик и многих других основополагающих характеристик человеческой культуры: их никто не проектировал, и они не заложены “в наших генах”, но все равно сконструированы великолепно.
Во-вторых, за пользование этим вторым информационным каналом, этой изобильной средой проектирования и передачи информации, недоступной ни одному другому виду, мы платим особую цену: мемы обладают собственной приспособляемостью, как и все остальные симбионты, процветающие в нашей компании, и их приспособляемость в некоторой степени независима от нашей. Почти никто не задумывается об этом, что особенно очевидно при обсуждении эволюционной теории религии. “О, так вы работаете над эволюционной теорией религии? И что, по-вашему, дают религии? Должны же они чему-то благоприятствовать, раз в каждой человеческой культуре есть религия в той или иной форме”. Что ж, в каждой человеческой религии есть и простуда. Чему благоприятствует она? Только самой себе. Мы должны быть готовы находить культурные репликаторы, которые не приносят никакой пользы, но все равно прекрасно себя чувствуют. Это ставит в одинаковые условия все теории культурной эволюции, заменяя зашоренное представление о том, что культурные инновации – как и генетические инновации – всегда повышают приспособляемость тех, кто их передает. Мемы – это информационные симбионты. Мы не можем жить без них, как не можем жить и без триллионов других населяющих нас симбионтов, но это не значит, что все они дружественны нам. Часть из них лишь создает нам проблемы, без которых мы вполне могли бы обойтись.
Резюме
В этом разделе я постарался продемонстрировать, что дарвинистское мышление действительно сравнимо с универсальной кислотой: оно переворачивает весь традиционный мир с ног на голову, бросая вызов представлению об осуществлении проектирования по нисходящей траектории от гения гениев, разумного творца, и заменяя его представлением о работе по восходящей траектории, осуществляемой бездумными, немотивированными, циклическими процессами, которые создают все более сложные комбинации, пока те не начинают реплицироваться самостоятельно, ускоряя процесс проектирования посредством многократного использования всех лучших элементов. Некоторые из этих ранних потомков в итоге объединяют усилия (первый подъемный кран, симбиоз), что приводит к многоклеточности (второй подъемный кран), которая обусловливает появление более эффективных агентов-исследователей благодаря половому размножению (третий подъемный кран), и это ведет к зарождению языка и культурной эволюции одного из видов (и снова краны), что создает среду для появления новейших кранов – литературы, науки и инженерии, а они, в свою очередь, позволяют нам “выйти на метауровень”, недоступный никакой другой форме жизни, где мы получаем возможность по-разному размышлять, кто мы, что мы и как мы появились в этом мире, моделируя эти процессы в пьесах и романах, теориях и компьютерных симуляциях, а также используя множество других инструментов мышления из нашего впечатляющего инструментария.
Это представление настолько универсально и вместе с тем так изобилует деталями, что само по себе может считаться мощным инструментом. Всем тем, кто по-прежнему не приемлет дарвинистское мышление, стоит задуматься, что при использовании одних лишь старомодных инструментов они окажутся за бортом передовых исследований множества важных и столь разнообразных феноменов, как эпидемии и эпистемология, биотопливо и архитектура мозга, молекулярная генетика, музыка и мораль.
VII.
Инструменты мышления о сознании
Вооруженные десятками инструментов мышления, мы наконец подходим к теме, которую многие считают самым таинственным феноменом во всей вселенной. Ее даже не раз провозглашали неразрешимой загадкой. Мы никогда не познаем сознание, утверждают эти ученые: его природа будет до конца времен систематически ускользать от нашего понимания, какие бы попытки изучить ее ни предпринимались в науке и философии. Поскольку нет достаточных оснований верить в существование этого интеллектуального барьера, я прихожу к выводу, что это не что иное, как самовнушение. Некоторым не нравится, что рано или поздно мы можем раскрыть секрет работы сознательного разума, а потому, чтобы мы не навязывали им свои представления, они твердят, что нам лучше сдаться перед лицом неразрешимой проблемы. Если мы последуем их совету, они окажутся правы, поэтому давайте не будем обращать на них внимания и возьмемся за эту сложную, но все же выполнимую задачу.
53. Два контробраза
Многие описанные ранее инструменты мышления так или иначе имели отношение к сознанию – убеждениям, мышлению и так далее, – но запутанные проблемы сознания я до сих пор обходил стороной. На то есть причина: размышляя о сознании, люди склонны раздувать свои представления о сознании и тем самым одурачивать себя. Они берутся за самые сложные проблемы, не давая себе шанса оценить, какую часть работы (и игр) сознания (mind) можно объяснить, не поднимая извечных вопросов о сознательном опыте. Мы уже разбили базовый лагерь – так не пора ли нам покорять вершину? Пора. Однако, позволяя себе такую мысль, мы уже совершаем ошибку! Самосознание (consciousness) нельзя назвать единственным великолепным пиком нашего сознания (mind). Вопреки традиции, восходящей, по меньшей мере, к Декарту, жившему в семнадцатом веке, феномены самосознания не занимают в нашем сознании ни “центрального”, ни “высшего” положения (Jackendoff 1987; Dennett 1991a). Чтобы нейтрализовать привлекательный, но неудачный образ, нужно использовать контробраз, поэтому начнем с простого калибратора воображения: вспомним прекрасную песню Коула Портера “Ты – вершина” и задумаемся, что вы, возможно, не вершина как таковая – не высшая точка горы, а вся гора, и потому ваши знания о горе, которой вы сами и являетесь, не ограничиваются видом с пика, ведь вам открываются и все панорамы с ее склонов. Феномены сознания можно сравнить с волосами, которые обрамляют лысину. Не забывайте об этом.
Вот другой контрообраз: сознание не похоже на проводник вроде телевизора, в который может передаваться и записываться информация, и в мозге нет места, где “все сходится воедино” перед лицом некоего центрального свидетеля, – я называю это воображаемое место картезианским театром (Dennett 1991a). Сознание скорее сродни славе, чем телевизору: славе в мозге, церебральной звездности, которая позволяет некоторым фрагментам содержимого становиться влиятельнее и памятнее конкурентов. Вместо того чтобы отстаивать эту точку зрения (аргументы в ее поддержку см. в работах Dennett 1991a, 2005b), я просто предлагаю вам этот инструмент мышления. Не нравится – не берите. Но я все же дам вам дружеский совет: всякий раз, когда будете представлять проникновение в сознание как прибытие в штаб-квартиру сознания или как перевод с языка бессознательных нейронных сигналов на какой-то другой язык, вспоминайте эти контробразы и проверяйте, не вводите ли вы себя в заблуждение.
54. Чутье на зомби
Большинство людей чуют – именно чуют, иначе и не скажешь, – что ни один робот (сделанный из кремния, металла, пластика и т. п.) не может обладать сознанием в том смысле, в котором им обладает человек. Есть в наших живых, дышащих, органических телах и мозгах что-то такое, без чего сознанию не обойтись. Прийти к этому интуитивному пониманию можно и без использования насосов – настолько широко оно распространено, – и эти люди вполне могут оказаться правы. Но теперь мы знаем, что наше тело и мозг можно представить в качестве роботов, состоящих из роботов, состоящих из роботов – и так далее, до субнейронного уровня, где на благо системы трудятся двигательные белки и другие наноботы, – а потому можем предположить, что это чутье не более чем артефакт бедного воображения: люди просто представляют себе роботов, устроенных на много порядков проще. Один мой друг однажды попробовал убить эту идею в зародыше: “Я просто не могу постичь сознательного робота!” Чепуха, ответил я. Дело в том, что ты не хочешь постичь сознательного робота! Ты думаешь, что эта идея слишком глупа и нелепа, чтобы принимать ее всерьез. Но постичь сознательного робота под силу даже ребенку – представляют же дети сознательный паровоз (“Паровозик, который верил в себя”) или сознательную новогоднюю елку (во всех этих слезливых детских сказках об одиноких елках, которые мечтают найти дом). Любой смотревший “Звездные войны” часа полтора представлял R2D2 и C3PO сознательными. Мы делаем это с детства, обычно “даже не задумываясь”. Это не только просто, но и почти неизбежно, когда мы сталкиваемся с объектом, который ведет себя – и особенно говорит, – как человек.
Вот интересный факт: с тех пор, как в 1950-х гг. Уайлдер Пенфилд провел свои прорывные исследования в Монреале, состоялось множество операций на мозге пребывающих в сознании пациентов, которые могли сказать, что ощущают, когда их мозг стимулируется здесь или вон там. Вряд ли кто-то из участников или свидетелей любой из этих операций хоть раз подумал: “О боже! Это не человек! Это зомби! Иначе и быть не может, ведь мы заглядываем внутрь, а там одно серое вещество!” Нет, ведь было слишком очевидно – смотрите! слушайте! – что пациент в сознании. На самом деле было бы столь же очевидно, если бы мы вскрыли череп нашего собеседника и обнаружили, что внутричерепная полость заполнена микрочипами. Мы бы узнали – возможно, к собственному удивлению, – что нам не только просто вообразить или постичь сознательного робота, но и что он существует на самом деле.
Некоторые философы полагают, что воображение сыграет с вами злую шутку, если вы купитесь на это “исключительно поведенческое” свидетельство сознательности и придете к такому выводу. “Не позволяйте себя обмануть!” – таков, возможно, их девиз. Доказать, что другой человек сознателен, гораздо сложнее, поскольку существует возможность – по крайней мере, логическая, – что этот человек на самом деле “зомби”. Не вуду-зомби, которых показывают в кино и в костюмы которых наряжаются на Хеллоуин. Ходячих мертвецов легко отличить от обычных людей по поведению (и жуткому внешнему виду). Философские зомби, напротив, могут быть приятны в общении. Они вполне могут становиться душой компании, любить, радоваться жизни и совершать спонтанные поступки, как и любой из ваших знакомых. Зомби могут быть и некоторые из ваших лучших друзей. Философские зомби (по определению) на поведенческом уровне неотличимы от обычных сознательных людей, но при этом “пустоголовы” – напрочь лишены внутреннего мира и сознательного опыта. Они кажутся сознательными только внешне. Если вы согласны с этими философами и считаете это серьезной проблемой, если вы гадаете – учитывая логическую возможность существования философских зомби, – как вообще может родиться научная, материалистическая теория сознания, то вы находитесь в плену чутья на зомби[65].
Позвольте мне сразу признать, что у меня, как и у любого другого человека, тоже есть чутье на зомби. Если задуматься, действительно кажется, что сознание должно представлять собой некое дополнение ко всему тому, что оно делает для нас и с нами, некое особое, интимное ощущение, своего рода самоосознание, которое не может быть свойственно ни одному роботу и совершенно невообразимо в качестве “всего лишь” физической активности мозга. Но я научился не обращать внимания на это чутье. Я считаю его источником ошибок, обманом воображения, а не наставлением на путь истинный. Тем не менее убедить в этом остальных не так-то просто. Чтобы ослабить чутье на зомби, нам придется использовать несколько насосов интуиции.
Для начала сравним эту логическую возможность с рядом других. Логически возможно, что вы живете в Матрице, а вся жизнь, которую вы наблюдаете и в которой, очевидно, участвуете, на самом деле представляет собой виртуальную реальность, созданную специально, чтобы обеспечить вам покой, пока ваше тело лежит без движения в какой-то высокотехнологичной капсуле. Логически возможно, что атомов углерода не существует, а те объекты, которые ученые считают атомами углерода, на самом деле представляют собой огромное множество крошечных космических кораблей, пилотируемых пришельцами, всю жизнь притворяющимися атомами углерода. Логически возможно, что вся вселенная была создана около шести тысяч лет назад – вместе с так называемыми ископаемыми и фотонами, якобы летящими к нам из далеких галактик. (Логически возможно, что мир был создан всего десять минут назад, а мнимые воспоминания о прошлом были просто внедрены в ваш мозг.) Подобные логические возможности открывают нам широкие горизонты для создания художественных произведений, однако мы не считаем их серьезными указаниями на то, что нам следует пересмотреть нашу физику, химию и биологию или вовсе отказаться от их достижений. Есть ли основания считать чутье на зомби более весомым, более достойным рассмотрения? Многие серьезные мыслители полагают, что да.
Предок всех насосов интуиции, сконструированных для отказа от чего-то вроде чутья на зомби, был предложен сотни лет назад Готфридом Вильгельмом Лейбницем, философом и математиком, который делит лавры изобретателя математического анализа с Исааком Ньютоном. Он был столь же умен и неординарен, как и остальные мыслители его эпохи, но все равно купился на следующий насос интуиции, предложенный им самим.
Если допустить существование машины, сконструированной таким образом, чтобы она могла думать, чувствовать и воспринимать, можно вообразить, что ее размеры будут больше при соблюдении тех же пропорций, чтобы внутрь нее можно было войти, как на мельницу. В таком случае, изучая ее интерьер, мы найдем только части, которые работают в связке друг с другом, но не обнаружим ничего, что объясняло бы способность к восприятию. Следовательно [курсив мой], восприятие следует искать в простой субстанции, а не в сложной конструкции и не в машине. [Leibniz 1714, § 17]
Это “следовательно” – одна из главных логических ошибок во всей истории философии. Лейбниц не дает нам никаких промежуточных аргументов для обоснования этого вывода; он полагает, что вывод слишком очевиден, чтобы его хоть чем-нибудь подкреплять. Вспомните генетика начала двадцатого века Уильяма Бэтсона, который просто не мог представить гены в качестве материальных сущностей (см. с. 122). Подобно Бэтсону, неспособному принять всерьез сумасбродную идею о трех миллиардах спаренных оснований в двойной спирали внутри каждой клетки (уму непостижимо!), Лейбниц не мог принять всерьез идею о “мельнице” с триллионами подвижных частей. Без сомнения, он настаивал бы, что “простым добавлением частей” от машины к сознанию не придешь, но это было бы лишь его чутье, которое он никак не мог доказать. Но если Дарвин, Крик и Уотсон разоблачили обман воображения Бэтсона, то Тьюринг отправил спроектированный Лейбницем насос интуиции в утиль. Вот только это не так. Пока что. Думаю, со временем чутье на зомби станет историей, любопытным артефактом нашего населенного духами прошлого, но сомневаюсь, что настанет день, когда оно исчезнет совсем. Оно не выживет в текущей, дурманящей разум форме, но сохранится в качестве менее агрессивной мутации, все еще психологически могущественной, но лишенной власти. Такое случалось прежде. По-прежнему кажется, что земля стоит на месте, пока луна и солнце вращаются вокруг, но мы узнали, что это только видимость, которую не стоит принимать во внимание. По-прежнему кажется, что есть разница между объектом, пребывающим в абсолютном покое, и объектом, который просто не ускоряется в инерциальной системе отсчета, но мы научились не доверять этому чувству. Я жду тот день, когда философы, ученые и простые обыватели будут посмеиваться над ископаемыми следами нашего раннего недоумения по вопросам сознания: “По-прежнему кажется, что эти механистические теории сознания чего-то не учитывают, но теперь мы, само собой, понимаем, что это лишь иллюзия. На самом деле они объясняют о сознании все, что требует объяснения”.
Упрямое доверие чутью на зомби поддерживается многими философскими мысленными экспериментами, такими как знаменитый эксперимент Джона Сёрла о китайской комнате, вдохновивший меня на создание термина “насос интуиции”. Вскоре он будет развенчан у вас на глазах. Но сначала я хочу немного более подробно изучить концепцию философских зомби.
55. Зомби и зимбо
Когда люди говорят, что не могут постичь (философских) зомби, мы вправе спросить их, откуда они это знают. Постигать не так уж просто! Можете ли вы постичь более трех измерений? Искривление пространства? Квантовую запутанность? Просто вообразить что-то недостаточно – Декарт даже говорит нам, что вообразить не значит постичь! Согласно Декарту, воображая, мы используем все свое (механистическое по сути) тело, со всеми его ограничениями (близорукостью, ограниченным разрешением глаза, углами зрения и глубиной фокуса), в то время как постижение использует лишь разум, который гораздо лучше справляется с распознаванием различий, поскольку его не сковывают механические рамки. В качестве примера, убедительно доказывающего существование этого различия, Декарт приводит тысячеугольник. Можете ли вы его вообразить? А постичь? В чем разница? Давайте первым делом попробуем его вообразить. Начнем, скажем, с пятиугольника, а затем вообразим десятиугольник. Это непросто, но вы знаете, что делать: нужно согнуть каждую сторону пятиугольника посередине и вытолкнуть наружу, тем самым превратив пять равных сторон в десять. Насколько далеко толкать? Просто впишите пятиугольник в окружность и выталкивайте новые стороны по направлению к окружности, пока углы ее не коснутся. Затем повторите операцию, чтобы сделать двадцатиугольник.
Повторив операцию еще несколько раз, вы получите правильный 1280-угольник, который почти неотличим от окружности в воображении, но при попытке постичь его отличается от окружности – и от тысячеугольника – так же сильно, как от окружности отличается квадрат. Если я попрошу вас вообразить окружность внутри тысячеугольника внутри окружности внутри тысячеугольника внутри окружности, то есть своего рода мишень, сможете ли вы отличить окружности от тысячеугольников в своем мысленном образе? Нет, все они будут казаться окружностями, но вам не составит труда постичь то, что вас попросили.
Декарт не требует производить такие выкладки: в его представлении постижение, как и воображение, – непосредственный и эпизодический мысленный акт, в результате которого человек схватывает идею, не создавая ее образа, или вроде того. Вы просто улавливаете (мысленно) значение нужных понятий (СТОРОНА, ТЫСЯЧА, ПРАВИЛЬНЫЙ, МНОГОУГОЛЬНИК) – и вуаля! Вы все поняли. Я всегда с недоверием относился к этому базовому картезианскому акту постижения. Если вам он под силу, прекрасно, но лично я с ним никак не справляюсь. Я не чувствую уверенности, что преуспел в постижении чего-либо, пока не поиграю некоторое время с соответствующими идеями, мысленно проверяя их следствия и, по сути, выполняя упражнения, чтобы в полной мере овладеть задействованными инструментами. (А занимаясь этой умственной гимнастикой, я активно использую воображение – например, изучаю различные диаграммы и образы, которые возникают у меня в голове. Иными словами, я эксплуатирую то, что Декарт назвал бы лишь моим воображением, чтобы добиться того, что он считает постижением.) Можете ли вы постичь теорию струн? Считаете ли вы, что понять и проверить на логическую непротиворечивость все разговоры о многочисленных измерениях, заполненных суперструнами, “мозгами” и тому подобными вещами, не представляет труда? Мне они кажутся заумными, но именно по этой причине я не готов объявить их непостижимыми или невозможными (Ross 2013). Меня они не убеждают, однако я недостаточно уверен в собственных способностях к постижению, чтобы отбросить их как полную чепуху. Я пока не сумел постичь истину теории струн. Нам не следует придавать особенного значения легковесным вердиктам о постижимости или непостижимости в отсутствие наглядных доказательств. Бэтсон сказал, что существование материального гена “непостижимо”, однако, будь он сегодня жив, он без проблем сумел бы его постичь. В конце концов, о двойной спирали со всеми ее витками теперь рассказывают в школе – и этот феномен оказывается вполне постижимым для детей, как только они уловят его суть. Но никакая новая информация и никакие новые техники воображения не помогут нам постичь круглый квадрат (правильный четырехугольник, все точки сторон которого равноудалены от его центра) или самое большое простое число.
Я вполне уверен, что идея философского зомби концептуально непоследовательна, невозможна и несостоятельна. Но не стоит верить мне на слово. Что вы можете сделать, чтобы убедить себя, что вам под силу постичь философского зомби? Допустим, вы попытаетесь представить, что ваш друг Зик “оказался” зомби. Что убедит вас или даже подтолкнет к такому выводу?[66] Какое отличие станет решающим? Не забывайте, никакое действие Зика не может убедить вас, что он зомби или не зомби. Я замечаю, что многие выполняют это упражнение неправильно: пытаясь постичь происходящее, они, к несчастью, забывают или отбрасывают часть определения философского зомби. Заметить эту ошибку станет проще, если выделить специальный подвид зомби, которых я называю зимбо (Dennett 1991a). Все зомби обладают бессознательными (само собой) системами управления, которые извлекают информацию о мире (через глаза и уши зомби) и используют ее, чтобы не натыкаться на стены, поворачиваться на зов и так далее. Иными словами, все они представляют собой интенциональные системы. Но зимбо выделяется из общей массы, поскольку это зомби, который также наделен всем необходимым для наблюдения за собственной активностью, как внешней, так и внутренней, а потому располагает внутренними (бессознательными) информационными состояниями высшего порядка, описывающими все остальные его внутренние состояния. Дальнейший самомониторинг позволяет зимбо получать и использовать информацию об этих состояниях самомониторинга – и так далее до бесконечности. Иначе говоря, зимбо наделен рекурсивной саморепрезентацией – бессознательной рекурсивной саморепрезентацией, если вы меня понимаете. Только благодаря этому особому таланту зимбо может быть участником подобного разговора:
Вы: Зик, я тебе нравлюсь?
Зик: Конечно. Ты мой лучший друг!
Вы: Тебе не понравилось, что я об этом спросил?
Зик: Честно говоря, нет. Вопрос получился немного обидным. Мне стало от него не по себе.
Вы: Откуда ты знаешь?
Зик: Хм-м… Я просто помню, что почувствовал раздражение, угрозу, а может, просто удивление, когда услышал этот вопрос из твоих уст. Почему ты меня об этом спросил?
Вы: Вопросы буду задавать я, если не возражаешь.
Зик: Как скажешь. Мне вообще не нравится этот разговор.
Не забывайте, поскольку философский зомби неотличим от сознательного человека на поведенческом уровне, в его репертуар входит поведение вроде поддержания этой беседы, а чтобы контролировать подобные паттерны поведения, зомби понадобится рекурсивная саморепрезентация. Зомби может “размышлять” (характерным для зомби бессознательным образом) о том, что он чувствует в отношении того, что чувствовал в отношении того, о чем думал, когда задавался вопросом… и так далее. Довольно просто представить, что у вас возникнут подозрения, если Зик вдруг зависнет, когда вы начнете расспрашивать его подобным образом, но в таком случае вы просто узнаете, что если Зик и зомби, то не зимбо. Спрашивая, возможно ли существование философских зомби, вы всегда должны следить, что на самом деле думаете о зимбо, поскольку лишь существо, располагающее рекурсивной саморепрезентацией, сможет сохранять самообладание в будничных взаимодействиях вроде этого разговора, не говоря уже о сочинении стихов, формулировке новых научных гипотез и игры в спектаклях, а все эти действия по определению входят в компетенцию зимбо.
Если только вы не вообразили в мельчайших подробностях, насколько неотличим был бы “нормальный” Зик от зимбо Зика, вы не попытались по-настоящему постичь философского зомби. Подобно Лейбницу, вы сдаетесь, даже не попытавшись. Теперь задайте себе еще несколько вопросов. Какая вам разница, зимбо ли Зик? Или – на более личном уровне – какая вам разница, являетесь ли (или станете ли) зимбо вы сами? Вам ведь все равно этого никогда не узнать.
Правда? Есть ли у Зика убеждения? Или же у него есть только вроде как убеждения – “своего рода информационные состояния за вычетом сознания, которые ведут зимбо по жизни точно так же, как убеждения ведут по жизни всех нас”? Вот только в этом случае вроде как убеждения столь же действенны, столь же надежны, как и настоящие, поэтому использовать оператор “вроде как” здесь неуместно. Продемонстрировать это можно, вообразив левшей (как я, страдающих от диспраксии) в качестве зимбо, а правшей – в качестве сознательных людей.
Левша: Говоришь, ты доказал, что мы, левши, на самом деле зомби? Я бы в жизни не подумал! Но почему же мы бедняги?
Правша: Вы по определению лишены сознания – что может быть хуже?
Левша: Хуже для кого? Что страдать, если голова пустая? Но ты-то зачем пытаешься со мной поговорить, раз я всего лишь зимбо?
Правша: Мне кажется, что голова у тебя не пустая.
Левша: И мне так кажется! В конце концов, я зимбо, а следовательно, обладаю всевозможными способностями к самомониторингу высшего порядка. Я знаю, когда я в смятении, когда мне больно, когда мне скучно, когда мне интересно и так далее.
Правша: Нет. Ты функционируешь так, словно бы знаешь эти вещи, но на самом деле ничего не знаешь. Ты лишь вроде как знаешь все это.
Левша: Думаю, здесь оператор “вроде как” неуместен. То, что ты называешь моим вроде как знанием, неотличимо от твоего так называемого реального знания, если не считать “дефиниционный” аспект, по которому знание зимбо не считается реальным.
Правша: Но разница есть – должна быть!
Левша: Что это, если не предрассудки?
Если этого недостаточно, чтобы вы представили, каково дружить с зимбо, рассмотрите другие примеры. Представьте, что хотите написать роман о зимбо, застрявшем в мире сознательных людей, или о сознательном человеке, выброшенном на Остров Зимбо. Какие детали вы можете выдумать, чтобы история стала правдоподобной? Можно выбрать и путь попроще: прочитайте хороший роман с мыслью, что это роман о зимбо. Что подтверждает или опровергает вашу гипотезу? При создании романа писатели выбирают точку зрения, или режим повествования. Одни могут излагать события от первого лица, как поступили Герман Мелвилл в “Моби Дике” и Дж. Д. Сэлинджер в “Над пропастью во ржи”.
“Зовите меня Измаил”.
“А уж если я волнуюсь, так это не притворство. Мне даже хочется в уборную, когда я волнуюсь. Но я не иду. Волнуюсь, оттого и не иду”[67].
Другие писатели выбирают повествование от третьего лица, где рассказчику известно все. Любопытно, что при повествовании от первого лица подтвердить гипотезу о зимбо, казалось бы, проще. В конце концов, вся история просто отражает повествовательное поведение зимбо Измаила или зимбо Холдена Колфилда. Мы видим их только со стороны и узнаем лишь то, что они сами называют проявлениями своего внутреннего мира! Сравните эти повествования от первого лица с повествованиями от третьего лица, например фрагментами из “Доводов рассудка” Джейн Остин и “Преступления и наказания” Ф. М. Достоевского.
Она [Элизабет] чувствовала, что следовало бы пригласить миссис Мазгроув и спутников ее на обед; но она не могла снести мысли, что в продолжение обеда перемена в обстоятельствах, сокращение штата прислуги неизбежно откроются тем, кто всегда смотрел снизу вверх на Эллиотов из Киллинча. Суетность боролась с приличием, и суетность победила, и тотчас Элизабет вздохнула с облегчением[68].
Он [Раскольников] смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение!
Казалось бы, здесь автор позволяет нам “заглянуть прямо в сознание” Элизабет и Раскольникова, а потому разве могут они быть зимбо? Но не забывайте, где у сознательных людей поток сознания, у зимбо – поток бессознательного! В конце концов, в зимбо нет ничего чудесного: их поведение контролируется множеством внутренних процессов невероятной информационной сложности и модулируется практичными аналогами эмоций, соответствующими счастью, смятению и боли. Таким образом, Элизабет и Раскольников могут быть зимбо, а Остин и Достоевский просто используют знакомые и любимые всем нам по народной психологии термины для описания их внутренних процессов, подобно тому как программисты говорят об итерационном “поиске” и рискованных “суждениях” создаваемых ими шахматных программ. Зимбо может стыдиться потери положения в обществе и может задыхаться от любви.
Никогда не забывайте, как подвело воображение Уильяма Бэтсона. Когда я изо всех сил стараюсь не попасть в эту ловушку, выискивая просчеты в своих допущениях и пытаясь понять, где я мог ошибиться насчет зомби, я всегда совершаю воображаемые открытия, которые показывают – в лучшем случае, – что концепция сознания вообще весьма сумбурна. К примеру, я могу вообразить, что существует два (или семь, или девяносто девять) различных типа так называемого сознания, причем для левшей характерен один, для правшей другой, а для омаров – третий. Но вообразить это можно (пока что) лишь одним способом – я должен представить, что они отличимы по следующим функциональным критериям: левши не могут X, правши не могут Y и так далее. Но эти различимые различия лишь показывают, что мы вообще говорим не о философских зомби, потому что (по определению) философского зомби не отличить от “истинно сознательного” человека на основании внешних критериев. При этом никто еще не сумел описать внутреннее отличие истинного сознания, в основе которого не лежит способность предположительно сознательного человека делать что-либо на уровне “психики”, тем самым убеждая нас (и себя самого) в своей сознательности. Но каким бы ни было это психическое различие, вероятно, в “потоке бессознательного” зомби найдется и его фальшивый аналог. Если нет, то почему? Итак, я вполне уверен, что концепция философского зомби – своего рода интеллектуальная галлюцинация, недуг, который можно перерасти. Попробуйте. Далее в этом разделе я помогу вам справиться с этой задачей и пересмотреть свои представления.
56. Проклятие цветной капусты
Вижу, вы облизываетесь при виде только что сваренной цветной капусты, от одного запаха которой меня начинает тошнить. Мне сложно понять, как вам вообще может нравиться этот вкус, а потому я подозреваю, что вы, вероятно, ощущаете вкус цветной капусты иначе, чем ощущаю его я. Казалось бы, эта гипотеза вполне правдоподобна, ведь я прекрасно знаю, что в разное время я по-разному ощущаю вкус одной и той же пищи. К примеру, первый глоток апельсинового сока за завтраком кажется гораздо более сладким, чем второй, если между ними я съем кусок блинчика с кленовым сиропом, но после пары глотков кофе апельсиновый сок снова становится (примерно? точно?) таким же, каким он был при первом глотке. Безусловно (динь!), нам хочется говорить (или думать) о таких вещах, и, безусловно (динь!), мы не слишком ошибаемся, когда делаем это, поэтому… безусловно (динь!), вполне нормально говорить о том, как Деннет ощущает вкус сока в момент времени t, и спрашивать, так же или иначе Деннет ощущает вкус сока в момент времени t’ или Джонс ощущает вкус сока в момент времени t. Назовем то, какими вещи предстают перед нами, термином квалиа (qualia).
Этот “вывод” кажется невинным, но мы уже совершили большую ошибку. Подразумевается, что на последнем этапе мы можем отделить “квалиа” от всего остального – хотя бы теоретически. То, как X ощущает вкус сока, предположительно можно отличить от всех сопутствующих, второстепенных факторов, или побочных продуктов этого “центрального” ощущения. Можно смутно представить, как в каждом из случаев все лишнее постепенно отбрасывается, чтобы самое главное – то, как разные индивиды видят, слышат, чувствуют вещи, а также ощущают их вкус и запах в разное время, – оказалось отделено от того, что оказывает влияние на этих индивидов и стимулирует их нечувственное восприятие, и от того, как они себя впоследствии ведут и во что решают верить. Главная ошибка не в том, что мы допускаем возможность хотя бы иногда или всегда проводить такую очистку на практике, а в том, что вне зависимости от успешности попыток этой очистки нам кажется, будто существует некоторое остаточное свойство.
Искушающих нас примеров не перечесть. Я не могу вообразить, никогда не узнаю, да и не могу, пожалуй, узнать, как слышал Баха Гленн Гульд. (Я едва могу вспомнить, как сам слышал Баха в детстве.) И мне, пожалуй, не узнать, каково быть летучей мышью (Nagel 1974) или видите ли вы то же самое, что и я, смотря на чистое “голубое” небо. Эти обыденные примеры убеждают нас в реальности этих особенных свойств – субъективных вкусов, видов, ароматов, звуков, – которые мы затем, очевидно, изолируем для изучения, прибегая к подобной философской дистилляции. Так и рождаются квалиа.
“Квалиа” – это “технический” термин для обозначения того, что всем нам прекрасно знакомо: того, как вещи выглядят для нас. Казалось бы, собственные квалиа должны быть известны вам лучше всего на свете: пусть вселенная окажется лишь гигантской иллюзией, лишь выдумкой злого демона Декарта, но то, из чего состоит эта выдумка, будет (для вас) квалиа вашего галлюцинаторного опыта. Декарт подвергал сомнению все, в чем вообще можно сомневаться, но ни разу он не усомнился в том, что его сознательные ощущения имеют квалиа, то есть свойства, по которым он может их узнавать и понимать.
Такое определение квалиа – то, как вещи выглядят для нас, – может показаться вполне ясным, но, хотя описанные выше квалиа уже анализировались и обсуждались философами, между ними по-прежнему нет согласия, что именно означает или, технически говоря, подразумевает этот термин. Многие специалисты по когнитивной науке великодушно допустили, что философы знают, о чем говорят, когда используют этот специальный термин, и добавили его в свой лексикон, тем самым совершив тактическую ошибку. Безотносительно эмпирической подоплеки, до сих пор не утихают споры о том, чем являются и не являются квалиа. Несколько лет назад я (1988b) опубликовал эссе, в котором перечислил четыре основополагающих свойства квалиа. Квалиа – то, как вещи выглядят для нас, – должны быть
1. невыразимыми,
2. внутренне присущими,
3. частными, а также
4. непосредственно воспринимаемыми.
Таким образом, они (1) неделимы для интроспекции, а следовательно, неописуемы (“вам нужно быть там”); (2) не связаны ни с какими отношениями, диспозициями или функциями (красный цвет может вызывать тревогу у некоторых людей, однако эту субъективную диспозицию нельзя считать квалиа красного); (3) “Вам нужно быть там, но у вас не получится, они мои и только мои!” и (4) ваши квалиа знакомы вам лучше всего остального.
В большинстве научных кругов эти свойства по-прежнему считаются хорошей отправной точкой для анализа квалиа, однако цель моего эссе состояла в том, чтобы показать, что ничто не может соответствовать всем четырем перечисленным критериям, а потому обсуждалась возможность пересмотра и доработки концепции, но консенсус так и не был достигнут. Широко применимый и высоко котирующийся технический термин нередко имеет несколько несовместимых определений – вспомните “ген” и “вид” в биологии или “причину” во всей остальной науке, – но мне представляется, что неразбериха с “квалиа” гораздо проблематичнее. Представители других дисциплин хватаются за эту концепцию, считая ее подарком от философии, который может пригодиться и в их исследованиях, но в итоге получают троянского коня.
В том эссе я предложил тринадцать других насосов интуиции (в дополнение к цветной капусте) и не буду повторяться здесь, поскольку в последующие годы я сконструировал другие, возможно более действенные, инструменты, которые можно использовать в моей битве с самонадеянностью, нашедшей выражение в знаменитом ответе на вопрос, что же такое квалиа. Нед Блок (1978, p. 281) отмахнулся от этого извечного вопроса “лишь вполушутку”, вспомнив легендарный ответ Луи Армстронга на вопрос, что такое джаз: “Если вам приходится спрашивать, вам никогда этого не узнать”. Эта любопытная тактика прекрасно демонстрирует, какую именно гипотезу я хочу развенчать. Если у меня все получится, ответ Блока, который большинство и сегодня считает образцовым, будет казаться столь же нелепым и необоснованным, как и комичное удивление виталиста, заявившего при встрече с человеком – “заметьте, живым существом!” – что он сомневается в существовании жизненного порыва.
57. Жизненная сила: сколько это в “настоящих деньгах”?
Согласно распространенному мнению, даже если бы можно было создать, скажем, роботизированную модель цветового зрения, которая демонстрировала бы все знакомые нам, людям, феномены, такие как дополнительные послеобразы и иллюзии цветовых контрастов, и даже если бы внутри этого робота и проистекали сходные процессы обработки послеобразов и тому подобных вещей, такой робот не мог бы обладать квалиа красного и синего, поскольку оне был бы “всего лишь роботом”. Функциональные состояния, сигнализирующие о цветах, попадающих в поле зрения механических глаз робота, были бы лишены той дополнительной характеристики, которой они наделены у нас. Знаменитое эссе Томаса Нагеля “Что значит быть летучей мышью?” (1974) дает нам стандартный способ ссылаться на сознательные состояния организма, если эти состояния вообще существуют. Быть роботом, видящим послеобразы, ничего бы не значило. Почему так много людей считает это очевидным? Возможно, дело в том, что они представляют себе относительно простого робота и не учитывают, что нельзя делать выводы обо всех роботах, опираясь лишь на факты о простых роботах. Само собой, если определить квалиа как внутренне присущие свойства опытов, анализируемые в изоляции от всех их причин и следствий и логически независимые от любых диспозиционных характеристик, то квалиа, согласно логике, вообще не поддаются функциональному анализу. Сколько бы ни бились инженеры, им не удастся создать робота, наделенного квалиа, но в этом и нет особенного смысла, ведь нет никаких оснований полагать, что внутренне присущие свойства вообще существуют.
Чтобы увидеть это, сравним квалиа опыта с ценностью денег. Кажется, некоторые наивные американцы полагают, что доллары, в отличие от евро и йен, обладают внутренне присущей ценностью. Карикатурный турист спрашивает: “Сколько это в настоящих деньгах?” – пытаясь выяснить цену в долларах. Давайте пойдем немного дальше. Эти наивные американцы готовы обменивать доллары на евро и “сводить” ценность других валют к обменному курсу с долларом (или к стоимости товаров и услуг), но при этом им кажется, что доллары принципиально отличаются. Каждый доллар в их представлении имеет нечто логически независимое от своей функции единицы обмена, которую он делит со всеми остальными находящимися в обращении валютами. Доллар обладает неким трудноуловимым свойством. Задумавшись об этом, вы поймете, что ему свойственна аура ценности – может, и не такая яркая, как в старые добрые времена, но все равно различимая. Назовем ее жизненной силой доллара. В таком случае официально жизненная сила – это не связанная ни с какими отношениями и диспозициями внутренне присущая экономическая ценность доллара. Фунты стерлингов, евро и другие валюты не обладают внутренне присущей ценностью – они лишь символически заменяют доллары и оплачиваются долларами, а следовательно, обладают производной экономической ценностью, но не жизненной силой! Бедняги европейцы! Их валюты не имеют внутренне присущей экономической ценности! Как они с этим справляются? Как они мотивируют себя зарабатывать эти жалкие безжизненные гроши? Те из нас, кому повезло получать зарплату в долларах, зарабатывают деньги с хорошей жизненной силой. Неудивительно, что многие нации выбирают американский доллар в качестве своей резервной валюты! Даже иностранцы чувствуют жизненную силу доллара.
Так говорят наши воображаемые американские туристы. Пользуясь таким определением жизненной силы, экономисты никогда не поймут, в чем состоит жизненная сила каждого доллара, поскольку ни одна экономическая теория не в состоянии объяснить внутренне присущую экономическую ценность. Тем хуже для экономики? Наличие жизненной силы сделало бы экономическую теорию несостоятельной, однако у нас, к счастью, нет оснований полагать, что внутренне присущая экономическая ценность вообще существует. Совершенно очевидно, что жизненная сила – это плод воображения, артефакт интуитивного восприятия этих наивных американцев, а объяснить артефакт можно и не признавая его.
Некоторые участники дебатов о сознании похожи на этих воображаемых туристов. Они безапелляционно заявляют, что их представления о внутренне присущих свойствах феноменов, без сомнения, должны ложиться в основу любой науки о сознании. Такую убежденность стоит считать любопытным симптомом, заслуживающим диагноза, – исходным фактом, который должна учитывать любая наука о сознании, – подобно тому как экономистам и психологам, вероятно, не помешало бы объяснить, почему так много людей питает иллюзию, что деньги обладают внутренне присущей ценностью. (Когда Европа перешла на евро, людям, которые привыкли воспринимать цены во франках, марках, лирах и других валютах, пришлось пройти через трудный период, когда они не могли полагаться на “перевод” цен в свои “настоящие деньги”. Первое исследование этого феномена см. в работе Dehaene, Marques 2002.)
Многие свойства сознательных состояний могут и должны быть прямо сейчас подвергнуты дальнейшему научному изучению, а поняв, что они собой представляют, мы с большой долей вероятности увидим, что они вполне подходят нам для объяснения природы сознания. В конце концов, именно так случилось с давней “загадкой” о природе жизни. Как выяснилось, витализм – представление о существовании во всех живых организмах некоего важного секретного ингредиента, называемого жизненным порывом, – оказался ошибкой воображения. Сегодня витализм почти исчез, однако некоторые упрямцы не сдаются. Вдохновленные этой историей успеха, мы продолжим научное изучение сознания. Если настанет день, когда будут объяснены все наблюдаемые феномены сознания и оплачены все интеллектуальные счета, а мы увидим, что чего-то важного все равно не хватает (если это действительно важно, это станет настоящим бельмом на глазу), все те, кто не отказался от своих подозрений, скажут: “Мы же говорили!” Пока что пусть подумают, как отделаться от диагноза, что они, как и виталисты, идут на поводу у иллюзии. Вот вопрос для тех, кто считает квалиа внутренне присущими свойствами опыта: чем это представление отличается от ошибки наивных американцев? (Или американцы правы? Может, доллары действительно обладают жизненной силой, как любой вам скажет?)
58. Печальная история мистера Клапгра
Так что же такое квалиа, если не внутренне присущие свойства сознательного опыта? Однажды вечером за бутылкой шамбертена философ Уилфрид Селларс сказал мне: “Дэн, квалиа – это то, что делает жизнь стоящей!” Интересная идея. Давайте посмотрим, какими в таком случае окажутся квалиа. Чтобы проанализировать это, я сконструирую насос интуиции на основе недавних исследований когнитивной науки, в ходе которых изучалось нескольких причудливых и неочевидных патологий: прозопагнозия и синдром Капгра.
Страдающие от прозопагнозии обладают нормальным зрением, но испытывают трудности с распознаванием лиц. Они не могут отличить мужчину от женщины, старика от юноши, африканца от азиата, а в компании нескольких близких друзей одного пола и возраста они не в состоянии сказать, кто есть кто, пока не услышат голос или не заметят другую характерную особенность. Если попросить такого человека выбрать из ряда фотографий, среди которых будут снимки знаменитых политиков, кинозвезд, членов семьи и безвестных незнакомцев, портреты знакомых ему людей, как правило, он будет выбирать наугад. Не страдающим от прозопагнозии сложно представить, каково это – смотреть, к примеру, на собственную мать, не узнавая ее. Кому-то и вовсе сложно поверить, что прозопагнозия существует на самом деле. Рассказывая людям о подобных феноменах, я часто сталкиваюсь со скептиками, которые вполне уверены, что я все выдумываю на ходу. Но нам следует научиться рассматривать подобные трудности в качестве мерила хрупкости нашего воображения, а не в качестве примеров невозможного. Прозопагнозия (от греческого prosopon, что значит “лицо”, и agnosia, “неузнавание”) – хорошо изученная, бесспорная патология, от которой страдают тысячи людей.
Весьма любопытно, что (многие) страдающие от прозопагнозии не могут распознавать лица сознательно, однако по-разному реагируют на знакомые и незнакомые лица, а некоторые их реакции и вовсе доказывают, что исподволь, сами того не сознавая, они распознают те лица, которые не могут распознать по требованию. К примеру, такое неосознанное распознавание наблюдается, когда страдающим от прозопагнозии показывают фотографии и дают пять вариантов ответа для каждой. Они выбирают ответ наугад, но их кожно-гальваническая реакция – мера эмоционального возбуждения – становится гораздо сильнее, когда они слышат правильное имя, связанное с фотографией. Можно провести простую проверку: какие из следующих имен принадлежат политикам – Мэрилин Монро, Ал Гор, Маргарет Тэтчер, Майк Тайсон? Скорее всего, вы быстро справились с этой задачей, однако если бы каждое из имен сопровождалось неверной фотографией, вам понадобилось бы значительно больше времени. Объяснить это можно, только если на каком-то уровне вы все равно распознавали лица, пусть в этом и не было нужды. Таким образом, представляется, что в мозге есть (как минимум) две по большей части независимые друг от друга системы визуального распознавания лиц: поврежденная сознательная система, которая не может помочь испытуемым справиться с заданием, и неповрежденная бессознательная система, отвечающая возбуждением на несоответствие лиц и имен. Дальнейшие испытания показывают, что неповрежденная система находится “выше”, в зрительной коре, а поврежденная связана с “низшей”, лимбической системой. На самом деле типов прозопагнозии гораздо больше и теперь нам лучше известно, какие зоны мозга с ней связаны, однако нам вполне хватит и этого упрощенного описания, ведь впереди нас ждет еще более странная патология, называемая синдромом Капгра (по фамилии впервые описавшего ее в 1923 г. французского психиатра Жан-Мари Жозефа Капгра).
Люди, страдающие от синдрома Капгра, неожиданно начинают верить, что кого-то из их близких – как правило, супруга, любовника или родителя – тайком заменил его двойник. Страдающие от синдрома Капгра не считаются сумасшедшими: в остальном это совершенно нормальные люди, которые в результате травмы мозга неожиданно приобретают это специфическое убеждение, которое, несмотря на его причудливость и крайнюю маловероятность, поддерживают с такой уверенностью, что в некоторых случаях убивают или серьезно ранят “двойника” – то есть близкого им человека. На первый взгляд может показаться, что ни одна травма мозга не в состоянии оказывать именно такой странный эффект. (Вдруг в таком случае где-то есть и люди, которые получили по голове и стали полагать, что луна сделана из зеленого сыра?) Однако специалист по когнитивной нейробиологии Эндрю Янг обратил внимание на закономерность и предположил, что синдром Капгра представляет собой “противоположность” патологии, которая вызывает прозопагнозию. При синдроме Капгра сознательная, кортикальная система распознавания лиц не страдает – именно поэтому больной узнает, что стоящий перед ним человек как две капли воды похож на его близкого, – но бессознательная, лимбическая система отключается, лишая это узнавание эмоционального резонанса, который оно должно вызывать. Отсутствие столь скромного фактора узнавания играет такую большую роль (“Чего-то не хватает!”), что фактически перечеркивает позитивное распознавание лица знакомого человека неповрежденной сознательной системой, и в итоге больной искренне верит, что смотрит на двойника. Вместо того чтобы винить в этом несоответствии собственную систему восприятия, страдающие от синдрома Капгра винят весь мир таким метафизически экстравагантным, таким невероятным образом, что вряд ли можно сомневаться во влиянии (по сути, политическом), которым обычно пользуется поврежденная в данном случае бессознательная система распознавания лиц. Когда эпистемологический голод этой системы остается неутоленным, она реагирует таким образом, что обесценивает результаты работы остальных систем.
Хэдин Эллис и Янг впервые предложили эту гипотезу в 1990 г., и с тех пор сам Янг, а также нейробиолог Крис Фрит и другие ученые подтвердили и расширили ее. Само собой, есть и сложности, но я не буду углубляться в них, поскольку хочу использовать этот пример из когнитивной нейробиологии, чтобы стимулировать воображение и открыть наш разум для другой возможности, еще не обнаруженной, но вполне вообразимой. Вот воображаемый случай несчастного мистера Клапгра, которого я назвал так, чтобы не забывать, что мы черпаем вдохновение из реальной жизни, где существует синдром Капгра. (Этот сценарий присоединяется к сонму насосов интуиции, при помощи которых философы изучают все мыслимые нарушения человеческого сознания, возможно, имеющие отношение к природе квалиа.)
Мистер Клапгра зарабатывает на жизнь, участвуя в психологических и психофизиологических экспериментах, а потому неплохо распознает собственные субъективные состояния. Однажды утром он просыпается и, едва открыв глаза, в отчаянии восклицает: “А-а-а! Что-то не так! Весь мир стал… странным… ужасным, каким-то неправильным! Я не знаю, хочу ли и дальше жить в таком мире!” Клапгра закрывает глаза, протирает их и с опаской открывает снова, но перед ним опять оказывается до странности отталкивающий мир – знакомый, но в то же время другой, хотя описать его отличия и не получается. Так говорит сам Клапгра. Его спрашивают: “Что вы видите, когда смотрите вверх?” Он отвечает: “Голубое небо, белые перистые облака, желтовато-зеленые почки на весенних деревьях, ярко-красного кардинала на ветке”. Судя по всему, он не испытывает проблем с цветовым зрением, но на всякий случай ему дают стандартный тест Исихары, который показывает, что он не страдает от дальтонизма. Кроме того, мистер Клапгра правильно определяет цвет нескольких десятков полей цветовой системы Манселла. Почти все приходят к выводу, что недуг несчастного мистера Клапгра не затрагивает его цветовое зрение, но один ученый, мистер Хромафил, решает провести еще несколько тестов.
Хромафил занимается исследованиями цветовых предпочтений, эмоциональных ответов на цвет и влияния различных цветов на уровень внимания и концентрации, кровяное давление, частоту сердечных сокращений, скорость обмена веществ и множество других висцеральных процессов. За последние шесть месяцев в ходе проведения тестов он собрал огромную базу данных специфических и типовых реакций мистера Клапгра и хочет проверить, изменилось ли что-нибудь. Он заново проводит все тесты и замечает поразительную закономерность: все эмоциональные и висцеральные реакции, которые Клапгра раньше выдавал на синий цвет, теперь выдаются на желтый – и наоборот. Если раньше он предпочитал красный зеленому, то теперь – зеленый красному. То же самое случилось и с другими его цветовыми предпочтениями. Пища вызывает у него отвращение, если только он не ест в темноте. Сочетания цветов, которые он раньше находил приятными, теперь кажутся ему отталкивающими, а сочетания “противоположных” цветов приятными – и так далее. Оттенок шокирующе розового, который раньше ускорял его сердечный ритм, он по-прежнему распознает как шокирующе розовый (хотя и сомневается, что хоть кого-то может шокировать этот оттенок розового), но теперь он его успокаивает, в то время как успокаивавший его ранее оттенок лаймового зеленого теперь его возбуждает. При взгляде на картины траектория его саккад – быстрых скачкообразных движений глаз при сканировании изображения – теперь существенно отличается от записанных ранее траекторий, явно определявшихся тем порядком, в каком его внимание привлекали цвета на холсте. Способность решать в уме арифметические задачи, которая ранее сильно подавлялась при помещении мистера Клапгра в ярко-синюю комнату, теперь подавляется при помещении его в ярко-желтую комнату.
Иными словами, хотя Клапгра и не жалуется на проблемы с цветовым зрением и прекрасно справляется со всеми стандартными тестами на распознавание и различение цветов, его эмоциональные реакции на цвета существенным образом изменились, как изменилось и воздействие цветов на его внимание. Доктор Хромафил объясняет коллегам, что случай мистера Клапгра не так уж загадочен: дело в том, что он столкнулся с полной инверсией цветовых квалиа, которая не затронула его высокоуровневые когнитивные цветовые таланты, к примеру способность различать и распознавать цвета, то есть те таланты, которыми мог бы быть наделен цветочувствительный робот.
Что же нам сказать? Подверглись ли инверсии квалиа Клапгра? Поскольку случай воображаемый, ответить на этот вопрос, казалось бы, можно как угодно, но философы годами всерьез рассматривают другие воображаемые случаи, полагая, что от результатов этих изысканий зависят ответы на важные теоретические вопросы, так что отмахиваться от этого примера не стоит. Прежде всего, возможно ли вообще такое? Это зависит от того, о какой возможности идет речь. О логической? О физиологической? Разница огромна. Философы склонны не обращать внимания на физиологические ограничения, поскольку в философских баталиях они значения не имеют, но в этом случае они могут пойти на попятный. Я не вижу оснований заявлять о логической невозможности описанного. Клапгра обладает странной комбинацией нетронутых способностей и шокирующих новых неспособностей; обычно тесно взаимосвязанные диспозиции беспрецедентным образом диссоциированы, но можно ли считать его недуг в этом отношении более радикальным, чем прозопагнозию или синдром Капгра? Я не уверен даже, что состояние Клапгра невозможно физиологически: описано немало случаев, в которых больные прекрасно различают цвета, но не могут их называть (цветовая аномия) или становятся дальтониками, но не замечают этого, беспечно выдумывая и называя цвета наугад, не понимая, что на самом деле играют в угадайку. Клапгра, как и больной с синдромом Капгра, не испытывает трудностей с распознаванием и называнием цветов – его проблема не столь очевидна и невыразима: дело в том, что сбились все частные диспозиции, благодаря которым на картины хочется смотреть, комнаты хочется красить, а сочетания цветов – подбирать. У Клапгра изменились те эффекты цветов, которые делают жизнь стоящей, – иначе говоря (если Селларс был прав), его цветовые квалиа.
Допустим, мы объясним все это Клапгра и спросим его, подверглись ли инверсии его цветовые квалиа. У него есть три возможных ответа: “Да”, “Нет” и “Я не знаю”. Что он ответит? Если сравнить мою историю о Клапгра со множеством историй об инверсии квалиа, предлагавшихся и во всех деталях обсуждавшихся философами, самым тревожным нововведением станет возможность того, что Клапгра действительно столкнулся с инверсией квалиа, но сам этого не понял. Не забывайте, доктору Хромафилу пришлось предлагать свою гипотезу скептически настроенным коллегам, а Клапгра вполне может разделять их скептицизм. В конце концов, он не только не жаловался на проблемы с цветовыми квалиа (как в стандартных историях), но и убедил себя, что его цветовое зрение в порядке, точно так же, как убедил в этом ученых: успешно справившись со стандартными тестами на цветовое зрение. Эта особенность моей истории должна вызывать некоторый дискомфорт, поскольку в философской литературе господствует мнение, что подобное поведенческое самотестирование не имеет значения: безусловно (динь!), такие тесты вообще не имеют отношения к квалиа. Как правило, считается, что такие тесты вообще не могут пролить свет на природу квалиа. Однако, как показывает моя вариация истории, философы не учитывают, что у кого-то может хотя бы возникнуть искушение опереться на эти тесты, чтобы увериться, что его квалиа не изменились.
Могут ли ваши квалиа оставаться неизменными, пока меняются ваши эмоциональные реакции? Среди философов нет согласия о том, как отвечать на такие дефиниционные вопросы о квалиа. Рассмотрим действие глутамата натрия – усилителя вкуса. Несомненно, с ним вкус пищи кажется лучше и ярче, но меняет ли он квалиа пищи или лишь повышает чувствительность людей к тем квалиа, которые у них уже были? Здесь я призываю к прояснению концепции квалиа, а не пытаюсь найти ответ на эмпирический вопрос о принципе действия глутамата натрия или различиях реакций на глутамат натрия, продемонстрированных испытуемыми, поскольку, пока мы не разберемся с концепциями, любые выводы о лежащих в основе наблюдаемого нервных процессах или гетерофеноменологии предмета будут систематически неоднозначны. Я просто хочу узнать, как философы используют слово “квалиа”: считают ли они все изменения субъективных реакций изменениями квалиа – или же существует некоторое привилегированное подмножество реакций, фактически фиксирующих квалиа? Абсурдна ли идея об изменении эстетического представления человека о конкретном квалиа – или ответа на конкретный квалиа? Пока не будут даны ответы на эти дефиниционные вопросы, термин остается не просто расплывчатым или запутанным – он безнадежно неоднозначен и колеблется между двумя (или более) фундаментально различными идеями.
Подверглись ли инверсии цветовые квалиа Клапгра? Некоторые философы утверждают, что я недостаточно подробно описал его состояние. Я описал его поведенческие компетенции – он правильно узнает, различает и называет цвета, но демонстрирует “неверные” реакции во многих других отношениях, – но не описал его субъективное состояние. Я не сказал, что он испытывает, смотря на спелый лимон: внутренне присущий субъективный желтый или, скажем, внутренне присущий субъективный синий. Но в этом и суть: я подвергаю сомнению предположение, что эти термины вообще обозначают реальные характеристики его опыта. Допустим, я добавлю, что в ответ на этот вопрос Клапгра говорит: “Так как я по-прежнему вижу спелые лимоны желтыми, само собой, мой опыт включает характеристику внутренне присущего субъективного желтого”. Устраивает ли нас такой ответ? Можем ли мы с уверенностью сказать, что он знает, о чем говорит? Стоит ли нам ему поверить – или же он пребывает в плену философской теории, которая не заслуживает его преданности?
Вот главный недостаток философских методов, обычно используемых в подобных случаях: философы склонны предполагать, что все компетенции и диспозиции, демонстрируемые нормальными людьми, скажем, в отношении цветов, формируют монолитный блок, не поддающийся разложению или делению на независимые субкомпетенции и субдиспозиции. Таким образом они успешно избегают необходимости рассматривать вопрос, должны ли квалиа быть привязаны к некоторому подмножеству диспозиций или к конкретной диспозиции. К примеру, философы Джордж Грэм и Терри Хорган (2000, p. 73) говорят о “непосредственном знакомстве с самим характером феномена – знакомстве, которое закладывает эмпирический фундамент для распознавательных и дискриминационных способностей [человека]”. Откуда они знают, что это “непосредственное знакомство” закладывает “фундамент” для распознавательных и дискриминационных способностей? Предполагается, что страдающим от прозопагнозии непосредственно знакомы те лица, которые они видят, или хотя бы “зрительные квалиа” этих знакомых лиц, но при этом больные не могут распознать их как квалиа, проявляющиеся, когда они смотрят на лица друзей и близких. Если снова вернуться к определению Уилфрида Селларса, который сказал, что квалиа – это то, что делает жизнь стоящей, то квалиа, возможно, нельзя считать “эмпирическим фундаментом” нашей способности изо дня в день узнавать, различать и называть цвета.
59. Настроенная колода
В знаменитой статье философ Дэвид Чалмерс (1995) отличает “легкие” проблемы сознания от того, что сам называет (с большой буквы “Т”) Трудной проблемой сознания. “Легкие”, по мнению Чалмерса, проблемы все равно весьма трудны. Вот, например, несколько сложных вопросов о сознании:
1. Как сознание позволяет нам говорить об образах, которые мы видим, звуках, которые слышим, запахах, которые чувствуем, и так далее? (Или – в упрощенном варианте – как информация из тех зон мозга, которые отвечают за восприятие, используется в зонах, отвечающих за язык, для формирования предоставляемых нами отчетов и ответов?)
2. Когда мы выполняем рутинную задачу (с которой можем справиться “едва ли не во сне”), почему сознание включается всякий раз при возникновении проблемы и каким образом оно помогает нам ее решить?
3. Сколько независимо движущихся объектов мы можем одновременно непрерывно отслеживать и как мы это делаем? (Ответ: как минимум четыре. Убедиться в этом можно, посмотрев потрясающую демонстрацию этого феномена, называемого FINST-индексацией, на сайте http://ruccs.rutgers.edu/finstlab/MOT-movies/MOT-Occ-baseline.mov.)
4. Что происходит, когда что-то “вертится у вас на языке” – когда вы знаете, что ответ вам известен и почти можете его озвучить?
5. Почему нужно понимать шутку, чтобы она казалась смешной? (Ответ длиною в целую книгу см. в работе Hurley, Dennett, Adams 2011.)
По словам Чалмерса, эти проблемы относительно легки, поскольку связаны с когнитивными функциями сознания – тем, что мы можем делать, используя непрерывно проистекающие в мозге процессы отслеживания, направления внимания, обработки информации и вызывания ее из памяти. Как бы сложно ни было решить эти проблемы, их решения будут поддаваться проверке и корректировке в ходе экспериментов, и на самом деле мы делаем успехи в отношении “легких” проблем. К примеру, мы в состоянии сконструировать относительно простые компьютерные модели, которые весьма убедительно воспроизводят соответствующие функции, так что мы можем быть уверены, что мозг справляется с ними, не прибегая к магии или чему-либо, не имеющему аналогов в природе. Можно создать робота, демонстрирующего все эти феномены, – если не сегодня, то в обозримом будущем.
Трудной, в представлении Чалмерса, является проблема “опыта” – что значит быть сознательным, – невыразимая, не поддающаяся анализу таковость сознательности. Робот мог бы вести себя так, словно бы он сознателен: отвечать на все наши вопросы, отслеживать все движущиеся объекты, испытывать на себе действие феномена, когда что-то “вертится на языке”, смеяться исключительно впопад и (бессознательно) чувствовать себя растерянным или ошарашенным, – но на самом деле голова у него оставалась бы при этом пустой. Робот был бы зомби, не имеющим ни намека на внутренний мир, свойственный нам с вами – обычным сознательным людям.
Согласно Чалмерсу, бодрствуя, мы с вами, милостивый читатель, понимаем, что мы сознательны. Философский зомби этого не понимает – он никогда не бодрствует и не обладает внутренним миром – он кажется сознательным лишь внешне. Само собой, он убедительно настаивает, что столь же сознателен, как и мы с вами, а если подвергнуть его проверке на детекторе лжи, он прекрасно справится с тестом на искренность, но, будучи зомби, он ошибается! (Зомби также неотличимы от обычных сознательных людей, когда нейробиологи анализируют активность их мозга при помощи фМРТ и тому подобных тестов.) Очевидно, что отличить сознательного человека от зомби – действительно трудная задача (если считать ее задачей вообще). Если же это трудно, то объяснить существование этих различий еще труднее – в этом и заключается Трудная проблема сознания. Некоторые из нас, включая и меня самого, полагают, что Трудная проблема – плод воображения Чалмерса, но другие – и их на удивление много – убеждены, что существует или должна существовать реальная разница между сознательным человеком и совершенным зомби и что эта разница важна.
Позвольте мне рассмотреть эту любопытную ситуацию: некоторые из нас сомневаются в существовании Трудной проблемы, в то время как другие считают нас ненормальными, раз мы вообще позволяем себе в этом усомниться. По их мнению, любому сознательному существу совершенно очевидно и интуитивно понятно его собственное сознание, но это наше удивительное свойство (пока) не поддается научному пониманию, а следовательно, заслуживает называться Трудной проблемой. Сблизить эти альтернативные точки зрения невозможно. Одна из них точно категорически неверна. Я годами пытался продемонстрировать, что, каким бы привлекательной ни казалась эта идея, от нее следует отказаться. Я вполне уверен, что мысль о существовании Трудной проблемы ошибочна, но не могу этого доказать. Более того, даже если бы я мог представить доказательства, они не встретили бы понимания, ибо некоторые философы заверяют меня, что ничто не заставит их пересмотреть свою позицию по этому вопросу, поскольку все настолько очевидно и неоспоримо, что никакой аргумент не может подорвать или сокрушить их доверие к этой идее. В связи с этим я не стану совершать тактическую ошибку и пытаться рациональными доводами опровергнуть убеждение, которое выходит за рамки разумного.
Такое отношение к идее напоминает мне искреннюю убежденность, с которой многие выходят с выступления блистательного фокусника. Любой фокусник знает, что люди склонны раздувать свои воспоминания об удачных фокусах. Испытываемые ими удивление и недоумение делают воспоминания ярче, поэтому они серьезно и искренне настаивают, что увидели нечто большее, чем простой трюк фокусника. Некоторые люди ужасно хотят верить в волшебство. Вспомните замечание Ли Сигела о “настоящей магии”, которое обсуждалось в главе 22, где речь шла о чудо-ткани: “Настоящей магией… называют магию, которая на самом деле не настоящая, а настоящую магию, которую действительно можно творить, настоящей никто не считает”.
Многие считают сознание “настоящей магией”. Если то, о чем вы говорите, не суперархиэкстраультрамегаграндиозно, значит, речь идет не о сознании – не о Тайне За Семью Печатями. Научный журналист Роберт Райт (2000) кратко излагает эту точку зрения:
Само собой, проблема здесь заключается в утверждении, что сознание “идентично” физической активности мозга. Чем больше Деннет и другие пытаются объяснить мне, что они имеют в виду, тем больше я убеждаюсь, что на самом деле они имеют в виду, что сознания не существует. [p. 398]
Любой набор фокусов мозга просто не может быть сознанием – настоящим сознанием. Но даже те, кто не совершает этой опережающей ошибки, часто склонны преувеличивать феномены сознания. (Именно поэтому столько места в моей книге “Объясненное сознание” (1991a) пришлось отвести сжатию, сокращению сознания – настоящего сознания – до его истинных размеров, чтобы продемонстрировать, что феномены сознания на самом деле не столь удивительны, как о них думают. Из-за этого сжатия многие читатели не упустили случая пошутить, что мою книгу стоило назвать “Поверхностно объясненное сознание” или – как предлагает Райт – “Опровергнутое сознание”.) Тем из вас, кто сомневается, что может запутаться в раздутом представлении о сознании, я хочу нанести скользящий удар в надежде уничтожить их самодовольство, проведя замечательную и пугающую параллель с миром карточных фокусов – фокус “Настроенная колода”.
Много лет Ральф Халл – знаменитый повелитель карт из Круксвилла, что в штате Огайо, – поражал не только обывателей, но и начинающих фокусников, карточных мастеров и профессиональных иллюзионистов карточным фокусом, который сам называл “Настроенной колодой”…