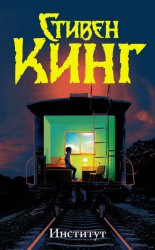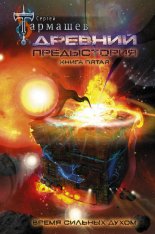Насосы интуиции и другие инструменты мышления Деннетт Дэниел
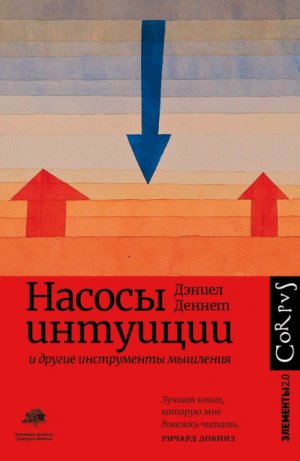
70. Компьютерный шахматный марафон
Ясно мыслить о детерминизме и свободе выбора чрезвычайно сложно. Если детерминизм реален, существует ли вообще реальная свобода выбора? Если агент, якобы обладающий свободой воли, на самом деле детерминистичен и живет в детерминистическом мире, исключает ли это свободу выбора и случай? Далее описывается насос интуиции, который помогает изучить этот вопрос, взглянув на упрощенный мир – игру в шахматы – в искусственно сконструированном детерминистическом мире: мире работы компьютера.
Допустим, вы установили на свой компьютер две разные шахматные программы и связали их с небольшой управляющей программой, которая заставляет их играть друг с другом партию за партией в потенциально бесконечной серии. Станут ли они играть одну и ту же партию снова и снова, пока вы не выключите компьютер? Вы могли бы настроить программы А и Б таким образом, но в таком случае не узнали бы о них ничего интересного. Допустим, А побеждает Б в этой часто повторяемой партии. На основании этого нельзя сказать, что программа А в целом лучше программы Б или что программа А победит программу Б в другой партии, а повторение одной и той же партии не позволило бы вам узнать ничего о сильных и слабых сторонах каждой программы. Гораздо более информативным стал бы турнир, в котором программы А и Б сыграли бы последовательность разных партий. Организовать его несложно. Если любая из шахматных программ в ходе расчетов обращается к генератору случайных чисел (если, например, она периодически “подбрасывает монетку”, чтобы найти выход из ситуаций, где нет очевидного основания для выбора того или иного действия в процессе поиска удачного хода), то в следующей партии состояние генератора случайных чисел будет иным (если только вы не настроили его перезагрузку), а следовательно, будут рассматриваться другие варианты в другом порядке, что время от времени будет приводить к “выбору” других ходов. В результате вторая партия сложится по-другому, а третья будет отличаться иным образом – и в итоге все партии получившейся серии окажутся уникальны, как снежинки. Тем не менее, если вы выключите компьютер, а затем перезапустите его с той же программой, на ваших глазах развернется точно та же серия не похожих друг на друга партий, поскольку та же самая псевдослучайная последовательность чисел будет определять результаты “подбрасывания монетки” обеими шахматными программами.
Допустим, мы создали такую шахматную вселенную с двумя программами, А и Б, и изучаем результаты серии из, скажем, тысячи партий. Мы найдем множество заслуживающих доверия закономерностей. Допустим, мы установим, что программа А всегда побеждает программу Б в тысяче разных партий. Нам захочется объяснить эту закономерность, а фраза “поскольку программа детерминистична, программа А обречена всегда побеждать программу Б” не удовлетворяет нашего небезосновательного любопытства. Нам захочется понять, что в структуре, методах и диспозициях программы А объясняет ее превосходство в шахматах. Программа А имеет компетенцию или способность, которой не хватает программе Б, и нам необходимо изолировать этот любопытный фактор. Возможно, объяснение следует искать на низком уровне: может выясниться, например, что программы А и Б на самом деле одинаковы и на уровне исходного кода представляют собой идентичные оценщики шахматных ходов, но программа А скомпилирована эффективнее программы Б, а потому может лучше анализировать партию за одинаковое количество машинных циклов. Фактически программа А “думает [о шахматах] ровно то же самое”, что и программа Б, а программа Б “знает” о шахматах все, что известно программе А, но программа А просто думает быстрее. (На серьезном уровне, на шахматных турнирах, игра всегда ведется с использованием часов: не успев сделать все ходы за отведенное время, вы проиграете.) Более вероятно, что превосходство программы А над программой Б потребует объяснения на более высоком уровне – на уровне типичных элементов, которые задействуются в процессе принятия решений в шахматах: представлений шахматных позиций, оценок возможных продолжений, решений о выборе конкретных продолжений и так далее. Таким образом, программа А может корректировать относительную ценность фигур по ходу партии, лучше оценивать шахматные позиции либо раньше или позже прерывать определенные изыскания. Она не “думает то же самое”, что и программа Б, она “думает лучше, а ее мысли сложнее”. (Само собой, она лишь вроде как думает. В отличие от человека она не наделена сознанием.)
Пожалуй, случай будет показательнее, если одна из программ не будет побеждать всегда. Допустим, программа А почти всегда побеждает программу Б и при этом оценивает ходы, используя другой набор принципов. В таком случае закономерность окажется еще любопытнее. Чтобы исследовать этот каузальный вопрос, нам нужно будет изучить историю тысячи разных игр, выявляя прочие закономерности. Без сомнения, их найдется много. Некоторые из них будут характерны для шахмат в принципе (например, высокая вероятность поражения программы Б в любой партии, где программе Б недостает одной ладьи), а некоторые будут специфичны для программ А и Б как конкретных шахматистов (например, склонность Б слишком рано вводить в игру ферзя). Мы выявим также стандартные закономерности шахматной стратегии, например тот факт, что, когда время программы Б истекает, она начинает исследовать оставшиеся узлы дерева игры не так внимательно, как исследует их в такой же позиции при наличии большего количества времени. Иными словами, мы обнаружим множество пояснительных закономерностей – как не допускающих исключений (в нашей серии из тысячи игр), так и статистических.
Такие различимые шахматные закономерности сразу бросаются в глаза на фоне торжества детерминизма, которое с позиции микрокаузальности представляется весьма монотонным. Со своей позиции мы наблюдаем за напряженным поединком двух шахматных программ, но при взгляде через “микроскоп” (при наблюдении за инструкциями и данными, проходящими через ЦПУ компьютера) увидим единственный детерминистический автоматон, работающий единственным доступным ему способом. Предугадать его шаги не составляет труда – достаточно изучить, в каком именно состоянии пребывает его генератор псевдослучайных чисел, а также проанализировать структуру программы и данные. В его будущем нет “настоящих” разветвлений и развилок: все “выборы”, совершаемые программами А и Б, заранее предопределены состоянием компьютера и его памяти. Казалось бы, в таком мире по-настоящему возможным нельзя считать ничего, за исключением того, что на самом деле происходит. Допустим, например, что над программой А в момент времени t нависает зловещая матовая сеть (гарантированная победа, распознать которую порой непросто), но все меняется, когда у программы Б заканчивается время и она прерывает свой поиск важного хода чуть раньше, чем необходимо. Получается, что эта матовая сеть не должна была возникнуть. (Если у нас возникают сомнения, мы можем доказать это, проведя точно такой же турнир в другой день. На том же этапе серии у программы Б снова закончится время, из-за чего ей снова придется прервать свои поиски ровно в тот же момент.)
Что же это значит? Неужели в этом модельном мире ничего нельзя предотвратить и ничего нельзя избежать? Неужели в нем нет ни нападений, ни защит, ни упущенных возможностей, ни пикировок истинной субъектности, ни подлинных возможностей? Следует признать, что наши шахматные программы, подобно насекомым и рыбам, слишком просты в качестве агентов, чтобы быть подходящими кандидатами на обладание морально значимой свободой воли, но детерминизм их мира не лишает их разноплановых талантов и способностей пользоваться имеющимися возможностями. Если мы хотим понять, что происходит в таком мире, мы можем – и должны – обсудить, как их осознанный выбор приводит к изменению обстоятельств, а также что они могут и не могут делать. Если мы хотим выявить каузальные закономерности, чтобы объяснить повторяющиеся мотивы, замеченные нами в тысяче партий, нам нужно всерьез рассмотреть позицию, в соответствии с которой в этом мире действуют два агента, А и Б, пытающиеся обыграть друг друга в шахматы.
Допустим, мы настроим турнирную программу таким образом, что при каждой победе А будет звенеть колокольчик, а при каждой победе Б – раздаваться гудок. Когда мы запустим марафон, наблюдатель, не знающий ничего о программе, заметит, что колокольчик звенит довольно часто, а гудок не раздается почти никогда. Наблюдателю захочется узнать, чем объясняется эта закономерность. Закономерность побед А над Б можно выявить и описать, не принимая интенциональную установку, но она все равно потребует объяснения. Единственным – и верным – объяснением может быть тот факт, что генерируемые А “убеждения” о том, что сделает Б, если… оказываются лучше, чем генерируемые Б “убеждения” о том, что сделает А, если… В таком случае, чтобы найти объяснение, необходимо принять интенциональную установку (см. главы 33 и 42, где приводятся примеры других каузальных связей, которые не поддаются объяснению, пока вы не принимаете интенциональную установку).
Пока все идет хорошо, но эти “решения” и “выборы” кажутся лишь вроде как решениями и выборами. Такое впечатление, что им недостает чего-то, что свойственно подлинной свободе выбора: возможности поступить иначе. Но давайте внимательнее изучим конкретный пример, ведь внешность бывает обманчива. Для этого добавим в нашу турнирную программу третью шахматную программу, программу В. Допустим, программа В лучше программ А и Б и побеждает их почти всегда. Также допустим, что первые двенадцать ходов в паре таких партий в точности повторяются и программа В выигрывает обе партии, побеждая и программу А, и программу Б, но после двенадцатого хода партии идут не совсем одинаково. По завершении партий эксперты приходят к выводу, что программа В с большой вероятностью проиграла бы, если бы 12-м ходом, последним общим ходом обеих партий, программа А или программа Б провела бы рокировку. Рокировка 12-м ходом давала ключ к победе, который не заметила ни программа А, ни программа Б.
Пожимая плечами, разработчик программы А говорит: “Программа А могла бы провести рокировку”. Разработчик программы Б добавляет: “Моя программа, программа Б, тоже могла бы провести рокировку”. Но разработчик программы А прав, а разработчик программы Б ошибается! Как такое может быть? Турнирная программа Т детерминистична, и если мы снова сыграем те же партии в точно том же самом состоянии, ни программа А, ни программа Б не проведет рокировку! Разве разработчик программы А не заблуждается? Не обязательно. Что мы пытаемся выяснить, когда спрашиваем, могла ли программа А поступить иначе? Снова и снова рассматривая в точности такой же случай, мы не получим никакой информации, но рассматривая похожие случаи, мы увидим более полную картину. Если мы выясним, что во многих подобных обстоятельствах в других партиях программа А все же продолжает процесс оценки, замечает плюсы подобных ходов и совершает их, это подтвердит убежденность разработчика, что программа А могла бы провести рокировку.
Как минимум, мы можем обнаружить, что переключение единственного бита в генераторе (псевдо) случайных чисел заставило бы программу А провести рокировку. Допустим, разработчик программы А проанализирует фактическое исполнение программы и выяснит, что в этом случае программа А перестала “думать” на мгновение раньше нужного. (Любая шахматная программа, какой бы прекрасной она ни была, вынуждена в какой-то момент принудительно прерывать свои поиски.) Программа А рассматривала возможность рокировки и начала анализировать ее исход, но время поджимало, а потому программа А обратилась к своему генератору случайных чисел, то есть, по сути, подбросила монетку, и выбрала ход, который сочла лучшим на тот момент – и этим ходом стала не рокировка. Но если бы псевдослучайным числом стала единица, а не ноль, программа А подумала бы над своим ходом немного дольше и в итоге провела бы рокировку. “Просто переключите один бит в случайном числе – и программа А победит!” – заявляет разработчик. Мы же скажем, что в таком случае просчет программы А с рокировкой оказался непредвиденным результатом неудачного обращения к генератору случайных чисел.
Когда мы обратимся к разработчику программы Б, он не сможет подобным образом подтвердить свое заявление, что программа Б могла бы провести рокировку. Программа Б действительно “знает”, что рокировка в сложившейся ситуации допустима, и, возможно, даже некоторое время “рассматривала” возможность рокировки, но выбрать рокировку в этом случае даже не собиралась. Рокировка была для нее сложным ходом – одним из тех ходов, которые в газетных шахматных задачах помечают символом “!”, – и выходила далеко за пределы ограниченных аналитических способностей программы Б. Итак, у нас есть полностью детерминистический мир – программа Т, – в котором программа А могла провести рокировку, а программа Б провести ее не могла. Разница между программами А и Б реальна и объяснима – это разница в компетентности или способностях. Можно сформулировать это очевидно парадоксальным образом:
Программа А могла провести рокировку в момент времени t, но во вселенной в момент времени t рокировки произойти не могло.
Что дает нам право так описывать ситуацию? Все просто: если мы считаем программу А отделенной от ее непосредственной среды – куда входит и генератор случайных чисел, – то не предопределено, проведет ли программа А рокировку. Это зависит от того, что, строго говоря, находится за пределами программы А. В момент времени t вселенная пребывала в таком состоянии, которое не допускало проведение рокировки программой А, но программа А в этом “не виновата”. Программа Б, напротив, провести рокировку не могла, потому что рокировка была не в ее природе. Чтобы представить, как программа Б проводит рокировку, нам пришлось бы внести слишком много поправок в реальность.
Это полезное открытие – мы нашли различие между тем, что “могли бы” сделать программы А и Б, которое не зависит от индетерминизма. Даже в детерминистическом мире мы видим, что программа А может делать вещи, которые не может делать программа Б, и это различие отчасти объясняет, почему программа А побеждает программу Б. Тот факт, что в этом мире царит истинный детерминизм, а потому программы А и Б могут делать только то, что они на самом деле делают в конкретном случае (и делали бы снова и снова при повторении точно тех же самых обстоятельств), просто не интересен и не имеет отношения к получаемому нами объяснению совершенно объективной и наглядной закономерности: программа А побеждает программу Б.
Шахматная программа не является моральным агентом и не несет моральной ответственности за свой выбор – ее мир абсолютно аморален, и нарушение одного из шахматных правил для шахматной программы просто немыслимо, а следовательно, не требует штрафов. Однако, как мы только что увидели, даже в простом детерминистическом мире компьютерных шахмат мы можем найти реальное и важное различие между программами А и Б. Порой, когда программа А делает глупость или наоборот поступает мудро, мы можем сказать: “Программа А могла бы поступить иначе, но программа Б иначе поступить не могла”. Если вы считаете это ошибкой, “потому что ни программа А, ни программа Б вообще не могли бы поступить иначе, поскольку мир детерминистичен”, ошибку на самом деле совершаете вы.
Способности программ А и Б к шахматам различаются, и то, “могла ли [каждая из программ] поступить иначе”, прекрасно описывает один из аспектов этого различия. Что насчет их моральной компетентности? Когда люди говорят о других людях, поступивших плохо, что “они могли бы поступить иначе”, и используют это в качестве оправдания, чтобы не прощать их, но при этом соглашаются, что другие люди в подобных обстоятельствах не могли поступить иначе, и тоже оказываются правы – это не зависит от того, истинен ли детерминизм. Они указывают на реальное различие в моральной компетентности, которое не зависит ни от индетерминизма, ни от детерминизма, и этим может объясняться различие нашей реакции.
Чтобы лучше понять это, встанем на место программиста, который разработал программу Б. Он хочет узнать, не нашел ли он слабое место программы Б. Вот партия, в которой не проведенная вовремя рокировка стоила программе Б победы; номогла ли программа Б провести рокировку в нужный момент? Если для этого нужно было только переключить один-единственный бит в генераторе случайных чисел, то, возможно, улучшать программу не требуется. В половине случаев в подобных обстоятельствах программа Б будет проводить рокировку, и, возможно, на большее не стоит и надеяться. Программа всегда должна время от времени использовать случайные числа (будто бы подбрасывая монетку), чтобы прерывать поиск и продолжать партию, а следовательно, всегда будут случаи, в которых случайное число будет обрывать поиск прямо накануне открытия. Обратите также внимание, что ситуация не улучшится, если мы дадим программе Б (или программе А) квантовый генератор случайных чисел, скажем счетчик Гейгера, который выдает биты на основании неопределенных траекторий субатомных частиц. Что бы мы сказали о программе Б, если бы она не провела рокировку из-за единственного нуля, на месте которого могла бы быть единица? Если квантовый генератор чисел выдает ноль, программа Б проводит рокировку; если же он выдает единицу, программа Б не проводит рокировку. “Программа Б могла бы сделать рокировку”, – замечает наблюдатель, когда появляется единица. Да, но программа Б не вольна поступать как ей вздумается. В серии партий, где возникает подобная возможность, в половине случаев программа Б будет проводить рокировку, а в другой половине – не будет, и неважно, использует она при этом генератор “истинно” или “псевдо-” случайных чисел. Философ Дэвид Уиггинс (1973, p. 54) однажды написал о “вселенской несправедливости” детерминизма, но наш насос интуиции о компьютерном шахматном турнире демонстрирует такую же “вселенскую несправедливость” индетерминизма. Программа Б пребывает “во власти” своего генератора случайных чисел или своего генератора псевдослучайных чисел. (Само собой, как и программа А – и как и все мы.) Нет никаких оснований делать выбор в пользу генератора истинно случайных чисел – если только вы не собираетесь играть в шахматы со всесведущим Богом, который насквозь видит ваш генератор псевдослучайных чисел и планирует свои ходы соответствующим образом!
Итак, мы все еще не видим причин желать, чтобы индетерминизм был реален. Возможно, нам достаточно и той свободы воли, которую мы можем получить без вмешательства индетерминизма. Вот другая возможная причина:
Я не могу изменить прошлое, но если индетерминизм реален, я могу изменить будущее!
Нет. Как именно изменить будущее? Сделать его не таким, каким оно собиралось стать, а таким, каким оно собирается стать? Вы не можете изменить будущее точно так же, как не можете изменить прошлое. Эта мысль не выдерживает критики. Тогда:
Если детерминизм реален, я не могу изменить будущее, а если детерминизм нереален, я все равно не могу изменить будущее. Следовательно, я не могу изменить будущее.
Почему кажется, что мы хотим изменить будущее? Потому что мы хотим иметь возможность предвидеть катастрофы и предпринимать какие-то шаги для их предотвращения. И мы можем делать это вне зависимости от индетерминизма. Если кто-то швырнет в вас кирпич, а вы заметите это и пригнетесь, вы сможете избежать удара кирпичом. И это прекрасно. Должно ли было случиться это столкновение? В некотором роде да, ведь кирпич явно летел прямо вам в голову, но вы заметили его (вас заставил заметить его отраженный свет, который вы уловили глазами, после чего ваш мозг рассчитал риск и был вынужден предпринять меры) и потому избежали удара. Само собой, если бы вы хотели избежать избегания (если вы нашли какую-то причину, по которой вам показалось выгоднее принять удар), вы могли бы поступить именно так. Какой-то наблюдатель, возможно, не сумел бы сказать до последней секунды, примете вы удар или нет. И он бы проиграл, если бы сделал ставку на то, что вы пригнетесь. Мы вернулись к нашей причине стремиться к непредсказуемости, которая не требует индетерминизма.
Что дает нам этот насос интуиции? Он берет знакомую фразу “не мог поступить иначе” и показывает, что, вопреки широко распространенному, но плохо взвешенному мнению, ее значимая вариация не зависит от реальности индетерминизма. Даже если какое-то из значений фразы “не мог поступить иначе” несовместимо с детерминизмом и при этом имеет важность с моральной точки зрения – а не представляет собой исключительно метафизический курьез, – его только предстоит обнаружить, после чего бремя доказывания будет лежать на тех, кто так считает. Еще одно “очевидное” соображение при ближайшем рассмотрении оказалось не таким уж и очевидным.
71. Конечная ответственность
Пока что мы рассматривали ситуации элементарного выбора, не предполагающего никакой моральной ответственности: игру в “камень, ножницы, бумагу”, шахматные ходы и уход от удара кирпичом. Возможно, индетерминизм действительно желателен только тогда, когда мы подвергаем анализу наши попытки быть моральными агентами, а не просто интенциональными системами наподобие шахматных компьютеров и выпрыгивающих газелей. Так полагали многие мыслители. По их мнению, описанные ранее упражнения лишь отвлекают от главной проблемы. Ниже приводится четкое изложение того, что ряд мыслителей считает первостепенным. Формулировкой мы обязаны философу Галену Стросону (2010):
1. Вы делаете то, что делаете, в любой рассматриваемой ситуации, поскольку вы такой, какой есть.
2. Следовательно, чтобы нести конечную ответственность за свои действия, вы должны нести конечную ответственность за то, какой вы есть, – по крайней мере, в некотором критически значимом психическом отношении.
3. Однако вы не можете нести конечную ответственность за то, какой вы есть, ни в каком отношении.
4. Следовательно, вы не можете нести конечную ответственность за свои действия.
Первое утверждение неоспоримо: в “то, какой вы есть”, включается и ваше состояние в конкретный момент времени, как бы вы в него ни вошли. Каким бы ни было это состояние, ваши действия вытекают из него обычным, не чудесным образом. Во втором утверждении сообщается, что вы не можете нести “конечную” ответственность за свои действия, если только не несете “конечную” ответственность за то, как вы вошли в это состояние, по крайней мере в некотором отношении. Однако, согласно пункту (3), это невозможно.
Таким образом, кажется, что пункт (4), вывод, логически проистекает из вышесказанного. Несколько мыслителей сочли этот аргумент решающим и важным. Но так ли это на самом деле? Давайте внимательнее рассмотрим пункт (3). Почему вы не можете нести конечную ответственность за то, какой вы есть, хотя бы в некотором отношении? В повседневной жизни мы делаем именно такое различие, и это важно с моральной точки зрения. Допустим, вы проектируете и конструируете робота и отправляете его в мир, где он остается без присмотра и без контроля. Вы прекрасно знаете, на что он способен, и в какой-то момент он наносит кому-то серьезное увечье. Разве вы не несете ответственности за это – хотя бы в некотором отношении? Большинство людей назовут вас ответственным. Это вы сделали робота и должны были предвидеть опасности – и даже предвидели ряд опасностей, – а потому винить за причиненный ущерб, по крайней мере отчасти, тоже следует вас. Мало кто проникся бы к вам сочувствием, если бы вы стали утверждать, что вообще не несете ответственности за ущерб, причиненный вашим роботом.
Теперь рассмотрим немного другой случай: вы проектируете и конструируете человека (себя в будущем) и отправляете себя в полный опасностей мир, прекрасно понимая, с какими угрозами вам предстоит столкнуться. Вы напиваетесь в баре, садитесь в машину и нажимаете на газ. Разве вы не несете ответственности – хотя бы частично – за то, “каким вы были”, когда врезались в школьный автобус? Здравый смысл подсказывает: конечно, вы несете за это ответственность. (Ответственность с вами может делить бармен или чересчур радушный хозяин, в гостях у которого вы пили.) Но как это возможно перед лицом категоричного аргумента Стросона? Не забывайте, Стросон говорит, что вы не можете нести абсолютную ответственность за то, какой вы есть. И что тогда? Кто вообще считает, что важно нести абсолютную ответственность? Такое состояние уж точно невозможно, даже если индетерминизм реален! (Хватит полагать, что этот аргумент дает нам основание надеяться на реальность индетерминизма.) Вот что говорит сам Стросон (2010):
Чтобы нести абсолютную ответственность за свои действия, необходимо быть causa sui, причиной самого себя, а это невозможно (и не было бы возможно, даже если бы мы обладали нематериальными душами, а не были полностью материальны).
Абсолютная ответственность – фальшивка. Это благо, к которому никто не должен стремиться. Стросон (2003) считает иначе и критикует меня за пренебрежение ею:
Он не доказывает существование абсолютной свободы воли и моральной ответственности, в которую хочет верить и верит большинство людей. Доказать это невозможно, и он это знает.
Он совершенно прав: я не доказываю существование такой свободы воли, в которую хочет верить большинство людей, и я это знаю. Но я полагаю, что они ошибаются, если желают верить в ее существование или если действительно верят в него. Стросону и его сторонникам нужно доказать, почему нам в нашей повседневной жизни должно быть дело до конечной ответственности – или до проблемы детерминизма/индетерминизма. Они могут предложить определение такого типа свободы воли, который несопоставим с детерминизмом, и показать, что многие считают это важным, но в то же время им необходимо доказать, что эти многие не заблуждаются. Какое кому до этого дело? (Обратите внимание на мой риторический вопрос. Я специально лезу на рожон, но буду счастлив, если Стросон или еще кто-нибудь вступит в дискуссию и попытается ответить на мой вопрос. Впрочем, пока никто не вызвался.)
Прежде чем закончить с аргументом Стросона, позвольте поинтересоваться, заметили ли вы его поразительное сходство с другим аргументом, рассматривавшимся ранее. Я переформулирую его по аналогии с аргументом Стросона, чтобы сходства стали очевиднее.
1. Млекопитающее является млекопитающим в любом рассматриваемом контексте, поскольку оно такое, какое есть.
2. Чтобы быть млекопитающим, вам необходимо стать таким, какой вы есть, родившись у матери, которая является млекопитающим.
3. Но то же самое должно быть истинным и для вашей матери, и для ее матери – и так далее до бесконечности, а это невозможно.
4. Следовательно, вы не можете быть млекопитающим, поскольку существование млекопитающих абсолютно невозможно.
С такими “наследственными” аргументами всегда надо держать ухо востро. Почти наверняка они оказываются замаскированными вариациями древних ложных заключений, называемых соритами (или “парадоксом кучи”):
1. Одно зернышко пшеницы не является кучей.
2. Если добавить к одному зернышку еще одно зернышко, кучи не образуется.
3. Если добавлять к тому, что кучей не является, по одному зернышку, кучи не получить.
4. Следовательно, куч вообще не существует!
Философы на протяжении тысяч лет писали о парадоксе кучи и проблеме неопределенности терминов (которая и лежит в основе этого парадокса), но до сих пор не найдено способа диагностировать ошибку и научиться ее избегать. (Прекрасное и актуальное исследование по теме см. в онлайн-версии “Стэнфордской философской энциклопедии”.) Немногочисленные отважные философы даже признают сориты состоятельными и пытаются смириться с “фактом”, что в мире нет ни лысых мужчин, ни мужчин, которые лысыми не являются. Отстоять такую точку зрения непросто! Однако, как показано в главе 43, Дарвин научил нас отказываться от соритов: нам нет нужды искать “принципиальную” линию раздела между категориями, выстроенными в наследственном порядке.
Насколько мне известно, я первый обратил внимание на сходство аргумента Стросона – и других аргументов подобного рода, приводимых в литературе о свободе воли, – с парадоксом кучи, но это сходство существует. Думаю, тот факт, что люди принимают на себя моральную ответственность постепенно, в процессе взросления, столь же очевиден, как и постепенное, растянувшееся на целые эпохи перерождение рептилий и терапсид в млекопитающих. Чтобы быть млекопитающим, вам не нужно быть абсолютным млекопитающим; чтобы нести ответственность, вам не нужно нести абсолютную ответственность; а чтобы обладать желаемой свободой воли, вам не нужно обладать абсолютной свободой воли. На самом деле, поскольку абсолютная свобода воли относится к разряду чудес, кто-то должен привести неоспоримый аргумент, показывающий, зачем вообще к ней стремиться. Может, чтобы стать Богом? К несчастью, этого не достичь, но доступного человеку и так вполне достаточно.
72. Сфексовость
Даг Хофштадтер (1982) предложил термин “сфексовость” для знакомой всем механистичной, роботоподобной бездумности, которую часто принимают за великую смышленость. Прекрасный пример сфексичности демонстрируют сфексы – осы, которые ведут себя весьма любопытным образом (название их рода и легло в основу нового термина). Мы с Дагом независимо друг от друга восхитились фрагментом научно-популярной книги “Механика мозга”, написанной Дином Вулдриджем (1963), который следующим образом описал поведение сфексов:
Когда приходит время откладывать яйца, сфекс строит для этой цели гнездо и подыскивает сверчка, которого жалит таким образом, чтобы парализовать, но не убить. Она затаскивает сверчка в гнездо, откладывает рядом яйца, закрывает вход в гнездо и улетает навсегда. В надлежащий срок из яиц вылупляются новые сфексы. Они начинают питаться парализованным сверчком, который не разложился, поскольку содержался в осином эквиваленте глубокой заморозки. С человеческой точки зрения, сложность и кажущаяся целесообразность этой процедуры убедительно свидетельствует о логике и дальновидности сфексов, но только если не вдаваться в детали. К примеру, оса действует следующим образом: она подтаскивает парализованного сверчка к гнезду, оставляет его у входа, заходит внутрь, чтобы удостовериться, что там все в порядке, выходит обратно и затем затаскивает сверчка в гнездо. Если сдвинуть сверчка на несколько сантиметров, пока оса проводит предварительную проверку в гнезде, она подтащит его обратно к входу, но не станет втаскивать внутрь, а вместо этого повторит подготовительную процедуру проверки состояния гнезда. Если сверчка снова сдвинуть, пока оса будет в гнезде, она опять подтащит его к входу и войдет в гнездо, чтобы проверить его в последний раз. Оса не думает, что можно сразу втащить сверчка в гнездо. Один раз эта процедура повторялась сорок раз – и результат оставался неизменным. [p. 82]
Казалось бы, это идеальный пример неидеальной компетентности без понимания, которую мы обнаруживаем, когда разоблачаем поверхностное псевдопонимание второсортной компьютерной программы. Однако недавно мы узнали, что Вулдридж описал феномен упрощенно – как часто делают авторы научно-популярных книг. Психолог Ларс Читтка в письме ко мне привел цитату из работы Жан-Анри Фабра (1879 г.!), очевидно, ставшей источником для Вулдриджа, который узнал бы, что сфексовость характерна лишь для некоторых сфексов, если бы прочитал Фабра дальше! Фабр подробно все описал. Если на первый взгляд кажется, что сфексы умны, на второй – что они глупы, стоит взглянуть на них в третий раз и обнаружить, что некоторые сфексы вообще не проявляют особой сфексовости. Читтка прислал мне немецкий перевод Фабра (я до сих пор не нашел этот текст на французском), в котором есть следующая фраза: Nach zwei oder drei Malen… packt ihre Fhler mit den Kieferzangen und schleift sie in die Hhle. Wer war nun der Dummkopf? (“После двух-трех повторений… она схватила [жертву] за усики своими жвалами и втащила ее в нору. И кто теперь дурак?”)
Итак, прилагательное “сфексовый” немного неточно, но оно уже прижилось, а потому сфексам придется смириться с этим оскорблением. В некотором роде им повезло оказаться в центре внимания неспециалистов, а это, вероятно, может хорошо сказаться на их выживаемости! (Чью среду обитания вы захотите сохранить – среду сфексов или среду заурядниц?) Может, сфексы и не так “харизматичны”, как слоны, тигры или волки, но они довольно известны – благодаря своей проблематичной сфексовости.
Сфексовость важна не столько потому, что ее проявляют (в разной степени) многие интактные, простые животные – насекомые, черви, рыбы, – сколько потому, что она дает нам термин для обозначения ограниченных, автоматизированных, недальновидных компетенций, из которых можно сконструировать более сложное, более разностороннее, способное к пониманию сознание. Кирпичики любой модели сознания должны быть сфексовыми! Или, как я заметил ранее, кирпичики должны быть вроде как сознанием, бледной тенью нашего сознания. Сфексовость также полезна, чтобы отличать морально компетентное сознание от морально некомпетентного. В тех случаях, когда человек проявляет сфексовость, будь то из-за опухоли мозга, травмы мозга, серьезного дисбаланса нейромодуляторов, психической болезни, простого невежества или незрелости, этот человек не мог бы поступить иначе в интересующем нас смысле.
Упорный биолог, мешающий сфексу, чтобы продемонстрировать его сфексовость, представляет собой образец агента-манипулятора, которого мы по праву боимся. Мысленные эксперименты многих философов задействуют именно такого кукловода или подлого нейрохирурга, который втайне запрограммировал кого-то играть себе на руку. По-видимому, мораль этих страшилок в том, что, даже если кукловода на самом деле не существует, тот факт, что наше поведение обусловливается различными характеристиками окружающей среды, анализируемыми нашими системами восприятия и мозгом, показывает, что кукловод с таким же успехом мог бы и существовать. (На обложке небольшой книжечки Сэма Харриса “Свобода воли” [2012] изображены нити марионеток.) Но этот напрашивающийся вывод явно нелогичен. Если “контроль” среды осуществляется с помощью наших отлаженных систем восприятия и незамутненного сознания, бояться нам нечего. На самом деле нам даже в высшей степени желательно, чтобы объекты и события вокруг нас провоцировали наше сознание генерировать истинные убеждения о них, которые мы могли бы использовать для корректировки своего поведения в свою пользу! Фотоны, отскакивающие от полостей в приливной зоне прямо ко мне в глаза, могут заставить меня схватить корзину и грабли и выйти на охоту за моллюсками. Если в этом случае мои действия контролирует среда, я ничуть не возражаю. Как и большинство людей, я не пугаюсь и не чувствую, что мной манипулируют, когда друзья предлагают мне роскошные блюда, прекрасно зная, что я не сумею устоять перед искушением полакомиться.
Встречая в литературе о свободе воли примеры с кукловодом и нейрохирургом, вы также заметите, что вмешательство всегда – всегда – происходит тайно. Почему? Потому что сделать вывод о том, что наша воля не свободна, можно только в том случае, если другой, тайный агент заставляет нас действовать определенным образом, хотя мы сами этого не осознаем. Причину этого долго искать не надо – она отсылает нас к наблюдению, лежащему в основе теории игр: если агент знает о попытке манипуляции со стороны другого агента, он начинает принимать ответные меры и как минимум корректирует свое поведение, чтобы справиться с этим открытием. Конкурентное взаимодействие двух агентов предполагает предоставление обратной связи на множестве уровней, а следовательно, ослабление “контроля” потенциального манипулятора. Если же вмешательство не только не является тайным, но и затребовано “куклой”, ситуация полностью меняется.
Мы можем продемонстрировать это, просто скорректировав стандартные примеры и покрутив регуляторы насосов интуиции. Философ Гарри Франкфурт (1969) сконструировал насос интуиции, где за человеком следит тайно имплантированное устройство нейростимуляции, контролируемое нейрохирургом, который обеспечивает, чтобы человек принимал решения в соответствии с желаниями нейрохирурга. Если вы, будучи этим человеком, выбираете вариант А вместо врианта Б и если именно этого и хотел нейрохирург, он ничего не делает; если же его приборы показывают, что вы собираетесь сделать выбор в пользу варианта Б, он нажимает на кнопку, не позволяя вам выбрать вариант Б, и вы в результате выбираете вариант А. Вы ничего не чувствуете. Был ли ваш выбор свободным в каждом из случаев? За годы философы исписали сотни страниц, рассуждая о многочисленных вариациях “случая Франкфурта”, но, насколько мне известно, один поворот регуляторов никогда не исследовался, хотя он существенно меняет дело. Вот он:
Желая подавить свою страсть к калорийным десертам, вы обратились к хорошему врачу, который имплантировал вам описанное устройство. Вы щедро платите ему, чтобы он следил за каждым вашим приемом пищи и страховал вас от заказа мороженого с шоколадным соусом и чизкейков. Вы оба надеетесь, что ему ни разу не придется нажать на кнопку, и вскоре вы почти забываете, что он или его ассистент всегда находятся рядом с вами в электронном виде. Вы излечились: устройство фиксирует стабильную последовательность сотен случаев выбора в пользу варианта А (“Нет, спасибо, мне только чашку черного кофе”). Если это не примеры вашего ответственного и свободного выбора, то почему? Разве вы не поступили мудро, когда решили подстраховать свою не слишком надежную силу воли?
73. Мальчики из Бразилии: еще один упорный башмак
В 2004 г. психологи Джошуа Грин и Джонатан Коэн написали статью “В глазах закона нейробиология меняет все и не меняет ничего”, которая была опубликована в престижном журнале Philosophical Transactions of the Royal Society. В этой авторитетной статье авторы воображают правовую революцию, вызванную научными открытиями.
Закон гласит, что он допускает не более чем метафизически скромное представление о свободе воли, которое полностью совместимо с детерминизмом. Однако мы утверждаем, что интуитивная поддержка закона в конечном счете основывается на метафизически амбициозном, либертарианском [индетерминистическом] представлении о свободе воли, которому угрожает детерминизм и – более демонстративно – когнитивная нейронаука будущего. [p. 1776]
Их позиция нетривиальна – но так и должно быть, ведь они признают, что существует множество аргументов в поддержку компатибилизма (отстаиваемого мною на этих страницах), но при этом хотят показать, что на самом деле в вопросе о свободе воли “все мы стоим на перепутье”. Они предлагают мысленный эксперимент, который должен продемонстрировать зависимое положение повседневного практического представления об индетерминизме. Обратите внимание, что именно об этом я только что и просил: покажите нам, пожалуйста, что нам должно быть дело до индетерминизма и почему. Их мысленный эксперимент вдохновлен фильмом “Мальчики из Бразилии”, в котором рассказывается о нацистских ученых, растящих клонов Гитлера (созданных с применением сохранившейся ДНК). Вот описание эксперимента:
Допустим, группа ученых сумела создать человека – назовем его Марионеткой, – который по умолчанию втягивается в преступную деятельность: скажем, совершает убийство во время неудачной сделки по покупке наркотиков. [p. 1780]
Вот что они говорят о своем эксперименте:
Да, он столь же рационален, как другие преступники, и да, его действия основаны на его желаниях и убеждениях. Однако эти убеждения и желания были сформированы извне, а потому на интуитивном уровне мы понимаем, что он заслуживает скорее сострадания, чем морального осуждения… Чем мы отличаемся от Марионетки? Очевидно, что Марионетка – жертва коварного заговора, а большинство людей, как мы полагаем, жертвами не являются. Но важно ли это? Мысль о том, что Марионетка не несет полной ответственности, основана на представлении, что его действия были предопределены извне… Но тот факт, что эти силы связаны с желаниями и намерениями коварных ученых не относится к делу, верно? Важно лишь то, что эти силы неподвластны контролю Марионетки и ему не принадлежат. [p. 1780]
Что вы думаете? Подходит ли этот насос интуиции для обозначенной цели? Забавно, что авторы также считают этот вопрос достойным рассмотрения: “Дэниел Деннет может возразить, что история Марионетки – некорректный «насос интуиции»”. О да. На мой взгляд, это упорный башмак. Но они отмахиваются от этого и продолжают: “Нам кажется, что чем больше становится известно о Марионетке и его жизни, тем меньше хочется считать его в полной мере ответственным за свои действия и признавать его наказание самоцелью”.
Давайте внимательнее присмотримся к этому насосу интуиции и покрутим его регуляторы, чтобы разобраться, как он работает. Я предлагаю повернуть четыре регулятора. Во-первых, давайте избавимся от коварного заговора – тем более что сами авторы настаивают, что он не имеет значения. Я удивлен, что они столь беспечно вводят “подлого нейрохирурга” и считают свой шаг совершенно невинным, ведь этот ход оспаривается годами, однако мы можем проверить их убежденность, заменив “группу ученых” “нейтральной средой”:
до: Допустим, группа ученых сумела создать человека – назовем его Марионеткой, – который по умолчанию втягивается в преступную деятельность: скажем, совершает убийство во время неудачной сделки по покупке наркотиков.
после: Допустим, нейтральная среда сумела создать человека – назовем его Марионеткой, – который по умолчанию втягивается в преступную деятельность: скажем, совершает убийство во время неудачной сделки по покупке наркотиков.
Второй регулятор: поскольку заговорщиков больше нет, нужно заменить “по умолчанию” на “с высокой вероятностью”:
до: Допустим, группа ученых сумела создать человека – назовем его Марионеткой, – который по умолчанию втягивается в преступную деятельность: скажем, совершает убийство во время неудачной сделки по покупке наркотиков.
после: Допустим, нейтральная среда сумела создать человека – назовем его Марионеткой, – который с высокой вероятностью втягивается в преступную деятельность: скажем, совершает убийство во время неудачной сделки по покупке наркотиков.
Третий регулятор: я хочу изменить мотивацию преступления – пусть это будет убийство, но в других обстоятельствах. (Это ведь не должно играть роли?)
до: Допустим, группа ученых сумела создать человека – назовем его Марионеткой, – который по умолчанию втягивается в преступную деятельность: скажем, совершает убийство во время неудачной сделки по покупке наркотиков.
после: Допустим, нейтральная среда сумела создать человека – назовем его Марионеткой, – который с высокой вероятностью втягивается в преступную деятельность: скажем, совершает убийство, чтобы замести следы растраты имущества.
Четвертый регулятор: давайте изменим имя злоумышленника. В конце концов, это всего лишь имя.
до: Допустим, группа ученых сумела создать человека – назовем его Марионеткой, – который по умолчанию втягивается в преступную деятельность: скажем, совершает убийство во время неудачной сделки по покупке наркотиков.
после: Допустим, нейтральная среда сумела создать человека – назовем его Автономом, – который с высокой вероятностью втягивается в преступную деятельность: скажем, совершает убийство во время неудачной сделки по покупке наркотиков.
На какие мысли вас теперь наталкивает этот насос интуиции? На те же самые? Вы склоняетесь к состраданию или к осуждению? Возможно, нам помогут дополнительные детали. Вот моя редакция насоса интуиции Грина и Коэна:
Автоном изучал экономику в Гарварде и после получения диплома устроился на работу в банк Lehman Brothers, где оказался в среде людей, которые обманывали систему и сколачивали огромные состояния. Он влюбился в падкую на роскошь сердцеедку, которая пригрозила бросить его, если он не разбогатеет в ближайшем будущем. Он заметил, что можно организовать практически незаметную растрату и почти наверняка не попасться на этом, а потому осознанно рискнул, но – увы! – вопреки всем ожиданиям нашелся свидетель, который совершенно напрасно встал слишком близко к ограждению сада на крыше… а потом “оступился” – ой! – и разбился насмерть при падении с высоты. Возникли подозрения, и вскоре Автонома взяли под арест.
Вы по-прежнему склоняетесь к мысли, что он “не в полной мере ответственен” за свои действия, потому что эти действия были предопределены извне? Даже если вам по-прежнему хочется считать Автонома жертвой своей (роскошной) среды, я полагаю, вы согласитесь, что это желание сильно притупилось, а возможно, и вовсе стало лишь отголоском прошлого. (А может, я просто умело поиграл с вашими чувствами, рассчитывая на ваше кровожадное стремление наказать алчных типов с Уолл-стрит за их роль в экономическом спаде.) Я не утверждаю, что мои вариации доказывают, что люди несут или могут нести ответственность за свои действия, даже если эти действия были предопределены извне; я просто говорю, что конкретно этому насосу интуиции верить ни в коем случае нельзя, поскольку (доступные, разрешенные) повороты регуляторов слишком сильно влияют на наши суждения. Возможно, его создали не для того, чтобы напустить туману, однако он явно не способствует ясности мышления.
Резюме
Людям очень важно обладать свободой воли, но в то же время складывается впечатление, что они не слишком хорошо понимают, что такое свобода воли и какой она может быть (подобно тому, как они не слишком хорошо понимают, что такое цвет и сознание). Наши решения не маленькие чудеса, которые происходят в мозге, нарушая законы физики и химии, управляющие остальными процессами в наших телах, хотя многие и считают, что только таким образом наши решения могут быть истинно свободными. Однако мы не можем на основании этого заключить, что не обладаем свободой воли, поскольку такое дикое представление о свободе воли все же не единственное. Закон – и здравый смысл – различает подписание договора “по собственной воле” с подписанием договора под давлением или под влиянием галлюцинаций или других психических расстройств. Это знакомое нам представление о свободе воли, обусловленное множеством практик и взглядов, составляющих нашу манифестную картину мира, не проявляет зависимости от описанного выше дикого представления.
Сотни лет некоторые философы настаивали, что важно именно такое представление о свободе воли, что только оно для нас и значимо, ведь оно полностью совместимо с детерминизмом, материализмом, а также законами физики и химии. Описанные в этом разделе насосы интуиции и другие инструменты мышления призваны поддержать и углубить понимание этого учения, именуемого компатибилизмом. За годы было предложено немало вариаций на тему компатибилизма – и, пожалуй, с ним согласны не только философы, но и судьи, юристы и другие люди, вынужденные определять, кто и за что несет ответственность, а также кто от ответственности освобождается, поскольку действовал не по собственной воле. Некоторые ученые сегодня бросают вызов этим представлениям – и, возможно, не зря. Давайте внимательно рассмотрим их аргументы.
Возможно, наука учит нас чему-то радикальному, даже революционному: что никто и никогда не несет ответственности за свои действия и нет никаких оснований считать одни поступки достойными похвалы, а другие – заслуживающими порицания. Но столь революционный вывод требует гораздо больше добросовестного внимания к деталям, чем проявляют оглашающие его ученые. Подлый нейрохирург искалечила пациента, не используя ничего, кроме ложной идеи, а ошибочные взгляды влиятельного ученого могут лишить людей обоснованного и улучшающего жизнь представления о свободе воли. В этом вопросе всем следует проявлять особенную осторожность.
Несмотря на свою популярность среди философов, компатибилизм всегда вызывал подозрения. Как известно, Иммануил Кант назвал его “гнусной уловкой”, и сегодня многие авторы сомневаются в искренности тех, кто его отстаивает. На самом деле все так и должно быть. Наука учит нас с особенной осторожностью относиться к самообману, и многие правила научных изысканий созданы как раз для того, чтобы не позволять нам предаваться надеждам, когда свидетельства кажутся нам вполне убедительными. Представьте, что одни астрономы объявят, что через десять лет на нашу планету упадет гигантский астероид, который уничтожит все живое, а затем другая группа астрономов скажет, что мы можем спать спокойно, поскольку они заново проанализировали данные и пришли к выводу, что астероид пройдет в непосредственной близости от Земли, но столкновения не случится. Конечно, это хорошая новость, но как нам знать, что вторая группа астрономов не заблуждается – или не вводит нас в заблуждение своей ложью во спасение? Снова и снова проверяйте их расчеты, стройте собственные модели – только не принимайте на веру их вывод просто потому, что он не содержит очевидных ошибок и приходится вам по душе. Но также не забывайте, что они могут оказаться правы. Не совершайте другую ошибку и не ставьте под сомнение – на “общих основаниях” – то, что кажется “слишком хорошим, чтобы быть правдой”.
Не слишком ли хорош компатибилизм, чтобы быть правдой? На мой взгляд, нет. Я считаю, он и есть правда, а потому мы можем с полным правом отмахнуться от паникеров, в то же время корректируя и пересматривая наше понимание основ концепции моральной ответственности. Но это задача на будущее – и в одиночку с ней не справиться. Насколько я вижу, это самая сложная и самая важная философская задача, стоящая перед нами сегодня. Ставки высоки, вопросы щекотливы, а чувства нередко мешают нам мыслить здраво. Нам понадобятся все имеющиеся у нас инструменты мышления – и не только. Новые инструменты придется создавать по ходу дела.
IX.
Что значит быть философом?
Стоя слишком близко, сложно понять, что перед нами. Философы, ученые и художники давно стараются “делать привычное странным”. В последние годы я меньше, чем раньше, общался с другими философами, но при этом больше общался с учеными и прочими мыслителями. Но я по-прежнему философ (что бы ни говорили некоторые философы!) и с удовольствием объясняю нефилософам, в чем польза философии. Тем, кто совсем далек от философии, она часто кажется нелепостью – прекрасным образчиком бесполезного ума. Кое-чего они не замечают (вспомните закон Старджона: 90 процентов чего угодно – полное дерьмо, а значит, они не замечают оставшихся 10 процентов). За пятьдесят лет я успел неплохо познакомиться с философией, а теперь, проводя немало времени вдали от философии, я также хорошо вижу ее странности. Некоторые из моих друзей и коллег-ученых признаются, что не понимают, почему я не брошу все и не пополню их ряды. Краткий ответ таков: раздвигая границы, я сумел взять лучшее от обоих миров. Работая с учеными, я купаюсь в изобилии любопытных и проблематичных фактов, о которых можно мыслить, но оставаясь философом без лаборатории и гранта на исследование, я размышляю обо всех теориях и экспериментах, не пачкая рук. Как поется в одной из моих любимых песен Гершвина, это “непыльная работенка”.
Мне кажется, что в последнее время ученые, к счастью, уделяют философам больше внимания и относятся к ним с большим уважением, чем раньше, и особенно это видно в сфере моей специализации – философии сознания, где когнитивная наука исследует почти те же самые феномены, над которыми веками размышляли философы, а именно восприятие, память, значения, волеизъявление и сознание. И философы – некоторые из них – заслужили внимание, изучая соответствующие научные открытия и помогая прояснять и углублять научные исследования, а также находить лучшие способы объяснять получаемые результаты далеким от науки людям. Однако между лагерями ученых и философов по-прежнему нередко возникает недопонимание, в связи с чем я хочу коснуться нескольких различий в подходах, чтобы наладить лучшее взаимодействие в будущем.
74. Сделка с дьяволом
Несколько лет я задавал своим коллегам-философам такой вопрос: если бы Мефистофель предложил вам два следующих варианта, что бы вы выбрали?
(А) Вы решаете серьезную философскую проблему по своему выбору так убедительно, что пресекаете все дальнейшие разговоры на эту тему (благодаря вам этот сектор философии закрывается навсегда, и ваше имя входит в историю).
(Б) Вы пишете книгу такой поразительной запутанности и противоречивости, что она на века остается в списке литературы для обязательного чтения.
Некоторые философы неохотно признаются, что выбрали бы вариант (Б). Если бы им пришлось выбирать, они предпочли бы, чтобы их читали, а не чтобы они оказались правы. Подобно композиторам, поэтам, писателям и другим людям искусства, они хотят, чтобы к их работе снова и снова обращались миллионы (а по возможности и миллиарды!) людей. Но они также тянутся в сторону научного познания. В конце концов, предполагается, что философы должны стремиться к истине.
Когда я задаю тот же вопрос ученым, они без колебаний склоняются к варианту (А) – им на этот счет и думать нечего. Узнавая, что многим философам, ряд которых несколько смущенно склоняется к варианту (Б), этот выбор дается не без труда, ученые с удивлением (или отвращением?) качают головой. Но такая реакция ученых показывает, что они упускают из виду важную мысль, озвученную Николасом Хамфри (1987) (см. главу 48):
В “Двух культурах” Ч. П. Сноу восславил великие открытия науки как “научного Шекспира”, но в одном он в корне ошибся. Пьесы Шекспира принадлежали Шекспиру – и никому больше, в то время как научные открытия, напротив, не принадлежат – в конечном счете – никому.
Если бы Шекспира не существовало, никто бы не написал “Гамлета”, “Ромео и Джульетту” и “Короля Лира”. Если бы Ван Гога не существовало, никто бы не написал “Звездную ночь”. Возможно, я несколько преувеличиваю, но в этом что-то есть. В творениях великих людей искусства есть индивидуальность, которая не только редко встречается, но и совершенно не имеет значения в науке. Знаменитые споры о первоочередности научных открытий и сражения за Нобелевскую премию так жестоки именно потому, что кто-то еще мог бы сделать ровно то же открытие, к которому стремились вы, и если бы вы стали вторым, о признании вам не стоило бы и мечтать. В искусстве таких столкновений не случается, поскольку им правят другие принципы.
Некоторые ученые мечтают добиться высокой читаемости и угодить читателям. Работы лучших из них имеют немалую литературную ценность. Здесь на ум приходят книги Дарвина. Но на первом месте всегда стоит задача разложить все по полочкам и убедить читателей в открытой истине – это очевидно, если сравнить “Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль»” Дарвина с “Моби Диком” Мелвилла. Из “Моби Дика” можно многое узнать о китах и китобойном промысле, однако перед Мелвиллом не стояла задача написать интересный и убедительный справочник китобоя.
Держа в уме различие между задачами науки и искусства, я предлагаю ученым ответить на вопрос, который действительно сопоставим с вопросом, обращенным к моим коллегам-философам: если бы Мефистофель предложил вам два следующих варианта, что бы вы выбрали?
1. Вы побеждаете в гонке за совершение открытия, которое становится основой для огромной экспансии научного знания (и получаете за это Нобелевскую премию), но впоследствии становится понятно, что это открытие, как выразился Хамфри, на самом деле никому не принадлежит. (Здесь вспоминаются Крик и Уотсон: если бы они не победили в гонке в тот момент, несомненно, вскоре это удалось бы Лайнусу Полингу или еще кому-нибудь.)
2. Вы предлагаете такую оригинальную, такую немыслимую до вас теорию, что ваша фамилия становится нарицательной, но ваша теория оказывается по большей части неверной, хотя и продолжает годами – и даже столетиями – рождать важные споры. (Здесь мне на ум приходят картезианский дуализм о сознании, теория эволюции Ламарка, бихевиоризм Скиннера и представления Фрейда обо всем – от младенческой сексуальности и неврозов до искусства, музыки и литературы.)
Более удачным, хотя и менее известным примером варианта (2) могут служить амбициозные труды Декарта по физике, которые были настолько весомы и настолько неверны, что стали в итоге провокацией для Исаака Ньютона, намеренно назвавшего свой революционный труд (написанный в 1687 г.) “Математическими началами натуральной философии”, чтобы его заглавие перекликалось с “Первоначалами философии” Декарта (1644 г.) и не возникало сомнений, какое представление о мире Ньютон намеревается изменить. Не стоит забывать и о лингвистике Хомского. Она явно проходит проверку на оригинальность. Как было при победе яхты “Америка”, которая дала имя Кубку “Америки”, когда Хомский появился на сцене, соперников на горизонте было не разглядеть. В последующие годы изначальное теоретическое зерно – “трансформационная” теория, изложенная в “Синтаксических структурах” Хомского (опубликованных в 1957 г.), – было в основном забыто и сменилось разнообразными потомственными теориями, столь же отличавшимися от своего общего предка, как страусы, колибри и альбатросы отличаются от динозавров, от которых они произошли. Значит ли это, что Хомский в 1957 г. совершил плодотворную ошибку, или же он скорее (динь!) открыл великую истину? Ответ “да” подходит здесь как нельзя лучше.
Мы уважаем ученых, совершающих полезные ошибки, – вспомните Вольфганга Паули, который, как известно, презрительно отозвался о работе одного теоретика, сказав, что она “даже не ошибочна”. Но, если бы вам пришлось выбирать, променяли ли бы вы возможность стать первым и правым на шанс оказаться оригинальным и провокационным? Решить не так-то просто, правда?
75. Философия как наивная автоантропология
Исследователь искусственного интеллекта Патрик Хейс однажды занялся проектом по аксиоматизации наивной (или народной) физики жидкостей. Идея заключалась в том, чтобы наделить робота установками, которые понадобились бы ему в качестве основных убеждений, если бы ему пришлось взаимодействовать с людьми (которые каждый день опираются на народную физику). Это оказалось сложнее, чем предполагал Хейс, и он написал о проекте любопытную статью под названием “Манифест наивной физики” (Hayes 1978). В наивной физике жидкостей все, что кажется наивным людям противоречащим здравому смыслу, конечно же, отвергается: сифоны “невозможны”, как и пипетки, но жидкость можно вытереть махровым полотенцем, а воду из колодца – выкачать с помощью вакуумного насоса. Наделенный таким набором “знаний” робот, как и любой из нас, удивился бы, впервые увидев сифон в действии. Я бы назвал проект Хейса продвинутой наивной физикой, поскольку Хейс не питал иллюзий и прекрасно понимал, что теория, которую он пытается аксиоматизировать, неверна, но весьма полезна в повседневной жизни. Можно также назвать его попытку упражнением в аксиоматической антропологии: рассматривая представления, разделяемые людьми, в качестве аксиом и теорем, он пытался упорядочить получаемый набор данных и разрешить все противоречия. Само собой, он не привлекал к сотрудничеству информаторов, отталкиваясь от мысли, что сам знает наивную физику жидкостей не хуже любого обычного человека, а следовательно, сам был своим единственным информатором и занимался аксиоматической автоантропологией[82].
Теперь сравним проект Хейса с философскими проектами по аналитической метафизике, которые часто кажутся мне наивной наивной автоантропологией, поскольку складывается впечатление, что участники этих исследований убеждены, что их проект действительно открывает истину, а не просто озвучивает то, что считает истинным конкретный подкласс людей (англоязычные философы со склонностью к аналитической метафизике). В остальном проекты кажутся идентичными: собранные представления, разделяемые разными людьми, проверяются в ходе глубоких размышлений, а после этого результаты складываются в связную “теорию”, основанную на “полученных” принципах, которые в идеале приравниваются к аксиомам. Я спросил нескольких специалистов по аналитической метафизике, могут ли они отличить свой проект от наивной наивной автоантропологии своего клана, но пока не получил ни одного убедительного ответа.
Альтернативой ей служит продвинутая наивная антропология (как авто-, так и гетеро-) – то есть антропология, которая не выносит суждений о том, заслуживают ли доверия выведенные в ходе работы теоремы, – и этот проект вполне осуществим и часто полезен. На мой взгляд, именно к нему стоит обратиться специалистам по аналитической метафизике, поскольку он требует лишь минимальной корректировки их методов и лишь одного существенного изменения их raison d’tre: они должны отказаться от своих претензий и признать, что их исследования лучше всего считать рекогносцировкой ландшафта манифестной картины мира, не предполагающей ни веры, ни неверия, как это происходит, когда антропологи изучают экзотическую культуру (“давайте на время сделаем вид, что аборигены правы, и посмотрим, что из этого выйдет”). Поскольку, на мой взгляд, во многом задача философии состоит в налаживании взаимодействия между манифестной и научной картинами мира, философам не помешает проанализировать, с какими народными представлениями они имеют дело, прежде чем приступать к построению и критике своих теорий.
Одна из уникальных черт продвинутой наивной антропологии – ее открытость для парадоксальных открытий. Пока вы занимаетесь наивной антропологией, парадоксальность (для аборигенов) играет против вашей реконструкции, но когда вы переключаетесь и начинаете спрашивать, какие из аспектов наивной “теории” истинны, парадоксальность перестает быть недостатком и даже при случае становится признаком значительного прогресса. В конце концов, парадоксальные результаты приветствуются и в остальной науке.
Одна из слабостей автоантропологии состоит в том, что собственные представления человека подвержены искажению под влиянием его теоретических склонностей. Лингвистам прекрасно известно, что они так погружены в свои теории, что не могут быть надежными источниками интуитивных лингвистических представлений. Правда ли можно сказать по-английски: The boy the man the woman kissed punched run away (“Мальчишка, которого ударил мужчина, которого поцеловала женщина, убежал”), – или же мои представления о построении предложений обманывают мое “ухо”? Сырые, неискушенные представления лингвистов обременены таким количеством теории, что лингвисты понимают, что искать интуитивные лингвистические представления следует у нелингвистов. В последнее время к тому же приходят и философы, проявляющие энтузиазм по отношению к экспериментальной философии (см. Knobe and Nichols 2008). Это направление только зарождается – и первые шаги не слишком впечатляющи, – однако философы хотя бы начинают понимать, что больше нельзя объявлять утверждения очевидно истинными, просто потому что они кажутся совершенно очевидными им самим. (В том же ключе Хейс, возможно, удивился бы, познакомившись с основными положениями народной физики, если бы провел интервью со случайной выборкой людей, вместо того чтобы считать свой случай показательным.)
Итак, вот какой продвинутой наивной антропологией стоит заняться философам, чтобы провести исследование здравого смысла или манифестной картины мира, прежде чем строить свои теории о знании, правосудии, красоте, истине, нравственности, времени, каузации и подобных вещах, чтобы удостовериться, что они анализируют и аргументируют темы, которые действительно значимы для остального мира – как в научном, так и в обывательском представлении. В результате такого систематического анализа появится своеобразный каталог нереформированного концептуального ландшафта, ставящего задачи теоретикам, – если угодно, метафизика манифестной картины мира. Именно здесь философам и нужно установить соответствие с последними инновациями научной картины мира, а потому наличие подробной карты этого народного ландшафта совсем не повредит. Можно сказать, что это вторая половина реформы, которая превратила философию науки из кабинетной фантазии в серьезное партнерство с настоящей наукой, когда философы науки решили, что им действительно нужно познать современную науку изнутри. Размышляя о наших философских задачах с такой позиции, мы видим, что немалая доля неформального труда, лавирования, приведения контрпримеров и подпитки интуиции на страницах философских журналов представляет собой – в лучшем случае – попытку прийти к приемлемому консенсусу об этой территории.
76. Махматные истины высшего порядка
Рассмотрим следующую шахматную задачу[83]. Мат белыми в два хода.
Эта задача была недавно опубликована в Boston Globe и привлекла мое внимание, поскольку я был уверен, что доказана невозможность поставить мат одиноким конем (и королем, конечно). Я ошибался: как недавно заметил в письме ко мне Дэвид Мусяловски, доказано, что нельзя поставить мат, если на доске остались только король противника и ваши король и конь. Тот факт, что утверждение о невозможности поставить мат одиноким конем и королем не является шахматной истиной, представляет собой шахматную истину высшего порядка.
Традиционно философия считается априорной дисциплиной наравне с математикой или хотя бы опирается на априорную методологию, и это имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это позволяет философам не просиживать часами в лаборатории и не проводить полевых исследований, а также не требует от них знакомства с техниками сбора данных, статистическими методами, географией, историей, иностранными языками, эмпирической наукой и прочими областями знания, что дает им достаточно времени для оттачивания своих философских навыков. С другой стороны, как часто отмечается, философию можно создать из чего угодно, и это не всегда хорошо. Для молодых читателей, подумывающих о карьере в этой сфере – а я надеюсь, такие среди вас есть, – эта глава послужит предупреждением, что свобода и абстрактность философии могут быть ее слабостями. Для неспециалистов эта глава также станет путеводителем по особенностям и ловушкам философии.
Рассмотрим в качестве образца априорной истины шахматную истину. Люди играют в шахматы – и это эмпирический факт. Существует также множество других эмпирических фактов о шахматах, о том, как люди играли в них веками, как часто они использовали красивые резные фигуры, расставленные на инкрустированных досках, и так далее. Никакое знание этих эмпирических фактов не играет незаменимой роли в установлении априорных истин о шахматах, которых также немало. Вам необходимо знать лишь правила игры. Существует ровно двадцать разрешенных первых ходов (шестнадцать ходов пешек и четыре хода слонов); королем и одиноким слоном – а также королем и одиноким конем – не поставить мат одинокому королю, и так далее. Устанавливать эти априорные истины о шахматах порой непросто. Задача доказать, что в шахматах возможно, а что невозможно, весьма сложна, и ошибки вполне вероятны. К примеру, несколько лет назад компьютерная шахматная программа обнаружила матовую сеть – гарантированную или вынужденную победу, – состоящую из более чем двухсот ходов без взятий. В результате оказалась опровергнута устоявшаяся шахматная “теорема” и пришлось менять правила игры. Ранее ничья (пат) объявлялась после пятидесяти ходов без взятий с каждой из сторон, но после обнаружения этой длинной непрерывной матовой сети, приводящей к победе, правило о пате после пятидесяти ходов стало безосновательным. (До того как компьютеры начали играть в шахматы, никто и представить себе не мог, что такая длинная серия ходов вообще может привести к гарантированной победе.) Все это весьма интересно, и многие умные люди посвятили себя изучению системы априорных шахматных истин[84].
Некоторые философские исследовательские проекты – или проблемы, если вам угодно, – напоминают попытку установить шахматные истины. Существует – и редко обсуждается – набор общепринятых правил, а из этих правил выводятся следствия, которые затем формулируются, выставляются на дебаты и корректируются. Пока все понятно. Шахматы – серьезный и важный человеческий артефакт, о котором написано немало ценных трудов. Однако некоторые философские проекты напоминают попытку установить махматные истины. Махматы во всем похожи на шахматы, только король в них может двигаться на две, а не на одну клетку в любом направлении. Я только что придумал эту игру, хотя и не сомневаюсь, что кто-нибудь уже успел ее изучить и выяснить, заслуживает ли она внимания. Вероятно нет. Вероятно, ее называют иначе. Я не стал задаваться этими вопросами, потому что на них можно найти ответы, но это не стоит моего времени и сил. По крайней мере, мне так кажется. Априорных истин в махматах столько же, сколько и в шахматах (целая бесконечность), и установить их столь же нелегко. Это значит, что если люди действительно займутся установлением махматных истин, то ошибок им будет не избежать, а эти ошибки нужно будет исправлять, что откроет целую новую область априорных исследований, область махматных истин высшего порядка, например:
1. Предложенное Джонсом (1989) доказательство махматной истины p несовершенно, поскольку он не учитывает следующей возможности…
2. Утверждение Смита (2002) о несовершенстве доказательства Джонса (1989) предполагает истинность леммы Брауна (1975), которая была недавно поставлена под сомнение Гарфинклем (2002)…
И это не игрушки. При установлении махматных истин высшего порядка можно продемонстрировать выдающиеся способности. Здесь уместно вспомнить афоризм психолога Дональда Хебба:
Если нет смысла браться за работу, нет смысла и делать ее хорошо.
Пожалуй, любой философ сразу вспомнит об идущем в философии споре, участники которого лишились бы работы, если бы неукоснительно следовали завету Хебба, но не стоит и сомневаться, что мы не сумеем принять единогласное решение о том, какие из споров пора прекратить. Вероятно, в нашей широкой дисциплине не найдется такого исследования, которое хотя бы одна школа мысли не считала бы бесполезной растратой гениальности по пустякам. Голосованием ничего решить не получится, а диктаторский подход будет и того хуже, так что пусть цветет вся тысяча цветов. Но не забывайте, что 995 цветов из этой тысячи рано или поздно завянут. Предупреждаю вас: постарайтесь не посвящать ценные годы в начале своей карьеры исследованиям, которые ведутся не слишком долго. Философские поветрия меняются очень быстро, а простое правило не лишено достоверности: чем горячее тема, тем быстрее она выгорает.
Чтобы проверить, не является ли философский проект попыткой установить махматные истины высшего порядка, нужно посмотреть, интересуются ли им специалисты из других областей. Можно ли заставить кого-нибудь, кто не имеет отношения к академической философии, озаботиться вопросом, опровергает ли контрпример Джонса принцип Смита? Кроме того, можно попробовать объяснить концепцию непосвященным студентам. Если они ее не “поймут”, вам стоит задуматься, не идете ли вы в артефактную ловушку вслед за замкнутым сообществом экспертов.
Вот как может работать эта ловушка. Философия в некоторой степени противоестественна, и чем умнее вы, тем больше сомневаетесь, понимаете ли вы ее, “правильно ли все делаете”, есть ли у вас талант к этой дисциплине и даже стоит ли ею вообще заниматься. Подающий надежды студент Джонс, как полагается, не уверен, стоит ли ему обратиться к философии. Заинтересовавшись лекцией профессора Брауна, Джонс решает попробовать себя в этом деле, пишет статью на горячую тему H и получает пятерку у профессора Брауна. “У вас талант, Джонс”, – говорит Браун. Похоже, Джонс только что нашел себе дело жизни. Он начинает изучать правила этой конкретной игры и увлеченно играет в нее с другими молодыми учеными. “Смотри-ка, у нас получается!” – говорят они, подначивая друг друга. Сомнения в допущениях, лежащих в основе теории, подавляются или отбрасываются “чисто теоретически”. Публикуются статьи.
Не рассчитывайте, что одобрение однокурсников или любимых преподавателей поможет вам решить этот вопрос. Все они заинтересованы в том, чтобы исследования продолжались. Они знают, что делать, и добиваются успехов. Такая проблема возникает и в других сферах, причем решить ее порой еще сложнее. Бывает, что экспериментаторы, которые овладевают одной техникой и оснащают дорогую лабораторию всем необходимым для проведения конкретных экспериментов, в итоге заполняют пробелы в матрицах данных, уже не вызывающих ни у кого интереса. Что им делать? Выбросить всю дорогущую технику? Это может стать проблемой. Переквалификация философов гораздо проще и дешевле. В конце концов, наша “подготовка”, как правило, не сопряжена с высокими технологиями. В основном мы учимся ориентироваться в различной литературе и овладеваем техниками, которые уже использовались и проверялись ранее. Здесь стоит избегать такой опасности: вы замечаете, что авторитетный ученый опубликовал неаргументированный или сомнительный довод – любопытная, но не безупречная статья профессора Весельчака кажется вам легкой мишенью, идеальной для первой публикации. Дерзайте. Вы заметили это наряду с десятком других читателей статьи, и вам следует быть осторожным, поскольку к тому моменту, когда вы все сошлетесь друг на друга и ответите на ответы, вы станете экспертом по реакциям на незначительное преувеличение Весельчака. (И не забывайте, что если бы Весельчак не переборщил со смелостью своего заявления, он вообще не привлек бы к своей статье достаточного внимания, а к провокациям склонны не только студенты, мечтающие заявить о себе.)
Некоторым людям достаточно найти группу умных единомышленников, чтобы делить с ними “радость открытий, сотрудничества и согласия”, как однажды выразился в опубликованной лекции философ Джон Остин (1961, p. 123). Этим людям неважно, стоит ли изучения та тема, которой они занимаются вместе. Если же интерес к ней проявляет достаточное количество человек, это само по себе становится феноменом, достойным изучения. Философ Бертон Дребен говорил студентам Гарварда: “Философия – это мусор, но история мусора – это наука”. Однако один мусор важнее другого, и тяжело решить, какой именно мусор заслуживает изучения. В другой лекции, опубликованной в той же книге, Остин (1961) выдал такой исполненный презрения перл:
Среди присутствующих на лекции нередко бывают те, кто предпочитает, чтобы вещи имели важность, и теперь специально для них – если таковые есть в этом зале – я сделаю выжимку. [p. 179]
Остин был блестящим философом, но большинство подающих надежды философов, которые вращались рядом с ним и, без сомнения, посмеивались над этой ремаркой, исчезли без следа, а их ну очень умные труды по философии обыденного языка (это направление фактически основал Остин) сначала исправно публиковались, а через несколько лет стали намеренно игнорироваться. Такое случалось не раз.
Так что же вам делать? Предложенные мною проверки – посмотреть, можно ли заинтересовать вопросом специалистов из других областей или непосвященных студентов, – дают лишь предупредительные сигналы, но не окончательные ответы. Определенно, существовали – и будут существовать – крайне невразумительные и сложные области философии, исследовать которые стоит, несмотря на то что непосвященные ими не заинтересуются. Я вовсе не хочу препятствовать исследованиям, которые бросают вызов стандартным представлениям об интересном и важном. Напротив, совершая смелые ходы, вы почти всегда сначала будете сталкиваться с недоверием и презрением, но это не повод опускать руки. Я лишь хочу сказать, что не стоит примыкать к какой-либо стороне просто потому, что вы нашли прекрасных попутчиков, которые считают ваши труды по теме столь же важными, сколь важными вы считаете их работы. Возможно, вы все водите друг друга за нос.
77. 10 процентов хорошего
Итак, если закон Старджона работает в философии точно так же, как и в любой другой области, что же я считаю хорошим? Прежде всего, классика стала классикой не без причины. Стандартный набор теорий, которые изучаются в рамках истории философии, от Платона до Рассела, стабильно выдерживает проверку временем, а лучшая литература об этих первоисточниках тоже имеет немалую ценность. Самостоятельно читать Аристотеля, Канта и Ницше без всякой подготовки весьма полезно, но гораздо больше вы получите, если обратитесь за поддержкой к тем, кто всю жизнь занимался изучением философии этих мыслителей.
Не все историки философии ставят перед собой одни и те же цели и руководствуются одинаковыми принципами, и лично я не вижу оснований давать отвод хоть кому-то из них. Некоторые считают, что мыслителей следует помещать в исторический контекст, в котором они писали, а это предполагает, к примеру, изучение науки семнадцатого века, если вы действительно хотите понять Декарта, и политической истории семнадцатого и восемнадцатого веков, если вы действительно хотите понять Локка и Юма, а также, конечно, философии их менее прославленных современников. Зачем изучать неудачников? Причина есть. Я не ценил по достоинству многих художников шестнадцатого и семнадцатого века, пока не посетил европейские музеи и не увидел целые залы второсортных картин тех же жанров. Если вы видите только лучшее – так случается во вводных курсах и ведущих музеях, – вам очень сложно понять, насколько оно хорошо. Чем отличается хорошая библиотека от прекрасной? В хорошей библиотеке собраны все хорошие книги. В прекрасной библиотеке собраны все книги. Если вы действительно хотите понять великого философа, вам придется выделить время на изучение идей его не столь великих современников и предшественников, которые остались в тени настоящих мастеров.
Другие специалисты лишь слегка касаются исторического контекста, в котором работали их герои, и вместо этого показывают, как применить их идеи сегодня. В конце концов, Лейбниц написал “Монадологию” не чтобы создать образчик рационализма семнадцатого века, а чтобы докопаться до истины. Если уж на то пошло, вы не воспринимаете философа всерьез, пока не задаетесь вопросом, прав ли он. Студенты философии – как и профессора – порой забывают об этом и слишком много внимания уделяют навешиванию ярлыков и “выявлению сходств и различий” между теориями, что нередко приходится делать на экзаменах. Бывает, такую цель перед собой ставят целые кафедры философии. Но это не философия, а оценка философии. Вот как я помогаю моим студентам отказаться от этой привычки:
Вы раскрыли страшную тайну – скажем, заговор с целью уничтожить статую Свободы или вывести из строя национальную электросеть. Вы изо всех сил стараетесь собрать и упорядочить как можно больше свидетельств, а затем сочиняете письмо, используя все свое красноречие. Вы отправляете копии этого письма в полицию, ФБР, The New York Times и на CNN, а в ответ получаете: “Очередная теория заговора – сколько их расплодилось после 11 сентября!” А еще: “Увлекательное чтиво – и в некотором роде правдоподобное, а детали просто великолепны”. И наконец: “Напоминает Дона Делилло с элементами Пинчона”. А-а-а! Сосредоточьтесь! Я пытаюсь сказать вам правду! Уважайте философа, труд которого вы читаете, спрашивая о каждом предложении и абзаце: “Верю ли я этому, а если нет, то почему?”
Помимо истории философии, внимания заслуживают великолепные труды по философии науки – математики, логики, физики, биологии, психологии, экономики, политологии. Работ по философии химии, астрономии, геологии и инженерии почти не существует, однако есть хорошие исследования о концептуальных проблемах, возникающих в этих областях. Есть также этика. В 1971 г. Джон Ролз опубликовал “Теорию справедливости” – выдающуюся работу, которая открыла плодотворную эпоху для философов, подходящих к традиционным вопросам этики с оглядкой на социальные науки, в частности экономику и политологию, но также биологию и психологию. Во многом благодаря Ролзу философы, занимающиеся этикой, вышли на новый уровень и создали множество ценных философских работ, заслуживающих и получающих внимание исследователей других дисциплин, а также политиков и общественных критиков.
Наконец, есть философы, которые далеки от междисциплинарности и лишь косвенно опираются на историю науки, специализируясь на современных проблемах, возникающих в работах других современных философов. Некоторые из их трудов, как я уже заметил, попадают под правило Хебба: если нет смысла браться за работу, нет смысла и делать ее хорошо. Но другие труды прекрасны и ценны. На страницах этой книги я упоминал немало современных философов, а я не стал бы упоминать о них, если бы не считал их идеи достойными внимания, особенно если я утверждаю, что они совершают ошибку. Я также восхищаюсь работой нескольких десятков других философов, но перечислять их поименно я не буду! Несколько раз в своей карьере я полагался на суждение коллеги, который говорил мне не тратить время на работу X, потому что это полная бессмыслица, а позднее оказывалось, что я зря не уделял внимания мыслителю, имеющему ценные идеи, тем самым не позволяя ему вовремя направить мою мысль в нужном направлении из-за неудачного совета. Я прекрасно понимаю, с какой легкостью заинтересованные мыслители могут отказаться от изучения идей философа, который не попадет в мой список, а потому прошу вас считать эту книгу введением в некоторые способы философствования. Если же они покажутся вам бесполезными, используйте их в качестве трамплина для начала собственных исследований вопросов и ответов, которые так долго занимают такое множество мыслителей.
X.
Используйте инструменты. Старайтесь.
“Это непостижимо!” – восклицают некоторые, сталкиваясь с “тайной” сознания или, скажем, с утверждением, что жизнь зародилась на этой планете более трех миллиардов лет назад без помощи какого-либо разумного творца. Когда я слышу это, мне так и хочется сказать: “Само собой, для вас это непостижимо. Вы отбросили все инструменты мышления и даже не стараетесь ничего постичь”. Вспомните заявление Уильяма Бэтсона о непостижимости материальной основы генов. Сегодня даже школьники без особого труда постигают ДНК – и дело не в том, что они умнее Бэтсона. Дело в том, что за последнее столетие мы создали и доработали инструменты мышления, которые существенно облегчают эту задачу. Само собой, есть люди, которые просто не хотят постигать такие вещи. Они стараются защитить все тайны от любой попытки объяснения, боясь, что это объяснение уничтожит их прелесть.
Проявляя любознательность, другие люди выясняют, что фраза “пути Господни неисповедимы” – прекрасный антиинструмент мышления. Намекая на то, что вопрошающий высокомерен и несдержан, она мгновенно подавляет любое любопытство. Когда-то она прекрасно работала и по-прежнему работает в сообществах, где незнание науки простительно или даже предпочтительно. Я полагаю, что нам пора перестать считать это “богоугодное” наблюдение мудростью и признать его откровенно оборонительной пропагандой, какой оно и является. Конструктивный ответ на него может быть таким: “Прекрасно! Я люблю загадки! Может, сумеем решить и эту? Есть идеи?”
Постигать новое непросто – для этого недостаточно быстро ознакомиться с идеей и тотчас расписаться в ее правильности. То, что кажется нам непостижимым, вполне может стать довольно очевидным, если мы поработаем подольше. Когда мы с уверенностью называем некоторые вещи поистине невозможными – самое большое простое число, плоский треугольник, сумма углов которого составляет более ста восьмидесяти градусов, или женатого холостяка, – дело не в том, что мы не можем их постичь, а в том, что мы постигли их компоненты так хорошо, что невозможность их соединения стала для нас очевидной.
Пока мы не сумели полностью постичь, как смысл существует в материальном мире, как зародилась и развивалась жизнь, как работает сознание и наделены ли мы свободой воли, но мы делаем успехи: вопросы, которые мы задаем и обдумываем сегодня, гораздо лучше вопросов прошлых лет. Ответы на них не за горами.
XI.
Что осталось за кадром
Некоторые читатели ранних версий этой книги удивились и расстроились, не обнаружив в ней ряда самых известных из моих насосов интуиции. На этих страницах не описано несколько десятков насосов, включая некоторые из моих любимых. В нескольких случаях это заслуживает объяснения.
Пожалуй, самым известным из моих насосов интуиции можно признать мысленный эксперимент “Где я?”», но именно из-за его известности я и не стал включать его в эту книгу. Он впервые был описан в книге “Мозговые штурмы” в 1978 г., а в 1981 г. был включен в книгу “Глаз разума”. Эти работы были переведены на десяток языков, а сам эксперимент входил во многие антологии. В фильме “Жертва мозга” (1988) содержится получасовая инсценировка эксперимента (и сам я играю тело будущего Деннета). Небольшая сценка также включена в документальный фильм BBC о сознании и мозге, выпущенный в 1981 г. В 1984 г. эксперимент также был инсценирован куклами яванского театра теней под управлением прославленного кукольника Линн Джеффрис в Гарвардском Loeb Theater. Google не оставляет сомнений, что найти описание этого эксперимента не представляет труда – вместе со множеством комментариев.
“Баллада о пиццерии Шейки” (см. Dennett 1982a) неплохо справляется с развенчанием некоторых представлений о “понимании de re и de dicto”, которые некогда господствовали среди философов, работающих над интенциональностью, но более не были знакомы никому. Если бы я включил ее в эту книгу, мне пришлось бы сначала расписать любопытную, но неверную логику мышления, чтобы затем искоренить ее при помощи моего насоса интуиции. Некоторые философы должны прекрасно в этом разбираться, но остальные могут без потерь оставаться в блаженном неведении.
В разделе об эволюции я неохотно оставил за кадром мой любимый новый насос интуиции “Дарвинистские пространства” Питера Годфри-Смита – лучшее, на мой взгляд, применение многомерного пространства в качестве инструмента мышления в философии, – потому что для его эффективной работы потребовалось бы слишком подробное описание эволюционной теории и биологических феноменов. Я объясняю его техническим языком для других философов биологии и привожу прекрасные примеры его использования в своей рецензии “Гомункулы у руля” (2010) на книгу Годфри-Смита “Популяционное мышление и естественный отбор” (2009). См. также ответ Годфри-Смита (2010).
В моем эссе “Куайнирование квалиа” (1988a) я описываю целых четырнадцать насосов интуиции, призванных прояснить и затем опровергнуть безнадежно запутанную философскую концепцию квалиа. В эту книгу вошел лишь один из них, “Проклятие цветной капусты”. Он помогает мне ввести понятие и познакомить читателей с серьезной проблемой квалиа. Я рекомендую прочитать “Куайнирование квалиа” всем тем, кто по-прежнему считает концепцию квалиа (как ее называют философы) состоятельной. Эссе не раз включалось в разные антологии и доступно в интернете на нескольких языках. В моей книге “Сладкие сны” (2005b) содержатся другие аргументы и насосы интуиции по теме. Среди других насосов интуиции о сознании можно выделить “амнестический кураре” в эссе “Почему нельзя создать компьютер, чувствующий боль” (Dennett 1978c), “Болотная Мэри и робот Мэри” в эссе “Что знает робот Мэри” (Dennett 2007d), а также “оруэлловскую и сталинскую” модели сознания в книге “Объясненное сознание” (Dennett 1991a). Все они требуют более тщательной подготовки мизансцены, чем я мог себе позволить, ибо мне не хотелось, чтобы эта книга не стала слишком длинной.
Я также не включил сюда насосы интуиции для мышления о религии, которые предложил в эссе “Рассеивая чары” (Dennett 2006a), и мой пример с Суперменом, подправляющим сланцы Бёрджесс, приведенный в книге “Наука и религия. Совместимы ли они?” (Dennett, Plantinga 2011).
Приложение
Решения задач о регистровых машинах
программа 1:
а. Сколько шагов потребуется регистровой машине, чтобы сложить 2 + 5 и получить 7, выполняя программу 1 (считая Кон отдельным шагом)?
Ответ: шесть шагов. Три декремента, два инкремента, одно окончание программы (последний декремент – переход на ноль).
б. Сколько шагов потребуется машине, чтобы сложить 5 + 2?
Ответ: двенадцать шагов. Шесть декрементов, пять инкрементов и одно окончание программы.
1(Какой из этого можно сделать вывод?)
Ответ: порядок содержимого может иметь большое значение, так что вам может показаться необходимым ввести правило всегда помещать меньшее число в регистр 1, но, если для этого вам сначала придется сравнивать два числа, чтобы выяснить, какое из них меньше, в итоге вам потребуется больше шагов, чем для сложения!
а. Напишите РПА-программу для этого графа потока. (Обратите внимание: поскольку программа разветвляется, вы можете пронумеровать шаги несколькими способами. Неважно, какой из них вы выберете: главное, чтобы на верные следующие шаги указывали команды безусловного перехода.)
б. Что происходит, когда программа пытается вычесть 3 из 3 или 4 из 4?
Программа останавливается с нулем в регистре 4.
в. Какая возможная ошибка предотвращается обнулением регистра 3 перед попыткой вычитания на шаге 3 вместо шага 4?
Если на старте и в регистре 1, и в регистре 2 были нули, в конце программа могла выдать абсурдный ответ (либо – 0, либо число, отличное от 0 и 1, в регистре знака).
а. Нарисуйте граф потока (и напишите РПА-программу) для умножения содержимого регистра 1 на содержимое регистра 3, поместив ответ в регистр 5.
б. (По желанию) Используя копирование и перемещение, улучшите программу умножения, созданную в задаче а: когда она закончит работу, изначальное содержимое регистра 1 и регистра 3 восстановится, так что вы сможете легко проверить исходные данные и ответы на правильность по завершении программы.
в. (По желанию) Нарисуйте граф потока и напишите РПА-программу, которая изучает содержимое регистра 1 и регистра 3 (не разрушая их!) и записывает адрес (1 или 3) регистра с большим содержимым в регистр 2 или помещает 2 в регистр 2, если содержимое регистров 1 и 3 равно. (После выполнения этой программы содержимое регистра 1 и регистра 3 должно остаться неизменным, а регистр 2 должен показывать, равно ли их содержимое, а если нет, то в каком из регистров содержимое больше.)
Нарисуйте граф потока и напишите РПА-программу, которая превращает регистровую машину в простой карманный калькулятор, следующим образом:
а. Используйте регистр 2 для операции:
0 = ADD
1 = SUBTRACT
2 = MULTIPLY
3 = DIVIDE
б. Поместите числа, с которыми будут производиться манипуляции, в регистры 1 и 3.
(Таким образом, 3 0 6 будет означать 3 + 6; 5 1 3 будет означать 5–3; 4 2 5 будет означать 4 * 5; а 9 3 3 будет означать 9 3.) Затем поместите результаты операции в регистры 4–7, используя регистр 4 для знака (где 0 означает +, а 1 означает –), регистр 5 для численного ответа, регистр 6 для возможного остатка в случае деления, а регистр 7 для сообщения об ошибке ввода (либо требовании делить на ноль, либо неопределенной операции в регистре 2).
Источники
Мысленные эксперименты об эксцентричном тюремщике и драгоценностях в урне взяты с переработками из Elbow Room (Dennett 1984a).
1. Глава “Совершая ошибки” сначала была статьей “How to Make Mistakes” (Dennett 1995b).
2. Глава “На основе пародии” ранее не публиковалась.
3. Глава “Правила Рапопорта”. В печатном виде я впервые перечислил эти правила в своих рассуждениях о книге Докинза “Бог как иллюзия” в работе Free Inquiry (Dennett 2007a).
4. Глава “Закон Старджона”. Закон обсуждался в статье “Holding a Mirror up to Dupr” (Dennett 2004).
5. Глава “Бритва Оккама” ранее не публиковалась.
6. Глава “Метла Оккама”. На многих сайтах создание этого термина приписывается Сиднею Бреннеру. Судя по всему, он не публиковал ничего на эту тему.
7. Глава “Использование обывателей в качестве ложной аудитории” ранее не публиковалась.
8. Глава “Выпрыгивание” включает материал из статьи “I Could Not Have Done Otherwise – So What?” (Dennett 1984b).
9. Глава “Три вида гулдинга” основана на работах “Confusion over Evolution: An Exchange” (Dennett 1993) и “Shall We Tango? No, But Thanks for Asking” (Dennett 2011b).
10. Глава “Оператор «безусловно»” выросла из ремарок в работе “Get Real” (Dennett 1994a).
11. Глава “Риторические вопросы” ранее не публиковалась.
12. Глава “Что такое глубокость?” основана на материале из работы “With a Little Help from My Friends” (Dennett 2000).
13. Глава “Убийство на Трафальгарской площади” взята из работы “Three Kinds of Intentional Psychology” (Dennett 1981).
14. Глава “Старший брат из Кливленда” взята из работы “Brain Writing and Mind Reading” (Dennett 1975).
15. Глава “Мой папа – врач” взята из книги Content and Consciousness (Dennett 1969).
16. Глава “Манифестная и научная картина мира” содержит материал из работ “Expecting Ourselves to Expect” (Dennett 2013b); “Sakes and Dints” (Dennett 2012) и “Kinds of Things” (Dennett 2013c). Дискуссия о муравьедах и птицах взята из книги Elbow Room (Dennett 1984a).
17. Глава “Народная психология” взята из работы “Three Kinds of Intentional Psychology” (Dennett 1981).
18. Глава “Интенциональная установка” взята из работы “Intentional Systems” (Dennett 1971) и книги The Intentional Stance (Dennett 1987), а также содержит материалы из множества других книг и статей.
19. Глава “Личностное и субличностное” взята из книги Content and Consciousness (Dennett 1969).
20. Глава “Каскад гомункулов” основана на материалах из книги Brainstorms (Dennett 1978) и статьи на Edge.org (Dennett 2008), впоследствии опубликованной в сборнике What Have You Changed Your Mind About (Brockman 2009).
21. Глава “Оператор «вроде как»” ранее не публиковалась, но затрагиваемые в ней темы развиваются в работе “Turing’s ‘Strange Inversion of Reason’” (Dennett 2013e).