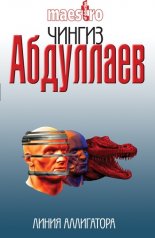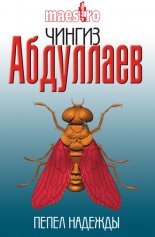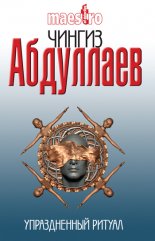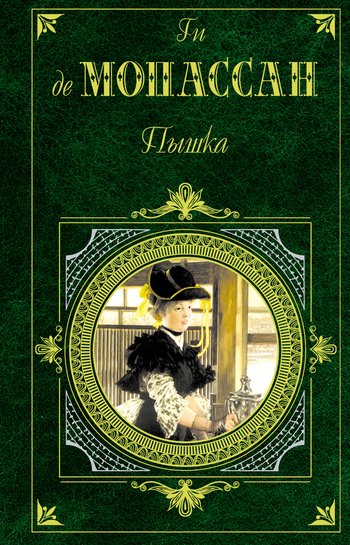Невинный, или Особые отношения Макьюэн Иэн

Но ничего не случилось. Шкаф был двустворчатый. За одной дверцей, плотно закрытой, находились ящики. Другая – за ней было отделение с вешалками, где стоя мог поместиться человек, – оказалась чуть приоткрытой. Кто-то открыл защелку. Это было большое латунное кольцо, при повороте которого выдвигался покосившийся язычок. Леонард протянул к нему руку. Они по-прежнему слышали дыхание. Ошибки быть не могло. Им не придется посмеяться над собой через две минуты. Там был человек, и он дышал. Леонард взял кольцо большим и указательным пальцами и поднял его без единого звука. Не выпуская кольца, чуть отодвинулся назад. Что бы ни случилось, ему нужно пространство. Чем больше расстояние, тем больше у него будет времени. Эти геометрические соображения возникали в уме маленькими, плотно спрессованными пакетами. Времени для чего? Этот вопрос тоже был словно увесистый камешек. Он сжал кольцо сильнее и рывком распахнул дверь.
Там ничего не было. Только чернота диагоналевого костюма и волна запаха, исторгнутая движением дверцы, запах перегара и маринованного лука. Потом лицо, почти у пола: человек сидел, подтянув к себе колени, и спал. Пьяным сном. От него пахло пивом и водкой и то ли луком, то ли Sauerkraut[35]. Рот его был открыт. Вдоль нижней губы тянулся беловатый налет, рассеченный в центре, под прямым углом, большой черной ссадиной с запекшейся кровью. Лихорадка или след от удара другого пьяницы. Они отступили назад, чтобы не так шибало в нос сладковатой вонью.
– Как он сюда попал? – прошептала Мария. Потом ответила себе сама: – Наверное, взял запасной ключ. Когда был здесь в последний раз.
Они смотрели в шкаф. Страх понемногу отступал. Вместо него рождалось отвращение и чувство, что их оскорбили, осквернили их домашний очаг. В этой замене было мало хорошего. Не так Леонард ожидал встретить врага. Теперь он мог оценить его. Голова у Отто была маленькая, волосы, поредевшие на макушке, песочного или грязно-табачного цвета, с зеленоватым оттенком у корней – такую масть Леонард часто замечал у берлинцев. Нос был крупный и вялый. На его крыльях, под тугой лоснящейся кожей, краснели лопнувшие сосуды. Только руки производили впечатление силы – почти багровые, костистые, с выпирающими суставами. Маленькая голова, узкие плечи. Конечно, он сидел скорчившись, но Леонард все яснее начинал видеть в нем карлика, забияку и карлика. Угроза, которая от него исходила, то, как он избил Марию, – все это преувеличило его значение. Раньше Отто представлялся ему матерым солдатом, ветераном войны, с которым трудно было схватиться хотя бы из-за разницы в возрасте.
Мария толчком закрыла дверцу. Они потушили свет в спальне и вышли в гостиную. Они были слишком возбуждены, чтобы садиться. В голосе Марии зазвенела горечь, какой Леонард еще никогда не слышал.
– Он сидит на моих платьях. Он изгадит их.
Это не приходило Леонарду на ум, но теперь, после ее слов, показалось едва ли не самой важной проблемой. Как предотвратить это новое оскорбление? Вытащить его, отнести в туалет?
– Как нам от него избавиться? – сказал Леонард – Можно вызвать полицию, – В его мозгу промелькнула отчетливая картина: двое полицейских вытаскивают Отто из квартиры, а их вечер идет своим чередом после успокаивающей порции джина и нескольких веселых шуточек.
Но Мария покачала головой.
– Они его знают, даже угощают пивом. Они не придут, – Она говорила рассеянно. Пробормотала что-то по-немецки и отвернулась, потом передумала и повернулась снова. Хотела заговорить, но смолчала.
Леонард еще не расстался с надеждой спасти вечер. Надо было всего-навсего избавиться от пьяного.
– Я могу стащить его вниз по лестнице, выкинуть на улицу. Он наверняка даже не проснется…
Рассеянность Марии постепенно переходила в гнев.
– Что он делает в моей спальне, в нашей спальне? – сердито спросила она, точно это Леонард привел его туда. – Почему ты об этом не думаешь? Зачем он спрятался в шкаф? Ну-ка, скажи, как по-твоему?
– Не знаю, – сказал он, – Мне сейчас все равно. Я хочу только убрать его…
– Тебе все равно! Ты не хочешь об этом думать, – Она внезапно села на один из кухонных стульев – тот, что стоял около груды обуви, наваленной у сапожной колодки. Схватив оттуда пару туфель, она надела их.
Леонард понял, что между ними вот-вот вспыхнет ссора. И это в день помолвки. Он ни в чем не виноват, а они ссорятся. По крайней мере она.
– Зато мне не все равно. Я была замужем за этим скотом. Мне не все равно, когда я ложусь с тобой в постель, а эта скотина, этот кусок дерьма прячется в шкафу. Я его знаю. Понятно тебе?
– Мария…
Теперь она повысила голос:
– Я его знаю, – Она пыталась зажечь сигарету, но у нее ничего не выходило.
Леонарду тоже хотелось курить. Он попробовал успокоить ее:
– Перестань, Мария…
Она наконец раскурила сигарету и затянулась. Это не помогло ей, она по-прежнему едва удерживалась от крика.
– Не говори со мной в таком тоне. Я не хочу, чтобы меня утешали. И почему ты так спокоен? Почему ты не злишься? За тобой подглядывают в твоей собственной спальне. Тебе бы мебель крушить. А ты что делаешь? Чешешь в затылке и говоришь, что не худо бы вызвать полицию!
Ему казалось, что все ее упреки справедливы. Он не знал, как полагается реагировать, даже не думал об этом. Он был слишком неопытен. Она старше, она побывала замужем. Значит, вот как надо вести себя, если обнаружишь кого-то в спальне. И все же ее слова раздражали его. Она обвиняла его в том, что он не мужчина. Он взял сигареты. Достал одну. Она по-прежнему нападала на него. Половина ее речи была немецкой. Она сжимала зажигалку в руке и вряд ли заметила, что он отнял ее.
– Это ты должен кричать на меня, – сказала она. – Он мой муж, ведь так? Тебе что, ни капельки не обидно?
Это переполнило чашу. Он набрал в грудь сигаретного дыма и исторг его обратно вместе с криком:
– Замолчи! Заткнись, черт возьми, хоть на минуту!
Она мгновенно умолкла. Они оба умолкли. Они курили. Мария сидела на стуле. Он отошел от нее подальше, насколько позволяли размеры крохотной комнатки. Скоро она взглянула на него и примирительно улыбнулась. Он сделал вид, что не замечает этого. Раз она хотела, чтобы он на нее рассердился, пусть теперь немного потерпит.
Она принялась старательно тушить сигарету и заговорила, не поднимая на него взгляда:
– Я скажу тебе, почему Отто там. Скажу, чего он хочет. Хорошо бы мне этого не знать, это очень противно. И все же… – Ее голос зазвучал увереннее. У нее имелась своя теория, – Когда с ним только познакомишься, Отто добрый. Так было до тою, как он запил, семь лет назад. Сначала он добрый. Делает все, чтобы тебе угодить. Так было, когда я за него вышла. А потом замечаешь, что его мягкость – это стремление взять верх. Он видит в тебе свою собственность, ему все время кажется, что ты заглядываешься на других мужчин, а они на тебя. Он стал ревновать, бить меня, сочинять всякие дурацкие истории обо мне и других мужчинах, его знакомых или просто людях с улицы, неважно. Он вечно подозревал меня в чем-то. Считал, что я переспала с половиной Берлина, а остальные ждут своей очереди. И пил еще больше. А теперь, через столько лет, я вижу вот это.
Она привстала, чтобы взять новую сигарету, но ее передернуло, и она села обратно.
– Я и другой мужчина – он хочет этого. Злится, но хочет. Ему хочется увидеть меня с другим, хочется или самому говорить об этом, или чтобы я говорила. Это его возбуждает.
– Значит… значит, он извращенец, – сказал Леонард. Он впервые произнес это слово. И был доволен собой.
– Правильно. Он узнаёт про тебя – тут он меня и ударил. Потом уходит и думает об этом, не может не думать. Все его бредовые фантазии стали явью, теперь это реальность. Он думает и пьет, и все это время у него где-то лежит ключ. А сегодня он напивается больше обычного, приходит сюда и ждет…
Мария была готова заплакать. Леонард пересек комнату и положил руку ей на плечо.
– Он ждет, но нас нет, и он засыпает. Может быть, он хотел выскочить, когда… это будет, и обвинить меня в чем-нибудь. Он все еще считает, что я принадлежу ему, что я должна чувствовать себя виноватой…
Слезы мешали ей говорить. Она полезла в карман за платком. Леонард достал свой, большой, белый, и дал ей. Высморкавшись, она глубоко вздохнула.
Леонард открыл было рот, но она его перебила:
– Я его насквозь вижу, эту подлую дрянь.
Тогда он сказал то, что собирался сказать:
– Я пойду посмотрю.
Он вошел в спальню и включил свет. Чтобы открыть гардероб, ему пришлось закрыть за собой дверь в комнату. Отто был на прежнем месте. Его поза не изменилась. Мария окликнула Леонарда из гостиной. Он приоткрыл дверь в спальню на дюйм-другой.
– Все в порядке, – сказал он. – Я просто смотрю.
Он снова перевел взгляд на Отто. Что ни говори, а Мария выбрала этого человека себе в мужья. Вот к чему все сводилось. Пусть она теперь утверждает, что ненавидит его, но она его выбрала. А потом выбрала Леонарда. Проявление тех же вкусов. И он, и Отто – оба показались ей привлекательными, и это их объединяло, что-то общее в характере, внешности, судьбе, неважно что. Теперь он действительно разозлился. Своим выбором она связала его с этим человеком, от которого сейчас хочет отделаться. Она заявляет, что это была чистая случайность, словно она тут ни при чем. Но этот подонок у них в спальне, в гардеробе – спит пьяный, того и гляди испакостит одежду, и все из-за выбора, который она сделала. Да, теперь он был по-настоящему зол. Отто – ее крест, ее ошибка, он принадлежит ей. А у нее хватило наглости ругать его, Леонарда.
Он потушил свет в спальне и снова вышел в гостиную. Ему хотелось уйти. Мария курила. Она неуверенно улыбнулась.
– Извини, что я на тебя накричала.
Он взял сигареты. В пачке осталось только три. Когда он бросил ее обратно, она соскользнула на пол и упала рядом с обувью.
– Не сердись на меня, – сказала она.
– Ты же сама этого хотела.
Удивленная, она подняла глаза.
– Ты и впрямь злишься. Иди сядь. Скажи, в чем дело.
– Не хочу я садиться. – Ему уже нравилось разыгрывать оскорбленного. – Твоя семейная жизнь с Отто еще продолжается. Там, в спальне. Поэтому я злюсь. Либо мы обсудим, как от него избавиться, либо я возвращаюсь домой, а вы можете жить дальше.
– Жить дальше? – Ее акцент придавал знакомым словам странное звучание. Вложить в них угрозу не получилось, – О чем ты говоришь?
Ее реакция, в которой было больше ответного гнева, чем покорности, вызвала у него раздражение. Ведь он же терпеливо перенес ее вспышку.
– Я говорю, что, если ты не хочешь помочь мне от него избавиться, можешь провести остаток вечера с ним. Поболтать о старых временах, допить вино, на здоровье. А я пас.
Она положила ладонь на свой прекрасный высокий лоб и обратилась в другой конец комнаты к воображаемому свидетелю.
– Ушам своим не верю. Он ревнует. – Потом к Леонарду: – И ты тоже? Как Отто? Хочешь уйти домой и оставить меня с этим человеком? Хочешь сидеть дома и представлять Отто со мной, а может, ты даже ляжешь на кровать и станешь думать о нас…
Это привело его в ужас. Он был искренне возмущен, не понимал, как женщина может говорить такое.
– Ты просто бредишь. Только что я предлагал вытащить его на улицу и бросить там. Но тебе больше нравится сидеть тут, сообщать мне трогательные подробности о его характере и рыдать в платочек.
Она скомкала платок и швырнула ему под ноги.
– Забери. От него воняет!
Он не стал поднимать его. Они оба заговорили разом, но она взяла верх.
– Хочешь выкинуть его на улицу, так почему бы не сделать это? Давай выкинь! Чего же ты ждешь? Почему стоишь тут и спрашиваешь меня, как быть? Хочешь выкинуть его – ты мужчина, давай выкидывай!
Опять апелляция к его мужскому достоинству. Он шагнул к ней и схватил спереди за блузку. Отлетела пуговица. Он нагнулся к Марии почти вплотную и крикнул:
– Потому что он твой! Ты его выбрала, он был твоим мужем, у него есть ключ, вот ты и разбирайся с ним, – Его свободная рука сжалась в кулак. Мария была напугана. Она уронила сигарету на колени. Сигарета тлела, но он не обратил на это внимания, ему было плевать. Он закричал снова: – Ты хочешь сидеть спокойно, пока я расхлебываю кашу, которую ты заварила…
Она тоже крикнула, прямо ему в лицо:
– Ты прав! Всю жизнь мужчины ругали меня, били меня, пытались изнасиловать. А теперь я хочу, чтобы обо мне заботились. Я думала, ты такой человек. Думала, ты на это способен. Но нет, тебе больше нравится ревновать, ругать меня, бить и насиловать, как он и все остальные…
Именно в эту секунду юбка Марии вспыхнула.
Там, где тлела сигарета, возник один язычок пламени, от которого по складкам белой материи мгновенно разбежались такие же. Эти язычки множились и распространялись, пока Мария набирала в грудь воздуха, чтобы издать первый визг. Они были синежелтые и очень подвижные. Она вскочила на ноги, хлопая себя по одежде. Леонард схватил бутылку и недопитый стакан с вином. Он выплеснул стакан на нее, но это не дало никакого результата. Когда она, уже стоя, испустила второй долгий визг, он попытался облить ее вином из бутылки. Но оно вытекало слишком медленно. Был момент, когда ее юбка стала похожа на облачение испанской танцовщицы, вся красно-оранжевая с синими лентами, и под легкий треск пламени Мария металась, била себя, вертелась, точно хотела подняться в воздух и выскользнуть из нее. Это была лишь доля секунды, после чего Леонард схватил юбку за пояс обеими руками и дернул. Она сорвалась вся разом и вспыхнула еще ярче на полу. Он стал топтать ее – хорошо, что в ботинках, – и только когда пламя уступило место густому дыму, смог повернуться и посмотреть на Марию.
Он увидел на ее лице облегчение – остатки испуга и облегчение, но не боль. У ее наряда была подкладка, вшитая нижняя юбка из шелка или другого натурального материала, который разгорался с трудом. Она-то и спасла ее. Теперь она лежала у ее ног, потемневшая, но целая.
Он не мог остановиться. Он топтал ее, пока пламя не исчезло совсем. Дым был густой, иссиня-черный. Нужно было открыть окно, а еще он хотел обнять Марию, которая стояла неподвижно, может быть, в шоке, обнаженная, если не считать блузки. Надо принести ей из ванной халат. Он сделает это сразу же, как только убедится, что огонь не перекинулся на ковер. Но когда он наконец решил, что цель достигнута, и отступил, самым естественным показалось сначала шагнуть к ней и обнять ее. Мария дрожала, но он знал, что она придет в себя. Она повторяла его имя, снова и снова. И он тоже сбивчиво бормотал: «Мария, о господи, Мария».
Наконец они отодвинулись друг от друга, всего на несколько дюймов, и встретились взглядами. Она перестала дрожать. Они поцеловались раз, потом еще раз, но тут ее взгляд ушел в сторону и глаза широко раскрылись. Он обернулся. В двери спальни, прислонясь к косяку, стоял Отто. Еще курящиеся остатки юбки лежали между ними. Мария спряталась за спину Леонарда. Она быстро сказала что-то по-немецки – Леонард не разобрал что. Отто мотнул головой, скорее чтобы прояснить мысли, чем в знак возражения. Потом он попросил сигарету – знакомая фраза, которую Леонард начал понимать лишь недавно. Хотя в последнее время с немецким у него стало гораздо лучше, Леонард чувствовал, что ему будет трудно уследить за разговором этих бывших супругов.
– ’Raus, – сказала Мария. Убирайся.
И Леонард добавил по-английски:
– Уходите, пока мы не вызвали полицию.
Отто переступил через юбку и подошел к столу. На нем был старый армейский китель британского производства. Там, где раньше была капральская нашивка, темнела галочка невыцветшей материи. Он разворошил пепельницу. Нашел самый большой окурок и запалил его от Леонардовой зажигалки. Поскольку Мария еще пряталась за Леонардом, он не мог сдвинуться с места. Отто затянулся, обогнул их и направился в сторону входной двери. Не верилось, что он просто уйдет из их вечера. И он не ушел. Добравшись до ванной, он скрылся внутри. Как только дверь за ним затворилась, Мария убежала в спальню. Леонард налил в кастрюлю воды и выплеснул ее на юбку. Когда она пропиталась вся, он отнес ее в мусорное ведро. Из ванной донеслись громкий хрип и рычание, непристойный рев, перемежающийся смачным, густым отхаркиванием и отплевыванием. Мария вернулась полностью одетая. Едва она хотела заговорить, как они услышали грохот.
– Он сломал твою полочку, – сказала она. – Наверное, упал на нее.
– Он это нарочно, – сказал Леонард, – Знает, что я ее повесил.
Мария покачала головой. Он не понимал, какой ей смысл его защищать.
– Он просто пьяный.
Дверь открылась, и Отто вновь возник перед ними. Мария отошла к своему стулу рядом с кучей обуви, но не села. Отто сполоснул лицо и кое-как вытерся. К его лбу прилипли мокрые волосы, на носу висела капля. Он смахнул ее тыльной стороной ладони. Может быть, она вытекла у него из носа. Он снова посмотрел на пепельницу, но Леонард преградил ему дорогу. Англичанин сложил руки на груди и как следует расставил ноги. Гибель полочки разозлила его, теперь он оценивал шансы. Отто был дюймов на шесть ниже его и фунтов на сорок легче. Он был или пьян, или с похмелья и в плохой физической форме. Плечи узкие, тело маленькое. Но у Леонарда имелись свои минусы: он не мог обойтись без очков и не умел драться. Однако он был по-настоящему разъярен. В этом смысле у него было преимущество перед Отто.
– Уходите, – сказал Леонард, – или я вас вышвырну.
Мария за его спиной сказала:
– Он не понимает по-английски.
Потом она перевела слова Леонарда. На бледном лице Отто ничего не отразилось, он словно не понял угрозы. Из ссадины на его губе сочилась кровь. Он тронул ее языком и одновременно полез сначала в один, а затем в другой карман кителя. Вынув оттуда сложенный конверт, он поднял его вверх.
Он заговорил с Марией, мимо Леонарда. У этого тщедушного человечка оказался неожиданно низкий голос. «Я получил его. Получил что-то в конторе такой-то и такой-то» – это было все, что Леонард разобрал.
Мария ничего не ответила. В ее молчании был странный оттенок, напряженность, которая вызвала у Леонарда желание повернуть голову. Но он не хотел пропускать немца. Отто уже сделал шаг вперед. Он ухмылялся, и из-за какой-то мышечной асимметрии его тонкий нос скосился немного вбок.
Наконец Мария сказала:
– Es ist mir egal, was es ist – Мне все равно, что ты получил.
Ухмылка Отто стала шире. Он раскрыл конверт и вытащил оттуда единственный листок, уже сильно захватанный. «У них есть наше письмо от пятьдесят первого года. Они отыскали его. И наше что-то, с подписями обоих. Твоей и моей».
– Все это в прошлом, – сказала Мария, – Можешь забыть об этом, – Но ее голос дрогнул.
Отто засмеялся. Его язык был оранжевым от слизанной крови.
Не поворачиваясь, Леонард спросил:
– Мария, что происходит?
– Он считает, что у него есть право на эту квартиру. Мы подавали заявление, когда были еще женаты. Он уже два года старается.
Это вдруг показалось Леонарду решением проблемы. Пусть Отто живет здесь, а они вдвоем переберутся на Платаненаллее, где он никогда не найдет их. Скоро они поженятся, им ни к чему две квартиры. И они больше никогда не увидят Отто. Чудесно.
Но Мария, будто прочтя его мысли или желая предупредить их, уже выплевывала слова:
– У него есть где жить, у него есть комната. Все это, только чтобы навредить мне. Он до сих пор думает, что я его собственность, в этом все дело.
Отто терпеливо слушал. Его взгляд был прикован к пепельнице, он ждал удобного момента.
– Это моя квартира, – говорила ему Мария, – Она моя! И кончен разговор. А теперь убирайся.
Они могли бы уложить вещи часа за три, думал Леонард. Все пожитки Марии можно увезти на двух такси. Еще до рассвета они окажутся в безопасности у него дома. И, несмотря на усталость, с триумфом завершат празднество.
Отто щелкнул по документу пальцем. «Прочти его. Посмотри сама». Он сделал еще полшага вперед. Леонард подвинулся к нему. Но может быть, Марии стоит прочесть эту бумагу?
– Ты не сказал им, что мы разведены, – ответила Мария, – Поэтому они думают, что у тебя есть право.
Отто был в восторге. «Но они знают. Знают. Нам надо явиться вместе туда-то и туда-то, там решат, кто больше нуждается». Он взглянул на Леонарда, потом снова мимо него на Марию. «У англичанина есть жилье, а у тебя кольцо. Там-то и там-то захотят разобраться в этом».
– Он переедет сюда, – сказала Мария, – И конец делу.
На этот раз Отто выдержал взгляд Леонарда. Немец уже не казался таким заморенным и пьяным, он точно стал сильнее, увереннее в себе. Он считал, что побеждает. Он заговорил с улыбкой.
– Ne, пе. Die Platanenallee 26 wre besserfr euch[36].
Блейк был прав. Берлин – маленький город, здесь ничего не утаишь.
Мария что-то выкрикнула. Это явно было оскорбление, и оно подействовало. Улыбка исчезла с лица Отто. Он закричал в ответ. Леонард очутился под перекрестным огнем супружеской ссоры, на поле боя между старыми противниками. В залпах с обеих сторон он улавливал только глаголы, громоздящиеся на концах пулеметных фраз как отработанные ленты, и следы нецензурных выражений, знакомых ему, но употребляемых в каких-то новых, более неистовых формах. Они кричали одновременно. Мария была вне себя – разъяренная кошка, тигрица. Он и не догадывался, что в ней может быть столько страсти, и ему на мгновение стало стыдно, что сам он никогда не доводил ее до подобного состояния. Отто двигался вперед. Леонард протянул руку, чтобы остановить его. Немец почти не заметил помехи, а Леонарду не понравилось то, что он почувствовал. Грудь у Отто была твердая и тяжелая на ощупь, как мешок с песком. Его выкрики отдавались вибрацией в руке Леонарда. Документ Отто вынудил Марию занять оборону, но теперь ее слова одно за другим попадали в цель. Ты никогда не мог, у тебя не было, ты не способен… Темой были его слабости, возможно, пьянство, или секс, или деньги, и он дрожал, он кричал. Кровь из его губы текла сильнее. Его слюна окропляла Леонарду лицо. Он продолжал напирать. Леонард схватил его за руку около плеча. Она тоже была твердой, ее невозможно было удержать.
Потом Мария сказала что-то нестерпимо обидное, и Отто вырвался из рук Леонарда и налетел на нее, прямо на горло, оборвав ее речь, так что она не могла больше произнести ни звука. Его свободная рука была отведена в сторону и сжата в кулак. Леонард поймал ее обеими руками как раз в тот момент, когда она начала движение к лицу Марии. Хватка немца на горле Марии была крепкой, ее язык высунулся наружу, багрово-черный, вылезшие глаза были уже за пределами мольбы. Кулак еще увлекал Леонарда вперед, но он навалился на руку Отто, вывернул ее за его спину и вверх, после чего ей следовало хрустнуть в суставе. Отто пришлось повернуться направо, а когда Леонард схватился покрепче за его запястье и нажал еще выше по позвоночнику, Отто отпустил Марию и развернулся, чтобы освободиться и атаковать своего противника. Леонард выпустил его руку и отступил на шаг.
Теперь его ожидания стали явью. Это было то, чего он так боялся. Ему суждено получить серьезную травму, остаться искалеченным на всю жизнь. Будь дверь квартиры открыта, он, возможно, кинулся бы к ней. Отто был маленьким, сильным и рассвирепел до безумия. Вся его ненависть и злоба обратились на англичанина, все, что должно было достаться Марии. Леонард поправил сползшие очки. Он не отважился снять их. Ему надо было видеть, что на него надвигается. Он выставил вперед кулаки, как обычно делают боксеры. Руки Отто были опущены, как у ковбоя, готового выхватить оружие. Его глаза налились кровью. Он поступил очень просто: отвел назад правую ногу и ударил англичанина по голени. Леонард раскрылся. Отто сделал выпад, целясь в его адамово яблоко. Леонард сумел увернуться, и удар пришелся в ключицу. Это было больно, по-настоящему, до нестерпимости больно. Может быть, он сломал ему кость. Следующим будет позвоночник. Он поднял руки ладонями вперед. Он хотел сказать что-нибудь, хотел, чтобы вмешалась Мария. Поверх плеча Отто он видел ее у груды туфель. Они переедут на Платаненаллее. Все будет хорошо, стоит ей только поразмыслить спокойно. Отто ударил его снова – сильно, очень сильно, по уху. Ему показалось, что во всех углах комнаты разом прозвенели электрические звонки. Это было так подло, так… несправедливо. Едва Леонард успел подумать это, как они вошли в клинч. Теперь они сжимали друг друга в объятиях. Что ему делать – притянуть это маленькое отвратительное тело поближе к себе или оттолкнуть его с риском получить новый удар? Его преимущество в росте обернулось недостатком. Отто вбуравливался в него, и он вдруг понял зачем. Рука немца шарила у него между ног, она нащупала его яички и сомкнулась на них. Вот так же он вцепился Марии в горло. В глазах Леонарда вспыхнула красная охра, потом он услышал свой крик. Назвать это болью значило ничего не сказать. Все его сознание слилось в одном жутком, бешеном вихре. Он сделает что угодно, отдаст все, лишь бы освободиться – или умереть. Он скрючился, и его голова оказалась вровень с головой Отто, его щека скользнула по колючей щеке немца, и он повернулся, открыл рот и изо всей силы укусил Отто в лицо. Это не было приемом. В агонии он сжимал челюсти, пока его зубы не встретились и рот не наполнился. Раздался рев, который не мог быть его собственным. Боль ослабла. Отто выдирался прочь. Он отпустил его и выплюнул что-то, по консистенции похожее на непрожеванный кусок апельсина. Вкуса он не чувствовал. Отто выл. Сквозь его щеку был виден желтый коренной зуб. И кровь – кто бы подумал, что в лице может быть столько крови? Отто наступал снова. Леонард понимал, что теперь ему уже не спастись. Отто наступал, по его лицу лилась кровь, и было еще что-то черное, оно надвигалось сзади и сверху, на самом краю его поля зрения. Чтобы защититься и от этого, Леонард поднял правую руку, и время затормозилось, когда его пальцы сомкнулись на чем-то холодном. Он не мог помешать его движению, он мог только взяться за него и вложить свою лепту, помочь ему двигаться вниз, и оно пошло вниз, несокрушимая мощь в форме железной ступни, рухнуло вниз как правосудие, с его рукой на нем и рукой Марии, всей тяжестью правого суда, железная нога обрушилась на череп Отто большим пальцем вперед и проломила его, и ушла вглубь, свалив его на пол. Он упал без единого звука, лицом вниз, и больше не шевелился.
Сапожная колодка торчала у него из головы, и весь город хранил тишину.
17
После помолвки влюбленные, не ложась, проговорили всю ночь.
Так он пытался изобразить дело через два часа после рассвета, когда стоял в очереди, дожидаясь автобуса в Рудов. Ему нужно было отыскать в событиях какую-нибудь последовательность, разумную связь. Одно должно следовать за другим. Он влез в автобус и нашел свободное место. Его губы двигались, беззвучно складывая слова.
Он нашел место и сел. После ночной драки он чистил зубы десять минут подряд. Потом они накрыли тело одеялом. А может быть, сначала спрятали тело под одеялом, а потом он пошел в ванную и чистил зубы десять минут подряд. Или все двадцать. Его щетка валялась на полу, среди осколков, под сорванной полочкой. Паста упала в раковину. Пьяный сломал полочку, и паста упала в раковину. Паста знала, что она понадобится, щетка – нет. Паста была умнее, она лучше соображала…
Они так и не смогли, не осмелились вынуть колодку. Она торчала под одеялом. Мария засмеялась. Она была еще там. Они накрыли колодку, но она была еще там. Живые идут на работу, а те, кто с колодкой, лежат под одеялом. Пока они ехали по Хазенхайде, автобус понемногу наполнялся. Остались только стоячие места. Потом водитель стал объявлять, что мест вообще нет. Это почему-то утешало, приятно было слышать, что больше никто не войдет. Значит, пока им ничто не грозит. По дороге на юг, против основного потока людей в этот час, автобус начал пустеть. Когда они добрались до Рудова, в салоне остался один Леонард, на самом виду среди голых сидений.
Он пошел давно знакомым путем. Кругом строили больше, чем ему помнилось. Он не ходил тут со вчерашнего дня. Вчера утром он еще не был помолвлен. Они взяли с кровати одеяло и накрыли его. Не из уважения – при чем тут вообще уважение. Просто им надо было избавить себя от этого зрелища. Иначе они не могли бы думать. Он хотел вынуть колодку. Может, из уважения. Или чтобы скрыть то, что они сделали. Он стал на колени и взялся за нее. Она подалась под его рукой, как палка в густой грязи. Вот почему он не смог ее вынуть. А что потом – вытирать ее, мыть в ванной под краном?
Они хотели спрятать все, и получилось глупо: изношенный ботинок с одного конца, с другого торчит что-то странное, натягивая одеяло, забирая на себя то, что должно было достаться ботинку. Мария начала смеяться, зашлась в истерическом смехе, полном ужаса. Он не мог присоединиться к ней. Она не искала его взгляда, как обычно делают смеющиеся. Она была одна. И перестать она тоже не пыталась. Попробуй она перестать, смех перешел бы в плач. Он мог бы присоединиться, но не рискнул. Тогда все вышло бы из-под контроля. В кино, когда женщины смеялись таким смехом, полагалось дать им сильную пощечину. Тогда они затихали, осознавая правду, затем начинали плакать, а вы утешали их. Но он слишком устал. Это могло вызвать жалобы, или ругань в его адрес, или даже ответный удар. Все могло случиться.
Уже случилось. До или после одеяла он чистил зубы. Одной щетки было мало, она оказалась неэффективной. Он попросил Марию принести зубочистки. Только тогда ему удалось выковырять то, что застряло между резцом и клыком. Его не стошнило. Он думал о Тотнеме и воскресном обеде, как они с отцом орудуют зубочистками, пока не подали пудинг. Мать никогда ими не пользовалась. Женщины как-то умеют обходиться. Он не проглотил тот кусочек, не пополнил списка своих преступлений. Хоть и маленький, но плюс. Он смыл его под краном – что-то бледно-розовое и крохотное, почти незаметное, а потом сплюнул, один раз, другой, и прополоскал рот.
Потом они выпили. Или он уже выпил перед тем, как попробовать вынуть колодку. Вино кончилось, все хорошее мозельское ушло на юбку. Остался только джин из «Наафи». Ни льда, ни лимона, ни тоника. Он нашел его в спальне. Она вешала одежду обратно. Неизгаженную, еще один плюс.
Она сказала, где мой? И он отдал ей стакан, а сам пошел за другим. Он стоял у стола, наливая джин, пытаясь не смотреть, но посмотрел. Оно сдвинулось. Теперь были видны два ботинка и черный носок. Они не переворачивали его, не проверяли, действительно ли он умер. Леонард поглядел на одеяло, стараясь уловить признаки дыхания. Кажется, оно шевельнулось. Была ли то дрожь, правда ли оно едва заметно поднялось и опустилось? А если так, хорошо это или плохо? Тогда им придется вызвать «скорую помощь», и они не успеют все обсудить, решить, что надо рассказывать. Или надо попробовать убить его снова. Он следил за одеялом, и ему чудилось, что оно шевелится.
Он взял свой стакан в спальню и сказал ей. Она не хотела выходить и смотреть. Она ему не верила. Она уже все решила. Он мертв. Вся одежда висела как положено, Мария закрыла гардероб. Она вышла в дверь за сигаретами, но он знал, что она идет посмотреть. Вернувшись, она сказала, что не нашла их. Они сели на постель и выпили джина.
Сев, он почувствовал боль в яичках. Болело и ухо, и ключица. Кто-нибудь должен его осмотреть. Но им надо поговорить, а для этого надо подумать. А чтобы сделать это, надо выпить и посидеть, но это больно, и ухо болит. Ему нужно было вырваться из этих слишком быстрых, слишком плотных кругов. И он выпил джин. Он смотрел, как она смотрит в пол перед собой. Она была прекрасна, он знал это, но не чувствовал. Ее красота не действовала на него так, как ему хотелось. Он хотел ощутить нежность к ней, и чтобы она вспомнила, как она относится к нему. Тогда они смогут бороться вместе и решат, что им сказать полиции. Но, глядя на нее, он не чувствовал ничего. Он тронул ее за руку, но она не подняла глаз.
Они должны сговориться, иначе им не поверят. Полицейские увидят ее красоту, возможно, даже почувствуют. Он сам всего лишь помнил о ней. А если они ее почувствуют, тогда они смогут понять, и это будет спасением. Это была самозащита, скажет она, и все обойдется.
Он убрал свою руку с ее и спросил: что мы скажем полиции?
Она не ответила, даже не подняла глаз. Может быть, он и не спрашивал. Он хотел, но не услышал своих слов. Или не помнил, что слышал.
Он шел мимо лачуг беженцев. Идти было больно. Его ключица болела, только когда он поднимал руку, ухо – когда он до него дотрагивался, но яички болели, когда он садился или при ходьбе. Надо отойти от лачуг подальше, тогда он остановится передохнуть. Он увидел мальчугана с рыжими волосами – у макушки они были морковного цвета. Короткие штаны, расцарапанные коленки. Похоже, задиристый мальчишка. В Англии таких полно. Леонард часто видел его по пути на работу или обратно. Но они ни разу не перемолвились словом, даже не помахали друг другу. Просто смотрели, как будто были знакомы в предыдущей жизни. Сегодня, надеясь вызвать этим удачу, Леонард поднял руку в знак приветствия и слегка улыбнулся. Поднимать руку было больно. Мальчик не посочувствовал бы ему, если бы знал, он продолжал смотреть на Леонарда в упор. Взрослый нарушил правила.
Леонард зашел за угол и стал, прислонясь к дереву.
Неподалеку строили многоквартирный дом. Скоро здесь вырастет настоящий город. И местные жители забудут, как все это выглядело раньше. Когда он вернется, он сможет рассказать им. Тут никогда не было особенно красиво, скажет он. Поэтому все нормально. Все хорошо. Кроме мыслей, которые крутятся и крутятся в голове.
Он ничего не мог сделать. Он снова тронул ее за руку, или это был первый раз. Он повторил вопрос или задал его в первый раз, позаботясь о том, чтобы теперь слова действительно прозвучали.
Я знаю, сказала она, что означало: Я тоже об этом думаю, я разделяю твое беспокойство. А может быть, Ты уже спрашивал, и я тебя слышала. А может, Я только что тебе ответила.
Чтобы не прекращать разговора, он сказал: Это была самозащита, это была самозащита.
Она вздохнула. Потом сказала: Они его знают.
Да, сказал он. Поэтому они поймут.
Она выпал ила одним духом: Он им нравился, они считали его героем войны, он им что-то наплел. Они думали, он спился из-за войны. Пьяница, который заслуживает прощения. Свободные от службы иногда угощали его пивом. И еще они думали, что он спился из-за меня. Они сказали мне это как-то раз, когда я вызвала их сюда. Я хотела, чтобы меня защитили, а они сказали, ты ведь сама его довела.
Он встал с кровати, чтобы унять боль. Ему хотелось джина. Он хотел принести оттуда бутылку. Найти сигареты. В пачке еще оставались три штуки, но ходить было больно. А вдруг он пойдет туда и снова увидит, что оно изменило положение?
Он стал у шкафа и сказал: Это только те, что из здешнего участка, Ordnungspolizei. А нам придется говорить с Kriminalpolizei, они из другой организации. Он произносил эти слова, но, конечно, не было никаких преступников, никакого преступления, это была самозащита. Она сказала: Но местных все равно вызовут. Иначе нельзя, это их район.
Так что же, повторил он. Что мы им скажем?
Она покачала головой. Он подумал, она хочет сказать, что не знает. Но она имела в виду совсем другое. Тогда была еще только половина третьего, а она уже имела в виду совсем другое.
Шагая привычной дорогой, он мог притвориться, что ничего не случилось. Он идет на работу, вот и все. Он спустится в туннель, он с нетерпением ждал этого момента. Ночью он все-таки вышел за джином. Сигарет нигде не было. Он посмотрел на торчащие из-под одеяла ботинки. Они высунулись еще дальше, в этом не было сомнения. Теперь он видел оба носка и часть голой ноги с редкими волосками. Он поскорей вернулся в спальню и сказал ей, но она не подняла глаз. Она скрестила руки на груди и смотрела в стену. Он закрыл дверь и налил им обоим джина. Глотая, он думал о «Наафи».
Знаешь что, сказал он. Мы вызовем британскую военную полицию. Или американцев. Я же в их ведении, мне полагается это сделать.
Она разъединила было руки, потом снова вернулась в прежнюю позу. Дело касается меня, сказала она. Немецкую полицию поставят в известность.
Он все еще стоял. И ответил: Я скажу, что я один виноват. Безумное предложение.
Она не улыбнулась, ее голос не потеплел. Она сказала: Ты очень добр, спасибо. Но он немец, и это моя квартира, и он был моим мужем. Они обязательно сообщат немецкой полиции.
Он был рад, что она не согласилась. Он сказал: Так мы ничего не решим. Пусть они считают его героем войны, но они знают, что он бил тебя, что он пил, ревновал, и почему они должны верить его словам, а не нашим, и если бы мы захотели его убить, мы не стали бы проламывать ему голову, а потом звать полицию.
Она сказала: Почему бы и нет, если мы надеялись, что это сойдет нам с рук? И когда он не ответил, потому что не понял, она сказала: Totschlag, вот как они это назовут. Непредумышленное убийство.
Он приближался к часовым. Сегодня у ворот дежурили Джейк и Гови. Они встретили его по-приятельски и пошутили насчет его распухшего уха. Но пропуск тем не менее пришлось показать. В этом смысле со вчерашнего дня ничего не изменилось. Значит, все не так уж плохо. Он двинулся дальше, мимо будки часового, по дороге, обычный маршрут. По пути в свою комнату он никого не встретил.
На его двери висела записка от Гласса. Встретимся в столовой в 13.00. Комната была в том виде, в каком он ее оставил: рабочий стол, паяльники, омметры, вольтметры, приборы для проверки ламп, мотки провода, коробки с запасными деталями, сломанный зонтик, который он собирался починить. Все это были его вещи, его работа, вот чем он занимался на самом деле, законно и открыто. Вернее, открыто с одной точки зрения и тайно с другой, законно не во всех смыслах. С некоторыми определениями законности они были на ножах, некоторые определения им приходилось волей-неволей игнорировать. Я должен перестать, подумал он, мне надо успокоиться.
Убийство, сказала она. Ему пришлось пойти и сесть на постель, хотя сидеть было больно. Это звучало хуже, чем случайная смерть. Убийство. Это звучало хуже. Это примерно соответствовало тому, что лежало в соседней комнате.
Он попробовал начать с другого конца. Вот что, сказал он. Мне надо к врачу, сейчас же.
Она спросила сквозь зевок: Тебе правда так плохо? Еще одна вещь, о которой она не хотела думать.
Он сказал: Врач должен посмотреть мою ключицу и ухо. Про яички он не упомянул. Они болели по-прежнему. Но он не хотел, чтобы врач осматривал их, сдавливал и просил его покашлять. Он поежился, не вставая с места, и сказал: Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь, так мы докажем, что это была самозащита. Я должен пойти, пока все по-настоящему плохо, чтобы они могли сделать фотографии.
Но только не моих яичек, подумал он.
А она ответила: Про ту дырку у него на лице ты тоже скажешь, что это была самозащита?
Тогда, сидя на постели, он чуть не потерял сознание.
Он прошел по коридору к питьевому фонтанчику. Ему хотелось ополоснуть лицо. Идя мимо кабинета Гласса, он проверил дверь. Закрыто, еще один плюс. Он был способен помахать мальчишке и поздороваться с часовыми, но не говорить с Глассом. Он взял несколько ламп и кое-какие принадлежности в своей собственной комнате и запер ее. Со вчерашнего дня осталось кое-что закончить. Работа поможет ему успокоиться. Вдобавок ему нужен был повод, чтобы спуститься в туннель и забрать то, что необходимо забрать.
Если ты пойдешь к врачу, сказала она, ему все станет известно, а это означает полицию.
Он сказал: Зато у нас будет доказательство драки, серьезной драки. Он разорвал бы меня в клочья.
Конечно, сказала она. Доказательство самозащиты, но как насчет той дырки?
Что ж, сказал он. Ты объяснишь им, почему мне пришлось это сделать.
Но я и сама не знаю, сказала она. Объясни мне, почему ты так его укусил?
Он сказал: Ты что, не видела? Не видела, что он делал?
Она покачала головой, и он объяснил ей. А когда закончил, она сказала: Я ничего не видела. Вы были слишком близко друг к другу.
Это правда, сказал он.
Она отпила немного джина и спросила: Тебе было так больно, что ты прокусил ему щеку насквозь?
Да, конечно, сказал он. Ты должна будешь сказать, что все видела. Это очень важно.
Она сказала: Но ты же говорил, что нам ни к чему лгать, что мы не сделали ничего плохого, что нам нечего скрывать от них.
Разве я это говорил? – ответил он. Вообще-то да, мы не сделали ничего плохого, но нам нужно, чтобы они поверили в это, мы должны правильно все рассказать.
Ах вот как, сказала она. Ах вот оно что, если мы должны лгать, если мы должны притворяться, то нам нужно сделать это правильно. И она разняла скрещенные руки и посмотрела на него.
В подвале он прошел мимо кучи, наваленной до самого потолка. Говорили, что на ее темной стороне иногда вырастают грибы, но сам он этого не видел. И не хотел бы увидеть сейчас. Он стоял у края шахты, теперь ему было лучше. Шум генераторов, яркие голые лампочки у входа в туннель, тусклые здесь, наверху, уползающие вниз кабели и провода, вентиляция, система охлаждения. Система, подумал он, нам нужна система. Он предъявил пропуск и сказал охраннику, что заберет снизу кое-какие вещи и ему понадобится подъемник. «Хорошо, сэр», – ответил тот.
Старый железный трап был давно убран. Теперь вниз спускались по спиральной лестнице в полтора витка, идущей вдоль стен ямы. Они ничего не упускают из виду, подумал он, эти американцы. Они хотят все сделать простым и доступным. Они заботятся о тебе. Эта легкая удобная лестница со ступеньками, на которых не поскользнешься, и железными цепями вместо перил, автоматы с кока-колой в коридорах, мясо и шоколадное молоко в столовой. Он видел, как взрослые люди пьют шоколадное молоко. Англичане оставили бы вертикальный трап, потому что секретная операция предполагает трудности. Американцы не забывали слушать «Heartbreak Hotel» и «Tutti Frutti» и играть в софтбол на площадке у склада, взрослые люди с усами от шоколадного молока, играющие в мячик. Они невинны. Разве можно скрывать от них что-нибудь? Он ничего не разузнал для Макнами, даже не пытался по-настоящему. Это тоже плюс.
Спускаться по лестнице было больно. Хорошо, что он наконец добрался до конца. Он ничего не выяснил о методе Нельсона, о том, как отделять эхо понятного текста от кодированного сообщения. У них остались эти секреты, а также шоколадное молоко. Он не узнал ничего. Хотя и пробовал заглянуть в несколько комнат. Он не лгал Макнами, но он ничего не украл, так что сейчас не было нужды лгать Глассу.
Она повторила: Если мы собираемся лгать… И оставила фразу незавершенной, теперь была его очередь.
Он сказал: Нам надо действовать вместе, надо договориться. Они посадят нас в разные комнаты и будут искать противоречия. Потом он остановился и сказал: Но мы даже не можем ничего толком соврать. Что мы им скажем – что он поскользнулся в ванной?
Знаю, сказала она. Знаю, разумея под этим: Ты прав, так сделай же неизбежный вывод. Но он застыл на месте. Он сидел и думал, что надо бы встать. Потом подлил себе джина. Этот тепловатый напиток почему-то совсем не пьянил.
В туннеле стояла бархатистая темнота, процеженная сквозь кондиционеры, и рукотворная тишина, и все вокруг говорило ему о профессионализме, сноровке, благоразумии. Он держал в руке лампы, он шел работать. Он двинулся по старой узкоколейке, по которой раньше вывозили землю.
Ты слишком много пьешь, сказала она. Нам надо думать. Он допил чашку, чтобы можно было поставить ее на простыню. С закрытыми глазами ему лучше думалось. И ухо болело меньше.
Я скажу тебе еще кое-что, продолжала она. Ты слушаешь? Не засыпай. В Rathaus, в городском Совете, знают, что он претендовал на эту квартиру. У них есть письма, есть все бумаги.
Он сказал: Ну и что? Ты же говорила, что его притязания незаконны.
Es macht nichts[37], сказала она. Он подавал жалобу, у нас была причина для ссоры.
Ты имеешь в виду мотив, сказал он. Ты хочешь сказать, что это посчитают нашим мотивом? Разве мы похожи на людей, которые решают жилищные проблемы таким способом?
Кто знает, сказала она. Здесь трудно найти жилье. В Берлине убивали и за меньшее.
Из этого получается, сказал он, что у него были претензии и он пришел сюда драться, и это была самозащита.
Когда ей казалось, что они зашли в тупик, она опять складывала руки на груди. Она ответила: На работе майор однажды рассказывал о непредумышленном убийстве – тогда я и услышала, как это звучит по-английски. По его словам, оно произошло за год до того, как я начала работать здесь. Один механик из мастерских, с немецким гражданством, подрался в закусочной с другим и убил его. Он ударил его по голове пивной бутылкой, и тот умер. Он был пьян и зол, но он не хотел убивать. Он очень расстроился, когда понял, что он наделал.
И что с ним случилось?
Его посадили в тюрьму на пять лет. Наверное, он еще там.
В туннеле шел обычный рабочий день. Никто не слонялся без дела, все трудились, машины и люди. Этот порядок успокаивал, хорошо, если бы и мир наверху был таким. Он остановился и посмотрел. На огнетушителе, мимо которого он проходил, белела карточка, удостоверяющая, что еженедельная проверка была проведена вчера в 10.30. Тут же стояли инициалы исполнителя, его рабочий телефон, дата следующей проверки. Все безупречно. Рядом висел телефонный аппарат, около него список номеров: дежурный офицер, охрана, пожарные, комната записи, камера прослушивания. Вот этот пучок проводов, скрепленных вместе блестящей новой заколкой, как волосы маленькой девочки, шел от усилителей в комнату записи. Эти провода тянулись в камеру прослушивания, по этой трубе бежала вода для охлаждения электроники, эти трубы служили для вентиляции, этот провод относился к системе аварийной сигнализации, зонд этого датчика уходил глубоко в окружающую почву. Он протянул руку и дотронулся до них. Все они работали, он любил их все.
Он открыл глаза. Молчание длилось уже минут пять. Если не двадцать. Он открыл глаза и заговорил. Но это ведь не драка в закусочной, сказал он. Он напал на меня, он мог меня убить. Он остановился и вспомнил. Сначала он напал на тебя, схватил тебя за горло. Он совсем забыл о ее горле. Дай посмотреть, сказал он. Не болит? Вся ее шея до самого подбородка была в красных отметинах. А он и забыл про это.
Только глотать больно, сказала она.
Вот видишь, сказал он. Ты должна пойти со мной к врачу. Вот что мы им расскажем, и это будет правда, так оно и было. Он мог тебя задушить.
Да, подумал он. Но я ему не позволил.
Уже четыре часа, сказала она. Ни один врач нас не примет. И даже если бы принял, пойми ты. Она остановилась и снова разжала руки. Пойми, я все время думаю о полиции и о том, что они увидят, когда придут сюда.
Мы снимем одеяло заранее, сказал он.
Одеяло тут ни при чем, сказала она. Пойми, что они увидят. Изуродованный труп.
Не говори так, сказал он.
Проломленный череп, сказала она, и дыра в щеке. А у нас что? Красное ухо, синяки на шее?
И мои яички, подумал он, но не произнес ни слова.