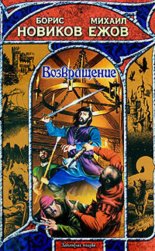Милый Ханс, дорогой Пётр Миндадзе Александр

– Танцевальных.
– Ну, этих… определенных.
– Ты откуда это?
– Тебе не дано. Любопытный прежний нос, Какаду.
Но седая голова у Элизабет на плече, в паре они Булатом, в чем все дело. И глаза партнерши прикрыты в блаженстве.
Полушепот опять Валенсии:
– Были мужем и женой. Что с лицом, Какаду?
Пара поворачивается медленно, свой у нее ритм, от всех отдельный. И теперь Булат близко совсем со склоненной головой. И слезы блестят на глазах. Да, плачет он, рыдает, и плечи даже вздрагивают, поверить трудно.
А прожектор из тьмы выхватывает руку Элизабет, не ту, которая на затылке седом, другую, от ласки свободную. Глаза прикрыты, а рука зрячая, сама с глазами, и пальцы в неустанной работе. Ощупывают карманы, поглаживая нежно. Но и внутрь проникают, в глубине шарят, даром, что ли, красивые, длинные.
Элизабет впереди в своей шубе, еле поспеваем за ней, за обшарпанным чемоданчиком на колесиках. Коридоры “Шератона”. Из одного в другой переходим. И вот шуба сворачивает, чтобы тут же накинуться на нас с воплем из-за угла:
– Дорогие мои! Боже, как же я соскучилась! Вот вы, вот! Хорошие мои!
Обнимает по очереди каждого и вместе, к себе прижимает страстно, от чувств всхлипывая, а мы растерялись, не понимаем.
– Бедные!
– Чего-чего мы?
– Брошенные!
– Ты нас, что ли?
– А кто, кто?
И даже Валенсия с лицом своим серьезным шубу в ответ гладит растроганно:
– Так мы тоже с Какаду, тоже! Мы с ума вообще, пока тебя искали. По полной, считай, хлебнули!
– Ха-ха, шампанского!
“Здравствуйте” запоздалое со слезами. И Элизабет правда плачет. Так и стоим, сжатые, голова к голове, всё стоим неразлучно.
А я, с лаской вразрез, свое:
– А вот что мужик на груди у бабы как баба, это как?
– Опять нос, Какаду! – кричит Валенсия.
Элизабет с ответом тут как тут. У меня на языке, у нее на языке:
– Это мужик понимает, что баба лучшее, что было в жизни.
– Мужик прав, Элизабет.
Она головой качает:
– Не прав!
И чемодан свой подкатывает:
– Бери, галантный. Поехали.
– А номер твой? Идем и идем. Где?
– Мы не в номер.
– А куда?
Шуба без слов поворачивается и опять поплыла крейсерским ходом, занимая полкоридора. Еще и с Валенсией вдвоем теперь в обнимку. Встречные чемоданчики с трудом их объезжают. А из шубы этой извлекаются на ходу то йогурт, то опять йогурт, потом сыр в упаковке, и нарезки колбас – да хозяйка, видно, и сама забыла, что там в карманах у нее, поистине бездонных.
Догадливый я:
– Супермаркет по дороге?
Оборачивается:
– Вопрос опять, Какаду?
– Ответ уже.
Смотрим друг на друга, понимаем. Смеется:
– Не обольщайся. Еще много чего узнаешь, любознательный.
Все быстрее с Валенсией они по коридору, обнявшись. Сыром йогурты заедают. И вижу, как одна другой подножку, украдкой. Валенсия на четвереньках уже, недоумевает:
– Ты чего?
– А чего?
– Да ты ногу мне… Сдурела!
– Сама, сама.
– Сама себе, что ли?
И опять по коридору. Бегут уже, припрыгивают. Догоняю и, разъединив, хватаю за загривки обеих, потому что ведь уже и твердость нужна, пора. И вот держу крепко, и справа лицо, и слева лицо, простые женщины, не первой молодости.
– Какаду, ты властелин наш, вот ты кто!
– Узнаёте?
– Разве забудешь? Ты! Ты! Вернулся!
Стреножил, а получилось наоборот – пришпорил, и чуть не галопом несут уже меня в безумном каком-то восторге. И распевают наперебой куплет на двоих:
– Тангеры мы, тангеры, мы всегда молодые! Какаду, молодые?
– Вы моложе еще! Клянусь!
Хохот:
– Помним клятвы твои! Сам все затеял, а теперь душа в пятки, что мы такие!
Возражать бессмысленно, и я кричу:
– Я, я! Да, я это! Затеял!
И вот Элизабет резко притормаживает у какой-то двери, долго роется в карманах. Что еще она оттуда? А пока допевает куплет:
– Ты просто понял, что старый и не хватит на нас сил, так ведь, Какаду?
– На двоих, – подмигивает Валенсия.
Тут уж захохотал я:
– Это мы посмотрим!
Наконец Элизабет находит, что искала, и демонстрирует пластиковую карточку-ключ:
– Он рыдает, что был мудак. Но мудак он не тогда, а вот сейчас, когда распустил сопли. Потому что ты забираешь ключ от его магазина. И ты побеждаешь жадность, которую он сам не в силах преодолеть. То есть ты даже помогаешь человеку справиться с пороком, разве нет, Какаду?
Пока Элизабет с удовольствием разглагольствует, рука ее остается по обыкновению проворной. Карточка-ключ открывает нам путь в офис, и тангеры, не дожидаясь, устремляются нетерпеливо внутрь, и я уже в одиночестве следую за ними по пятам в другой офис, и там тоже никого, и даже потом прохожу насквозь еще в третий, пока не оказываюсь в салоне-магазине, где так же пусто и свет пригашен. Костюмы для танцев вывешены бесконечными рядами, на полках сияет лакированная обувь.
Пройдя этот хитрый и явно запретный путь, остаюсь и впрямь один, а спутниц моих и след простыл. Только костюмы с платьями подозрительно шевелятся здесь и там как живые. И голоса уже, голоса: “Смотри, нет, ты смотри! Какое! А это? Вот это!”
И Элизабет, Валенсия, и опять Элизабет… То профиль мелькнет за манекеном, то нога в ослепительной туфле блеснет. Порознь мы, а все равно вместе. И голос властно зовет:
– Какаду, ты где там? Ну-ка! Сюда!
Валенсия спиной ко мне в проходе в трусах. Продела сверху руки, а вниз платье никак, в плену застряла.
– Запропастился! Помогай! – командует.
Платье узкое, а влезть охота очень, по отчаянным попыткам судя. Шепчет в лихорадке: “Влезу! Надо! Давай!” Включаюсь, и бюст кое-как преодолеваем, но дальше хуже, проблема уже с задом. И так мы, и сяк, а никак. И еще она недовольна:
– Не рви, ты чего, я рвать просила? Тяни!
Опять пробуем. Оборачивается, требует:
– Трусы снимай, ну? С меня трусы, с меня, оглох? Давай!
Подчиняюсь. Трусы падают на пол, и непреодолимый зад вспыхивает белизной, и даже глаза манекена зажигаются.
– Эй, ты там застыл чего? Не видел, что ли?
– Давно.
Ягодицы подрагивают у меня на ладонях как живые.
– Забудь. Тяни.
Влезла. Нежная такая сзади, а обернулась, и лицо суровое, будто не ее, и губы жестко сжаты.
– Я должна, Какаду. Я буду танцевать. Буду.
Полуголая Элизабет тут же вламывается в закуток с горящим взглядом, хватает Валенсию, увлекая за собой:
– А я себе такое! Давай! Я выбрала! Упадешь!
Мне объясняет:
– Мы платья себе на сцену, потом вернем!
– Да потом сами подарят! – не сомневается Валенсия.
Еще раз-другой они являются передо мной в безумии и столь же стремительно исчезают. Невидимо где-то стучат по полу голые пятки, костюмы с платьями вздымаются здесь и там. Волны гуляют по магазину, как при шторме.
И вот предстают неотразимо в своих нарядах. Молодые, полные сил и желаний смелых самых. А ноги, само собой, выделывают па, синхронно туфли сверкают.
Я припадаю на колено, руки раскидываю в перстнях, давно не было. И они в радости от моей радости:
– О, что это? Это что-то вообще невиданное! Что это и кто это? Сладострастный старикашка, он кто?
– Не старикашка он! Повелитель наш! Мы на все, повелитель, на все готовы!
– Да он мустанг, мустанг! Затопчет! Ой, мустанг, не надо! А грива, смотри какая!
А я все с распростертыми руками перед ними, не дрогнув.
Это так необычно, что они вдруг обычные. Что, кажется, мы даже незнакомы, и я робею, когда обнимаю их. Никакие не тангеры лихие – женщины две с усталыми лицами, в непарадных юбках да блузках, от пота мокрых. Смущаются, что немолодые, а больше еще от прикосновений моих, будто прохожий подошел и тискает. Об этом и речь:
– Какаду, мы не можем. Мы стесняемся, имеем право.
– Почему это?
– Потому что “Я и две моих тетки!” – смех вообще и грех. И ты нас сам стесняешься.
– Ерунда какая.
– Да мы перед тобой будто голые, не ерунда. Какаду, а очень мы неуклюжие?
В общем, после веселья как похмелье горькое. Передо мной они какие есть. У меня один ответ:
– Болео! Болео супер!
Свободная нога Элизабет колеблется вдоль пола. И нога Валенсии то же самое, только на высоте.
– Выше! Супер, сказал!
– Изволь, милый!
– Не вижу!
– Убери нервы, Какаду!
– Принято. Барридос! – не унимаюсь.
И сдвигаю по очереди мокасином их каблучки, это знак. Да просто сбиваю нетерпеливо – не я, нога моя.
– Грубишь!
Сердятся, вращаясь одна за другой, как заведенные. Нет, остановились и за свое опять:
– Какаду, мы правда ведь незнакомы. Если столько лет не виделись.
– Знакомиться не обязательно, вы танцевать приехали.
– Тоже считаем. Во вред даже. Тем более прошлым знакомством по горло сыты, извини. Лучше не вспоминать.
– А то, не дай бог, забудем, зачем приехали!
Наперебой они. Только заткнуть скорей, продыху не дать:
– Хиро!
Послушно обходят меня кругами, как пони, а куда деться, и я кручусь волчком, моя теперь очередь.
Втроем в репетиционной. И до упаду. На ногах уже не стоим, на которых танцуем. А гармошки всё наяривают, подгоняют. Из компьютера бандонеоны, но здесь будто оркестр, в углу вон том или в этом, или, может, за спиной, только невидимый. А за окнами ни огонька, тьма кромешная.
– Так всю ночь и будем?
– Будем. Барридос!
Тут сбой. Жизнь вторгается.
– Валенсия, бледная ты. Отдохнешь, как?
– Да не устала я, с чего ты?
– Тогда я устала, всё.
Это между собой они. И на пол прямо повалились, сели.
– Спасибо, Элизабет.
– Твоя всегда. Какаду, минута. Засекай.
На часы всерьез смотрю:
– Пошла.
Сидят, ноги вытянув, и вены друг у дружки рассматривают.
– Да ну, у меня хуже еще было, убрала. С хирургом повезло.
– Дашь?
– Твой, считай.
– А как мы?.. Ты вообще где, в городе каком?
Обнимаются, развеселились. Валенсия, как всегда, без улыбки, как-то у нее получается. Еще украдкой меня разглядывают и шепчутся, обсуждают, какой я.
– Какаду, да ты сам колченогий!
– Иди в города играть!
– К нам, Какаду!
Одна жизнь другую отодвинула, и главная какая, не понять уже. Ведь они еще и меня к себе затянули, за брюки стали тащить, и сложился я, на полу уже с ними, всё. И пальцем, как в гипнозе, вожу по венам Элизабет вслед за Валенсией, вот так даже.
А потом еще потянули и вообще между собой положили, я и не заметил. И две женских головы вдруг с обеих сторон на груди, ладонями к себе их прижимаю. И удивляться поздно.
– Вы чего это, стеснительные?
– Мы того это. Мы тебя в плен заманили, чтоб не убежал.
– С ума, что ли, сошли?
– Сойдем, если завтра не танцуем.
– Да кто ж мешает?
– Ты. Вот ты. Не знал, что мы такие стали. Не ожидал. И теперь задний ход. Думаешь, как ноги скорей унести. Что, не так?
И возразить не получается.
– Молчи. Все равно соврешь. Знаем.
Силюсь подняться – припечатывают опять к полу. Лиц не вижу, только какая разница, кто да что, если одно и то же они.
– Какаду, послушай. Вот ты даже не сомневайся. Сейчас так-сяк, но мы день и ночь будем, костьми ляжем, да вот хоть здесь прямо сдохнем, понял ты?
– Понял ты, что уже обратно никак, раз приехали? Значит, правда уже того… на свалку пора? А мы сможем, Какаду. Получится, обещаем. Да мы тебе клянемся, вот так даже!
Прикрываю губы их ладонями, в моей еще власти. Кусают пальцы, не всё сказали.
– Слышал, мы клялись?
– Еще бы.
– Эй, а глаза мокрые вдруг чего?
– Нет.
– Неужели плачешь?
– Я люблю вас.
Тут они замирают ненадолго.
– Соврал все-таки, ха-ха.
– Помните, мы вот так лежали давно?
– А как же. Дуры две голые. Но это были не мы, точно.
В следующее мгновение я оказываюсь на ногах, потому что они беспощадным рывком выдергивают меня с пола. Не сговариваясь, мы расходимся по углам и начинаем самозабвенно чертить на паркете фигуры. И это тоже наш разговор между собой. Вместо слов у каждого отдельная партия, своя особенная дорожка шагов, перебежек и вращений.
Вот закручиваюсь в тугой спирали, лица партнерш мелькают, сливаясь в одно. Это сошлись они в объятии, и я не сразу понимаю, что нежность их смертельная, и на самом деле Элизабет с Валенсией в ненависти душат друг друга. Не веря, подскакиваю и пытаюсь разнять, но тангеры, расцепившись, приходят еще в большую ярость, просто в неистовство. Теперь они машут отчаянно кулачками, повизгивая попеременно от боли и от удачных попаданий. И еще отвратительно таскают одна другую за волосы. В конце концов перекидываются на меня и, позабыв о вражде, тоже хватают за волосы, валят на пол и топчут каблуками, причем каждая желает обязательно лично отметиться, то есть нанести свой собственный точный удар.
Происходит все мгновенно, в полном молчании, я не верю.
Бегут к двери. Обернувшись, Элизабет все-таки кричит Валенсии:
– Я заставлю тебя улыбаться!
И меня не забывает:
– Это ты ей на рожу замок повесил!
Рифмую в ответ поневоле:
– Ты на передок себе замок!
И Валенсия с проклятием успевает:
– Воровка!
Выскакивают одна за другой, хлопает дверь. И я, когда выходил, тоже от души хлопнул.
А в “Шератоне” ночи среди ночи нет: снизу из зала музыка, по этажам полуголые тангеры с кавалерами в бабочках, всё приплясывая. И я, пока по коридору иду, между ними искусно лавирую, тоже танец. Одна чуть с ног не сбивает, без кавалера, но с подушкой в обнимку в чужой номер спешит.
Сделав круг по этажу, возвращаюсь опять в репетиционную, и тут же следом Элизабет является, а за ней и Валенсия. Порознь они, но обе одинаково спокойные, с безмятежными лицами, и как ни в чем не бывало.
– Кунита? С переходом в кортадо, как? И плавно в сакаду? Вспомним, рискнем? – предлагает Валенсия.
– Я тоже подумала. Без куниты никак. Не перейдем. Хоть так, хоть этак, а все кунита, давайте, – соглашается Элизабет.
– Вспомним, придется, – подтверждаю я.
Все-таки было или нет, что друг дружку избили и меня заодно? В танце сходимся, расходимся, и опять близко, три лица стиснуты, и я смотрю, насквозь прожигаю, а в глазах тангер нежность одна. Нет, не может быть. Не было.
Закончили фигуру. На месте встали и стоим, обнявшись. Шепчет Валенсия:
– Не верю, что мы это сделали. Вот не верю.
И Элизабет в волнении к себе прижимает:
– Живые еще, живые. Дорогие мои. Ну, лиха беда начало!
– Вы только не отвлекайтесь больше, – напоминаю я.
– Нет, что ты! Даже не думай! Мы прощения просим! Обещаем!
Чуть не плачут, растроганные. Но только разомкнули объятия, оказалось, еще сильнее во вкус вошли.
– А чего вот стоим, непонятно? Дальше давайте! – требует Валенсия.
Элизабет на меня смотрит:
– Готов, Какаду?
– Есть сомнения?
Они бросаются на свои исходные позиции, только и ждали. Начинают сближение, глаза горят. И по очереди взлетают ввысь с раздвинутыми ногами, как обещано. Одна при этом стонет, другая рычит даже. Кажется, остаются под впечатлением от своих полетов, потому что разом вдруг затихают и уже в полной тишине завершают композицию на паркете.
И так же без слов потом выкатываются за мной в коридор, идут по пятам, не отставая, чуть не шаг в шаг.
И в номер даже ко мне следом пытаются войти. Я преграждаю путь:
– Э, нет. Полчаса, милые, чтоб я по вам соскучился.
– У нас полчаса?
– Всё про всё. И ни минутой больше.
Открываю уже дверь, они всё у меня за спиной, не уходят.