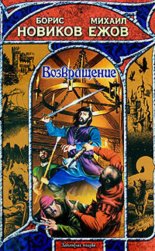Милый Ханс, дорогой Пётр Миндадзе Александр

– Из Саранска он, уроженец Мордовии. Сейчас в командировке по соседству тут в Угловом, в рабочем там общежитии.
Пётр настойчиво меня при этом к двери подталкивал в соседнюю комнату. Но гостья еще спросить успела, на щеку мою показав:
– А это у него такое чего?
– Производственная травма, – не соврала Наташа со вздохом.
– И все молчит в тряпочку!
– Немой братишка, такой вот, – развел руками Пётр.
Девушка прямо в восторг пришла:
– Немой хорошо. Не узнает никто!
Она все хохотала, облокотившись на скатерть, звенели даже рюмки на поминальном столе. И вдруг в мгновение ока я оказался у нее в руках. Каким-то чудесным образом сам включился проигрыватель, быстрые пальчики гостьи пластинку завели, и вот хохотушка уже вела меня в танце. Но тут же и выяснилось, что с виду только такая она шальная, от скромности своей и зажатости, и это куда мне понятней было, чем русский язык. Я пальпировал ее худые ребра, и бедняжка деревенела все сильнее и смущалась, волнуясь по-настоящему. В конце концов уже чуть не плакала, избегая встречаться со мной живыми глазами. И тут же Пётр грубо довольно наши объятия разомкнул:
– А денек-то, того… ну, для танцев не очень подходящий.
Партнерша моя к рюмкам опять приземлилась и сказала голосом звонким:
– А Зойка рада была бы, вот рада! Она танцевать сильнее всего любила!
Пётр воспользовался, что я свободен временно, и скорее втолкнул в эту самую соседнюю комнату.
Тащил и притащил, зачем? Комната как комната, клетушка, кроватки две влезают еле. Дети Петра сопели во сне, свет лунный сквозь шторы на лица пробивался.
Пётр на детей кивнул: “Видишь, как у тебя, двое тоже”.
И мой сразу вопрос: “Тебя вызывали уже?”
Пётр и не понял, от жестов отвыкнув.
Пальцы мои пробежались по спинке детской кроватки: “Приходили уже к тебе, да или нет?”
Он махнул мне: “Сядь, садись”.
Я кое-как присел в тесноте.
– Да или нет? – спросил, забывшись, по-немецки, волновался.
Брат-близнец сидел, схватившись за голову. И на луну отвлекся: “Луна, плохо. Подстрелят. Могут”.
Показал, как подстрелят, пока бежать обратно буду. Жест отработан был: палец к виску, моему теперь. И головой замотал: “Нет. Не было никого. Тихо всё”.
“Хорошо, если тихо”.
Усмехнулся Пётр, глаза блеснули: “Страшней еще”.
Мы замолчали. Дети сопели, один похрапывал даже.
Пётр ко мне придвинулся, на лице мука была: “А вдруг они?.. Не знаю, выдержу или нет, боюсь”.
И засмеялся громко, кукиш показал: “Вот им!”
Я смеяться тоже стал, показывать. Макушку свою демонстрировал: “Лопатой меня огрел!”
“Я?”
“Ты. Забыл?”
Дети от нашего буйства притихли и опять засопели.
Пётр поднялся, я удержал: “Посидим. Посидим еще”.
И мы всё сидели, потеряв счет времени, и дети под опасной луной мирно сопели. Я понял, зачем Пётр меня привел.
Кулачок в стену простучал, гостья о себе напомнила:
– Где вы там, эй? Ухожу я!
Нет, мы не слышали.
Вернулись когда, Наташа в комнате за столом уже была одна и улыбалась Петру своему, за которого в огонь и в воду, а мне даже приветливо особенно, гость все-таки.
И внезапно лицо рыжей на глазах кривиться стало, морщиться, и я отчаяние на нем вдруг разглядел, ненависть прямо. И кашлять стала, а на самом деле это она так рыдала, кашляя и ладонями не прикрываясь:
– Зачем, ну зачем они сюда к нам? Мы жили хорошо, так хорошо! И приехали! Боже мой, зачем они!
От кашля ее я попятился. Ни слов, ни жестов не надо было, чтобы понять. И в секунду ту же в руки гостьи опять угодил – и на счастье свое, точно. За спиной моей у двери спасительница стояла, из тьмы уличной вдруг возникнув:
– Я боюсь одна!
И без слов опять обошлось. Тотчас я девушку хитрую обнял, провожатого изображая и уловке ее только радуясь.
На той же улочке жила, в двух шагах, ясное дело. Прошла в калитку, увлекая за собой. И сразу я влетел губами в ее неумело раскрытый рот, сама мне обернулась навстречу.
На крыльцо поднялись, и она дверь нетерпеливо в дом отпирала, громыхая связкой ключей. Опять обернулась, поцелуями стала осыпать, чмокая по-детски ртом. Я, как мог, отстранялся безгласно, в планы не входило.
И вдруг замерла она, к груди плоской мое лицо прижала чуть не как мать:
– Бедный мой! Как тебя?
Я откликнулся, поддавшись:
– Ханс. Почему бедный?
– Уж не знаю почему!
Шептались мы по-немецки. Я вырвал у нее свою голову, отскочил, очнувшись. Пошел, пятясь, к калитке. Она смеялась:
– У меня в школе по языку пятерка была!
Бежал по улочке мимо заборов. Она следом из калитки выпрыгнула, за мной даже бросилась, в раж свой шальной привычно войдя:
– Ханс, подожди! Куда ты, Ханс, глупый! Да ты сам еще вернешься, увидишь! Сам! Ханс, Ханс!
Но тут немецкую речь лай перекрыл, теперь собаки за мной мчались, стая целая. И одна злая особенно оказалась, лютая просто. Сзади наскакивала, лапами в спину толкала, повалить пытаясь. И я в ужасе так припустил, прыть проявил вдруг такую, что угнаться никто не мог, невозможно было. Ни собакам, ни девушкам даже шальным.
И вот по железке товарняк как по заказу гулом накатывает, приближаясь вовремя. И я перед паровозом проскакиваю, перед мордой его самой со звездой. И по шоссе спокойно шагаю уже, ночь бестолковую отсекая, всё.
Но рычание и лязг зубов вдруг за спиной, увязалась опять сука эта лютая, надо же. Одна за мной теперь с клыками своими, полюбила, не иначе. А я шагом иду, как шел, нет сил бежать. Ноги вязнут в мягком, видно, уложенном только асфальте, иду и навечно следы оставляю. И она сзади трусит лениво, проклятая. За пятки пастью прихватывает, одежду рвет в свое удовольствие.
И навстречу еще люди как раз из-за поворота, прохожие вдруг в ночи. Люди как люди, и оружия нет при них, рабочие такие же с виду, только вот выправка военная и шаг четкий слишком. И в кювет я падаю как подкошенный, словно подстрелили. Лицом вниз лежу бездыханный, и гравий от их ног сверху сыпется, когда мимо тяжело идут.
А сука проклятая все время на спине у меня, что интересно. Распласталась, прикрывает будто. Перевернувшись, обнимаю ее, что не выдала. А она в ответ мою щеку бедную лижет, как Грета.
Прижимаю к себе пасть страшную, в ухо собачье шепчу:
– Грета!
И потом, по тропкам к заводу пробираясь, сам уже с тревогой оглядываюсь, не отстала ли. И в темноте зову, из виду потеряв:
– Грета, Грета!
А шахматисты за партией своей всё сидели. По-другому время шло, не иначе.
Вилли встретил как спасителя, охотно уступая место:
– Садись-ка! Она же ненасытная! Пусть тебя теперь слопает!
Грета взглянула на меня и впрямь плотоядно и уже расставляла на доске нашу партию.
– Одно условие непременное, – объявил я, усаживаясь.
– Всё для тебя, о мой Ханс!
Я поднес палец к губам.
– Что значит?
– Значит, молчим в тряпочку.
– А чего как немой?
– Понимаешь лучше.
– Глупости. Но принято, – кивнула она.
И довольно долго слово держала, молча двигая по доске фигуры. Глаза при этом горели, губы приоткрывались почти в экстазе, предвкушая близкую победу. Я, как мог, сопротивлялся, делал вид.
Только не шахматы были в гроссмейстерской этой головке.
– Старики потом вспоминают женщин, которые их правда любили, – вдруг сказала с горечью. – И жалеют, что прошли мимо, очень жалеют.
– Ты о себе?
– О тебе, конечно.
Я стал смеяться, сбивая невыносимый пафос:
– Бессильно вспоминают в бессильной старости? Но каждую в отдельности и подробно?
– Вот-вот, именно. Ты, вижу, понял.
Я пожал плечами:
– Надо еще ухитриться стать стариком, в чем все дело.
Грета махнула рукой с пешкой, которую только что у меня съела:
– Ну, это самое простое, дорогой. Не успеешь оглянуться.
– Ошибаешься, – сказал я.
Она оторвалась даже от доски, почуяв неладное.
– Ну-ка? То есть?
– Не дожить можно. Не дожить, о моя Гретхен!
Грета смотрела на меня внимательно. Не понимала, о чем я, да и я, может, не совсем понимал. Партия наша встала, перейдя в эндшпиль.
И тут она с ненавистью метнула в меня ту самую съеденную пешку, не зря до сих пор в руке держала.
– Ханс, не доживешь, точно! Собаки жопу порвут!
Трудно отрицать что-либо было, сидя в драных штанах.
Я вернул Грете пешку, ведь поймал ее ловко:
– Что ты, дура, во мне нашла?
– Тебя, – отвечала она, глядя в глаза.
Капитулировать только, что же еще оставалось. Я молча перевернул своего белого короля, положил плашмя на доску. И, оставив партнершу в замешательстве, пошел к себе.
Я был уже в койке, когда от страшного удара допотопный крючок слетел с двери, и в комнату вихрем ворвалась Грета, кто же еще. В руке был мой поверженный белый король, она мне его гневно демонстрировала:
– Ты некорректно закончил партию, это первое! Ушел от борьбы, имея все шансы к спасению, это неуважение к партнеру, ко мне, в конце концов!
– Уже был полный капут, не сердись, – оправдывался я.
– Комбинация перед носом стояла, не ври! – закричала Грета. – А что хамски не пожал партнеру руку, это как?
– Партнерше. Будет еще второе? – спросил я.
При свете луны, светившей мне опасно всю ночь, милое лицо Греты некрасиво ощерилось.
– Да. Второе. Немец, ты поплыл, слышишь меня? Мне это видно. Позорно расклеился и поплыл, причем в неизвестном направлении! И я не позволю тебе, не позволю!
– Как немка?
– Именно! Да! Я не позволю тебе на чужбине, как немка!
Ярость такая была, что она метнулась ко мне, пытаясь королем ударить в глаз. Едва не окривев, я перехватил ее руку и по-борцовски перевел соперника в партер. Одноместная койка со скрипучими пружинами к любовным утехам не очень располагала. Но король уже перекочевал ко мне в руки и скоро доблестно оказался там, где по тайным предчувствиям Греты должен был оказаться я сам. Она лежала на спине с раскрытым ртом и ойкнула жалобно в свое время, как природа подсказала. Потом на бок отвернулась, спиной ко мне, замолчав.
– Сам видишь, Ханс. С ума ты сошел.
– Важен результат.
– Свинья, свинья ты, Ханс.
– Ну, белый же он, ариец. Не черный какой-нибудь негр, – не согласился я.
Она села в койке, заткнув уши, чтобы не слышать мои гадости. И ловко перескочила через меня на пол, в себя уже пришла. Достала изящный портсигар со свастикой, гордость, видно, свою. Закурив, встала у окна и выдувала дым в форточку.
– Ты обрекаешь меня на одиночество, ты это понимаешь, о мой Ханс?
Я успокоил:
– Сомневаюсь, что ты можешь быть одинока. Просто не будешь, поверь.
– Нет, я, конечно, вернусь к Маттиасу. И вступлю в партию, в НСДАП, так думаю.
– Вот видишь. Отличный выбор.
Она снова подошла, присев на край койки. И под луной уже улыбалась.
– А, кстати, как тебе пилотка Маттиаса, вернее, я в его пилотке? К лицу, правда?
– Просто в самый раз.
– Хвастаюсь, извини.
– О чем тогда речь, о моя Гретхен?
– Это и есть одиночество, – сказала она серьезно.
И больше ничего не сказала, сидела рядом отвернувшись.
– Перестань, – сказал я.
От того, что тихая была, не плакала, совсем тоскливо стало. Я на нее прикрикнул даже:
– Хватит, Грета! Перестань! Хватит, я сказал!
И тут же, услышав свое имя, рядом совсем, под окном, тоже Грета залаяла, другая.
Утром ехали на печь по визжащим нестерпимо рельсам, уже музыкой нашей стал визг этот, гимном. И с нами вечно всегда, даже когда не ехали. И во сне с узкоколейкой не расставались, в голове прямо была проложена со всеми своими зигзагами.
В пути я с удивлением обнаружил, что коллеги мои общаются исключительно знаками, причем увлеченно и почти самозабвенно. Предмет разговора был куда скучнее их жестов и уморительных ужимок: речь шла о предстоящей варке, о том, что сейчас или никогда, и даже о стойкости немецкой нашей породы, всегда проявляющей себя именно в трудный момент.
Меж тем, без сомнения, это был привет мне от Греты, сугубо личное ее послание. Она же, в конце концов, под общий смех и призналась, подчеркнуто на меня не глядя:
– Ханс немую заразу принес, это Ханс откуда-то!
Мы всё кружили замысловато и бесконечно по заводской территории, иной раз вкатываясь даже в цеха, чтобы снова потом выбраться наружу. С утра пораньше солнце светило ярко, июньский день все удлинялся на неминуемом пути к короткой самой в году ночи. Ученые наши конвоиры только рады были бестолково-долгой дороге, держа всех нас скопом на виду. А мы, привыкнув, уже даже не замечали их вежливого присутствия.
И вот, визжа, мы выехали опять из цеха на открытое пространство, поравнявшись с другой дрезиной. Такой же прицеп с пассажирами полз параллельным курсом по соседним рельсам, и мы внезапно рядом с этими людьми оказались близко совсем. Люди были как люди, только в робах почему-то одинаковых и с номерами, и ученые наши сразу не на шутку всполошились. А нас, наоборот, радость вдруг бурная охватила от внезапной близости, причем и тех и других, на обоих прицепах. Мы хохотали без причины и тянулись навстречу друг другу, пытались даже пожимать руки, чуть уже на ходу не братаясь. И махали долго вслед, когда узкоколейка снова нас развела, и люди нам тоже махали со своего прицепа.
Оказалось, расставались ненадолго, мудро узкоколейка свои кружева плела. Внезапно они снова из-за деревьев к нам выкатились и рядом поехали. Но во второй раз радость меньше была, мы помахали еще и совсем перестали. Что-то ушло уже, что было вначале, и мы просто стояли и смотрели друг на друга. И конвоиры успокоились, и ученые наши, и их, неученые, зато со штыками.
И будто Отто очки там у них в толпе на прицепе сверкнули, разглядел я. И Вилли, показалось, усы мелькают, точно. Ну, и Грета там у них тоже своя была, со взором пылающим таким же, только бледная очень. И себя отыс-кал я, в малом одном признал невыразительном, лет сорока. В сторонке стоял, притулившись, вроде сам по себе он и без сил уже совсем. Но с натяжкой признал: нет, не Пётр, конечно, стоял, не близнец мой. До Петра малому далеко было.
Грета о себе забыть не дала, заметив вдруг с укором и все так же на меня не глядя:
– А собака твоя по шпалам, между прочим!
Обернулся: бежит, так и есть. Бежит и бежит. На всю жизнь приклеилась, господи.
Печь и впрямь стояла после ремонта как новенькая, глазам не верил. Я спустился в свое подземелье к топке и, как обычно, приветствовал Петра легким пинком в зад. Такое панибратство между нами уже ритуалом было и бодрило даже перед работой. Иной раз и он меня пинал, подкравшись, и это еще приметой нашей стало такой суеверной, но на сей счет молчали. А скорее всего, радостью просто, что вот опять встретились: здравствуй, это я!
Сейчас я впотьмах напарника подстерег, моя очередь была. Пётр, упав на четвереньки, обернулся, и я увидел, что он не Пётр совсем, а другой какой-то человек, незнакомый.
Я стоял опешив, и человек сам махал мне, успокаивая, пока поднимался:
– Ерунда, Ханс. Хорошее знакомство.
– А Пётр? – спросил я.
Он тоже спросил, стряхивая угольную пыль:
– Кто такой?
– Но вы же знаете, что я Ханс!
– Но не знаю Петра!
– Он работал тут со мной.
– Правда?
– Тут, вот прямо тут!
– Ну, значит, нет Петра, – развел руками человек. – Вы замечаете, что мы разговариваем по-немецки? Как вам мой язык, кстати? Не очень? Я из немцев поволжских, тех, еще екатерининских. И профессиональный стекловар, не думайте!
Болтал без умолку этот екатерининский, или кто он был. Я не слышал.
– Где Пётр, где?
Схватил за ворот, стал трясти, хоть ничего не вытрясти было, понятное дело.
– Не знаю где! Какой Пётр? Начальство распорядилось, чтоб я к вам немедля! Не сам, начальство! Язык тем более! Не знаю вашего Петра! А я вот он! Или возражаете, что я тут с вами?
Вдруг стекловар в одно мгновение профессионально скрутил меня, вывернув руку, я простонал даже, согнутый в три погибели. Тут же, впрочем, он и отскочил, испугался сам, что рефлекс сработал.
– Извиняюсь. Так получилось.
Кто он, что, мне все равно было, большой человек этот с лицом младенца. Не Пётр он был.
– Ладно, квиты. Запускай. Варка через час.
– Будьте уверены.
Он устал от меня и с явным облегчением схватился за лопату. Махал бешено, как заведенный, забрасывая уголь в мертвую еще топку.
Шел, бежал, из цеха в цех перемещаясь. В каждом Пётр мерещился, в каждом. Телогрейки за рукава дергал, в лица заглядывал. Пока самого не дернули, не развернули с силой, и я увидел перед собой усы Вилли.
– Куда?
– За Петром.
– А где он?
– Ищу.
Хоть мог и не искать, уже понимал. Но остановиться тоже не мог.
Вилли догнал опять.
– Ханс, за тобой шакалов туча, ну, хвостов этих, ты натворил чего?
– А чего я?
– Только с Гретой?
– Да, я был король, – не соврал я.
Доволен собой Вилли был, кулаком себя даже в грудь ударил:
– Ай да Вилли!
Едва за мной поспевал, бубнил рядом:
– А я за самогоном наладился, местный один носит, деваться куда? Злыдень горючее совсем перекрыл, с ума сошел! – Он показал, кто злыдень, профессора очки, конечно. И опять схватил меня: – Ханс, смотри, да их что перхоти на башке, твоих этих. Чего такое серьезное, эй, Ханс?
И смотрел я, зря головой крутил:
– Где, где? Не вижу!
Вилли смеялся:
– А ты и не должен. Они тебя.
– А ты их как?
Он в грудь себя опять треснул:
– Вилли!
Пьяный путь его с моим совпал. Отскакивал Вилли и возвращался, хмурясь все сильнее:
– Не он, не он! Пропал мой спаситель!
Шли, бежали напрасно, глазами по сторонам шаря. Так в цех и ворвались, где женщины только одни за длинными столами у приборов сидели. В халатах белых, платки на головах. Линзы перед ними в тисках сияли, и работницы в глазки приборов в линзы эти строго вглядывались. И еще полировали нежные сферы вручную тряпочками.
Получалось, весь путь стеклянный от начала до конца самого мы проделали, от топки угольной до чистоты этой аптечной и сияния. И ходили теперь меж столов на цыпочках без цели, и Вилли ненароком спин женских ручищами своими касался. И так же вышли тихо, будто и не входили, не было нас.
И Вилли сразу про самогон вспомнил, опять побежал куда-то, спаситель ему все чудился. Вернулся совсем уж грустный.
– Пропал!
– Ты или он?
– Оба.
Я догадался:
– Пропал, потому что ты наладился?
Усач бросил на меня быстрый взгляд:
– Так, может, и Пётр?.. И Пётр, ты потому что…
И, словно вдруг забыв обо мне, двинулся дальше один путем своим замысловатым, ему только ведомым. Нет, еще обернулся:
– Ханс, ты не забыл о Мёлле? О нашей рыбалке в августе?