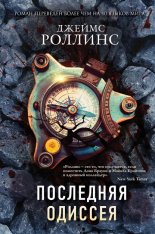Запри все двери Сейгер Райли

Раздается скрип резиновых колесиков по полу. Кто-то движется.
Из-за тумана в голове я не могу отстраниться, когда кто-то берет мою руку в свою, сухую и грубую. Я приподнимаю веки и вижу Грету Манвилл в кресле-каталке. Она выглядит маленькой и слабой. Под бледной кожей проступают вены. Она похожа на привидение.
– Я не хотела, чтобы это была ты, – говорит она. – Ты должна это знать.
Я закрываю глаза и ничего не говорю. У меня нет на это сил.
Грета чувствует это и заполняет тишину.
– На твоем месте должна была быть Ингрид. Так мне сказали. Во время собеседования она показала свою медкарту. И оказалась подходящим донором. Но потом она сбежала, осталась только ты. Еще один подходящий донор. У меня не было выбора. Либо ты, либо верная смерть. Я выбрала жизнь. Ты спасла меня, Джулс. Я всегда буду тебе благодарна.
Я открываю глаза лишь затем, чтобы устремить на нее гневный взгляд. Она одета в больничную рубашку, как и я. Свето-голубого цвета. Такого же, как обои в спальне 12А. На воротник кто-то приколол золотую брошку, такую же, как у Марджори Милтон.
Уроборос.
Я вырываю руку из руки Греты и кричу, пока не засыпаю вновь.
47
Я просыпаюсь.
Засыпаю.
Просыпаюсь снова.
Туман частично развеялся. Теперь я могу двигать руками, шевелить пальцами на руках, я чувствую укол капельницы и неприятное присутствие катетера. Я ощущаю также, что в комнате со мной кто-то есть. Чужое присутствие протыкает пузырь моего одиночества, как осколок кожу.
– Хлоя? – зову я, отчаянно надеясь, что это был всего лишь кошмар. Что, открыв глаза, я окажусь на диване у Хлои и буду страдать из-за предательства Эндрю и переживать насчет поисков работы.
Я смирюсь с этими переживаниями.
Более того, я буду им рада.
Я повторяю ее имя. Словно загадываю желание. Если я буду повторять его снова и снова, может быть, оно сбудется.
– Хлоя?
– Нет, Джулс, это я.
Мужской голос, знакомый и ненавистный.
Я открываю глаза – мое зрение помутилось из-за лекарств. Через дымку я вижу, что рядом с койкой кто-то сидит. Постепенно мне удается сфокусироваться.
Ник.
На нем новая пара очков. В простой черной оправе вместо черепаховой. Под правым глазом синеет огромный синяк. Там, где я его пнула. Я бы не отказалась поставить другой такой же под левым глазом. Но я могу лишь беспомощно лежать на месте.
– Как самочувствие? – спрашивает Ник.
Я молча смотрю в потолок.
Ник ставит на прикроватный столик стакан с водой и бумажную чашечку. Внутри нее лежат две маленькие белые таблетки.
– Это облегчит боль. Мы не хотим, чтобы ты страдала. В этом нет никакой необходимости.
Я по-прежнему молчу, хотя мне и вправду больно. В животе у меня пульсирует острая непрекращающаяся боль. Я ей рада. Боль – единственное, что отвлекает меня от страха, злости и ненависти. Если она утихнет, я погружусь в трясину тяжких чувств, из которой я уже, скорее всего, никогда не выберусь.
Боль дает ясность мыслей.
А ясность мыслей дает шанс выжить.
Поэтому я все-таки прерываю молчание, чтобы задать вопрос, на которой мне не хватило сил вчера.
– Что вы со мной сделали?
– Доктор Вагнер и я вырезали твою левую почку и пересадили ее той, кто в ней нуждался. – Он не называет имя Греты, как будто я не знаю, о ком идет речь. – Рядовая операция. Все прошло без осложнений. Тело реципиента прекрасно приняло орган, и это замечательные новости. С возрастом вероятность отторжения значительно возрастает.
У меня хватает сил задать еще один вопрос.
– Почему вы это сделали?
Ник смотрит на меня с любопытством, словно никогда раньше не слышал этого вопроса. Я гадаю, сколько доноров до меня упустили возможность его задать.
– Обычно мы предпочитаем, чтобы доноры оставались в неведении. Так лучше для всех. Но в этой ситуации, думаю, не будет вреда, если я развею некоторые твои заблуждения.
Последнее слово он произносит с явной неприязнью. Как будто это моя вина, что Ник вынужден его произнести.
– В 1918 году разразилась эпидемия испанского гриппа, унесшая жизни более пятидесяти миллионов человек по всему миру, – говорит Ник. – Для сравнения: жертвами Первой мировой войны стали меньше семнадцати миллионов человек. В одной лишь Америке испанка забрала больше полумиллиона жизней. Будучи врачом, Томас Бартоломью каждый день сражался с болезнью. Он видел, как она уносит жизни друзей, коллег и даже родных. Перед испанкой все были равны. Она не щадила никого. Ни бедных, ни богатых.
Я помню ту ужасную фотографию. Тела слуг на тротуаре. Наброшенные сверху покрывала. Грязные подошвы ног.
– Чего Томас Бартоломью не мог понять, так это почему миллионеры подвержены болезни в той же степени, что и никчемные арендаторы. Разве состоятельные люди благородного происхождения не должны быть более устойчивы, чем ничтожества, не имеющие ни гроша за душой и ровным счетом ничего из себя не представляющие? Он решил, что его долг – построить убежище, где важные люди смогут жить в комфорте и роскоши, а он меж тем будет оберегать их от недугов, которыми страдают низшие слои общества. Так и родился Бартоломью. По воле моего прадеда.
В моем сознании, мутном от боли и от снотворного, прорезается воспоминание. Мы с Ником сидим в столовой, болтаем за пиццей и пивом.
Все мои предки, начиная с прадеда, были хирургами.
Вслед за ним приходит другое воспоминание. Мы на кухне, Ник измеряет мое давление и задает вопросы. Когда я рассказала о своем имени, он подтвердил очевидное: Ник – сокращение от «Николас». Но своей фамилии он так и не назвал, ни тогда, ни позднее.
Но теперь я ее знаю.
Бартоломью.
– Мечта моего прадеда оказалась скоротечной, – говорит Ник. – В первую очередь он хотел найти способ защитить жильцов от новой вспышки испанского гриппа. Но все пошло не по плану. Некоторые из тех, кого он хотел уберечь, заболели. Некоторые даже умерли.
Он ничего не говорит про слуг. В этом нет нужды. Я знаю, кем они были.
Подопытными кроликами.
Невольными участниками экспериментов сумасшедшего доктора. Заразить бедных, чтобы вылечить богатых. Не вышло.
– Когда произошедшим заинтересовалась полиция, прадед решил, что безопасней всего будет оборвать расследование, не дав ему начаться, – говорит Ник. – Он покончил с собой. Но уроборос не умирает. Он перерождается. Поэтому, закончив обучение, мой дедушка решил продолжить дело своего отца. Конечно, он был осторожней. Скрытней. Вместо изучения вирусов он решил заняться продлением жизни. Вместе с богатством приходит власть. Власть придает значение. А по-настоящему важные люди заслуживают жить дольше, чем отбросы общества. Особенно сейчас, перед лицом новой эпидемии.
Рассказ явно придает Нику сил. На лбу у него скапливается пот. Глаза сверкают за стеклами очков. Не в силах усидеть на месте, он встает и начинает расхаживать по палате, мимо Моне к двери и обратно.
– Прямо сейчас, в это самое мгновение, сотни тысяч людей ждут очереди на пересадку органов, – говорит он. – Многие из них – важные люди. Очень важные. Но им говорят занять очередь и ждать вместе с остальными. Но некоторые не могут ждать. Каждый год восемь тысяч человек умирают, не дождавшись спасительного органа. Только вдумайся, Джулс. Восемь тысяч человек. В одной только Америке. Я, как и мои предки до меня, предоставляю выбор тем, кто слишком важен для того, чтобы ждать вместе со всеми. За определенную плату мы позволяем им пропустить очередь.
О чем он умалчивает, так это о судьбе неважных людей.
Таких, как Дилан.
Как Эрика и Меган.
Как я.
Все, что требуется, – одно скромное объявление. Нужно присмотреть за квартирой. Хорошая зарплата. Звоните Лесли Эвелин.
А потом мы просто исчезаем.
Сотворение, рождающееся из нашего разрушения.
Жизнь, рождающаяся из нашей смерти.
Вот что значит уроборос.
Не бессмертие, а отчаянная попытка отсрочить неизбежную встречу со Жнецом.
– Корнелия Суонсон, – говорю я. – Кто она такая?
– Пациентка, – отвечает Ник. – Это была первая попытка пересадить орган. Она закончилась… неудачей.
Ингрид и я все неправильно поняли. Мари Дамьянова, Золотая Чаша и поклонение дьяволу тут ни при чем. Нет никакого оккультного сообщества. Просто группа богачей, готовых на все, чтобы продлить свою жизнь. А Ник им помогает.
Я переворачиваюсь на бок, не обращая внимания на боль. Она того стоит – я больше не могу смотреть на Ника. Но все-таки не могу удержаться от еще нескольких вопросов.
– Что еще вы собираетесь забрать?
– Твою печень.
Ник говорит об этом совершенно невозмутимо. Словно не считает меня живым человеком.
Я гадаю, о чем он думал той ночью в своей спальне, когда я позволила ему поцеловать себя, потом раздеть, потом трахнуть. Тогда он тоже глядел на меня как на кусок мяса, прикидывая, сколько на мне можно заработать?
– И кому она достанется?
– Марианне Дункан, – говорит он. – Ей нужна новая печень. И срочно.
– А еще что?
– Твое сердце. – Ник делает паузу. Надо полагать, пытается пощадить мои чувства. – Для дочери Чарли. Он это заслужил.
Я так и думала, что у людей вроде Чарли должна быть веская причина оставаться в Бартоломью. Теперь я знаю какая. Типичная уловка богачей. Сделай нашу грязную работу, чтобы получить что-то взамен.
– А Лесли? Доктор Вагнер?
– Наша миссис Эвелин искренне предана миссии Бартоломью, – говорит Ник. – Ее покойный муж получил новое сердце еще при моем отце. Когда мистер Эвелин скончался – на несколько лет позже, чем ожидалось, смею заметить, – она предложила свои услуги. И, само собой, она будет первой в очереди, если ей когда-нибудь потребуется моя помощь. Что касается доктора Вагнера, то он просто хирург. Прекрасный хирург, который около двадцати лет назад заявился на работу пьяным и потерял лицензию. Мой отец, которому из-за растущего спроса требовался помощник, сделал доктору Вагнеру предложение, от которого тот не смог отказаться.
– Мне тебя жаль, – говорю я Нику. – А еще я тебя ненавижу, но не так сильно, как ты ненавидишь себя сам. Я в этом уверена. Иначе ты не смог бы этим заниматься.
Ник похлопывает меня по ноге.
– Неплохая попытка. Но не пытайся вызвать во мне чувство вины. Лучше выпей таблетки.
Он берет бумажный стаканчик и протягивает мне. У меня хватает сил выбить его у Ника из рук. Стаканчик падает на пол, а таблетки катятся в угол.
– Прошу тебя, Джулс, – вздыхает Ник, – не становись проблемным пациентом. Время, что ты проведешь здесь, может быть либо спокойным, либо крайне неприятным. Тебе решать.
Он быстро поднимается и уходит, оставляя таблетки лежать на полу. Их подбирает Жаннетт, которая заходит в палату минутой позже, одетая все в ту же форму медсестры и серый кардиган, совсем как в тот день, когда мы говорили в подвале.
Она кладет на поднос новые таблетки. Когда она наклоняется, чтобы подобрать те, что валяются на полу, из кармана у нее падает зажигалка. Жаннетт сдавленно матерится и поднимает ее.
– Либо пей таблетки, либо готовься к уколу, – говорит Жаннетт, запихивая зажигалку обратно в карман. – Как хочешь.
Выбор невелик, учитывая, что цель в любом случае одна, и это вовсе не облегчение моей боли.
Они хотят меня усыпить.
Ослабить.
Чтобы я не сопротивлялась, когда придет время новой операции.
Я смотрю на таблетки – два крошечных белых яйца в бумажном гнезде – и вспоминаю родителей. У них тоже был выбор – продолжить безнадежную борьбу или принять забвение по доброй воле.
Теперь такой же выбор стоит передо мной. Я могу бороться и проиграть, и последние дни моей жизни будут, как выразился Ник, крайне неприятными. Или же я могу поступить так, как поступили мои родители.
Сдаться.
Склонить голову.
Больше никакой боли. Никаких проблем. Никаких тревог, отчаяния, постоянных мыслей о Джейн. Только глубокая, беспробудная дрема, в которой меня ждут родные.
Я поворачиваю голову и смотрю на их лица, искаженные трещинами в стекле.
Разбитое стекло. Разбитая семья.
Я смотрю на них и понимаю, какой выбор следует сделать.
Я беру бумажный стаканчик и кладу таблетки в рот.
Спустя четыре дня
48
Они держат дверь закрытой. И запертой снаружи. Когда я просыпаюсь, что случается нечасто, то слышу, как щелкает замок, прежде чем кто-то заходит в палату. А в нее заходят все время. Мою дрему то и дело нарушают.
Сначала доктор Вагнер, который проверяет мое самочувствие и дает мне таблетки, а также смузи на завтрак. Я послушно кладу таблетки в рот. Смузи оставляю на месте.
Потом приходят Жаннетт и Бернард и болтают друг с другом, меняя мне повязки, катетер, пакет из капельницы. Из их разговоров выясняется, что про это место мало кто знает. Только они, Ник, доктор Вагнер и ночная медсестра, у которой большие проблемы после того, как мне удалось встать и выйти из палаты незамеченной.
Здесь три палаты, и на данный момент все они заняты – редкое событие, как говорит Жаннетт. В одной из них лежу я. В другой – Грета. В третьей – мистер Леонард, которому всего несколько дней назад пересадили новое сердце.
Ни Жаннетт, ни Бернард не упоминают имя Дилана, но я и так понимаю, откуда взялось новое сердце. От одной только мысли о том, что оно теперь зашито в груди ветхого и дряхлого мистера Леонарда, мне приходится закусить кулак, чтобы не заорать.
Когда я наконец засыпаю, в глазах у меня стоят слезы.
Они никуда не деваются, когда меня, не знаю через сколько, будит Грета Манвилл. Дверь открывается, и вот она здесь – больше не в кресле-каталке, а на ходунках. Она выглядит заметно лучше. Не столь бледной, как в прошлый раз, и более энергичной.
– Я хотела тебя проведать, – говорит она.
Хотя я едва в сознании из-за таблеток, злость позволяет мне выдавить несколько слов.
– Пошла к черту.
– Я не горжусь тем, что сделала, – говорит Грета. – Тем, что делала вся моя семья, начиная с бабушки. Ты умна и наверняка обо всем догадалась. За бабушкой последовали мои родители. Наследственная болезнь почек. Обоим моим родителями потребовалась пересадка. Когда пришла моя очередь, я вернулась в Бартоломью, зная его предназначение. Его грехи. Ты сурово меня судишь, я знаю. Я это заслужила. И заслужила также твою ненависть и жажду моей кончины.
Туман рассеивается. Ненависть и злость подарили мне минутную ясность мыслей.
– Я хочу, чтобы ты прожила очень долгую жизнь, – говорю я. – Многие, многие годы. И чтобы каждый день своей жизни ты думала о том, что совершила. А когда тело вновь начнет тебя подводить – а оно начнет, не сомневайся, – я хочу, чтобы украденная частичка меня продлила твои страдания. Потому что ты не заслуживаешь смерти.
Выбившись из сил, я опускаюсь на матрас, словно в зыбучий песок. Грета по-прежнему стоит рядом.
– Уходи, – шепчу я.
– Одну минуту. Я зашла не просто так, – говорит она. – Завтра меня выписывают. Я вернусь в свою квартиру. Доктор Ник говорит, это поспособствует выздоровлению. Я зашла, чтобы сказать тебе об этом.
– Зачем?
Грета семенит к выходу. У самой двери она смотрит на меня в последний раз и говорит:
– Думаю, ты знаешь зачем.
И я действительно знаю, хотя и не сразу это осознаю. Если ее выписывают, значит, палату сможет занять кто-то другой.
Может, Марианна Дункан.
Может, дочь Чарли.
А значит, завтра меня здесь уже не будет.
49
Я засыпаю.
Я просыпаюсь.
Бернард, в яркой униформе и уже с недобрыми глазами, приносит мне ланч и таблетки. Я не в состоянии есть самостоятельно, поэтому он усаживает меня, как куклу, кладет под спину подушки и кормит с ложечки супом, рисовой кашей и чем-то, похожим на пюре из шпината.
От таблеток я становлюсь вдруг удивительно болтливой.
– А ты откуда? – спрашиваю я заплетающимся языком, словно пьяная.
– Не твое дело.
– Знаю, что не мое. Но интересно же.
– Ничего я тебе не скажу, – отвечает он.
– Скажи хотя бы, ради кого ты все это делаешь.
– Замолчи.
Бернард сует мне в рот ложку с кашей, надеясь меня угомонить. Я глотаю кашу и вновь подаю голос.
– Ты делаешь это ради кого-то, – говорю я. – Вот почему ты здесь, а не в нормальной больнице, верно? Они пообещали, что помогут кому-то из твоих близких? Как с Чарли?
Еще ложка каши. Но я не проглатываю ее, а продолжаю говорить, пока она стекает у меня по подбородку.
– Ты можешь мне рассказать. Я не стану судить. Когда моя мама умирала, я бы сделала все что угодно, чтобы ее спасти. Все что угодно.
Бернард колеблется, а потом шепчет:
– Это мой папа.
– Какой орган ему нужен?
– Печень.
– Сколько осталось жить?
– Мало.
– Очень жаль. – Слова слипаются в одно. Как комки каши. Очжаль. – Твой папа знает, чем ты занимаешь?
Бернард хмурится.
– Конечно, нет.
– Почему?
– Хватит вопросов.
– Я понимаю, ты не хочешь зря его обнадеживать. Потому что однажды ты можешь оказаться здесь. Кому-то богатому, знаменитому и важному понадобится почка. Или печенка. Или сердце. Если под рукой не окажется никого вроде меня, они разрежут тебя.
Я вяло поднимаю руку и указываю на Бернарда. Спустя мгновение моя рука вновь падает на одеяло, потому что я не могу долго удерживать ее на весу.
Бернард кидает ложку на поднос и отодвигает его.
– Довольно.
– Не сердись, – говорю я невнятно. – Я же просто предупреждаю. Твой с ними договор. Он долго не продержится.
Бернард дрожащими руками сует мне бумажный стаканчик.
– Заткнись и глотай таблетки.
Я кладу их в рот.
50
Спустя какое-то время меня будит Жаннетт, которая отпирает дверь и приносит еще еды и таблеток.
Я смотрю на нее сонными глазами.
– А куда подевался Бернард?
– Ушел домой.
– Из-за того, что я сказала?
– Да. – Жаннетт ставит передо мной поднос. – Ты слишком много болтаешь.
На ужин мне дают то же самое, что и на ланч. Суп. Шпинат. Кашу. От таблеток мне ничего не хочется. Жаннетт едва удается скормить мне немного супа. Открывать рот для шпината я и вовсе отказываюсь.
А вот каша мне по душе. Когда Жаннетт зачерпывает ей ложкой, я охотно открываю рот. Но, стоит ей поднести ложку, как я вдруг передумываю. Сжав губы, я капризно отворачиваюсь.
Ложка врезается мне в щеку, разбрызгивая кашу по плечу и шее.
– Ну что за напасть, – бормочет Жаннетт, хватая салфетку. – Прости меня, господи, но я не огорчусь, когда тебя не станет.
Я лежу неподвижно, пока она наклоняется надо мной и вытирает салфеткой. Сон снова грозит утянуть меня в свои объятия. Я почти задремала, когда Жаннетт толкает меня в плечо.
– Выпей таблетки, – говорит она.
Я открываю рот, и Жаннетт кидает в него таблетки по одной. Потом я засыпаю, сжав кулаки, погружаясь в наркотический туман, пока в моем сознании не воцарятся покой и умиротворение.
Когда я слышу щелчок замка, то жду. Не дыша. Считая секунды. По прошествии минуты я просовываю пальцы глубоко в рот и извлекаю таблетки. Они размякли и деформировались от слюны.
Я сажусь, вздрагивая от боли, и поднимаю подушку. Под наволочкой есть дырка, которую я проковыряла вчера, после разговора с Ником. Я засовываю таблетки внутрь, к остальным. Восемь маленьких белых таблеток, которые мне дали за день.
Я кладу подушку на место и ложусь. Потом разжимаю кулак и смотрю на зажигалку, которая выпала из кармана у Жаннетт, пока она меня вытирала.
Дешевая пластиковая зажигалка. Продается на любой заправке за доллар. У Жаннетт в сумке наверняка есть еще парочка.
Этой она не хватится.
51
Я откидываю одеяло в сторону и сажусь, не обращая внимания на то, что мне больно даже дышать. На животе саднят три ряда швов.
Я медлю, прежде чем поставить ноги на пол.
Не уверена, что вставать – хорошая идея. Не уверена даже, что смогу встать. Я будто разваливаюсь на куски. Мышцы ослабли за то время, что я была без движения. По руке, из которой я вырвала катетер, бежит кровь. Сделать это было особой пыткой. Оставшаяся на память о нем тупая боль контрастирует с острой болью от швов.
Но я все же пытаюсь встать, предварительно задержав дыхание. И вот я на ногах, хотя они и грозят вот-вот подкоситься.
Я делаю шаг.
Еще.
И еще.
Я бреду через комнату, и пол подо мной качается, словно палуба корабля во время шторма. Я качаюсь вместе с ним, шатаясь из стороны в сторону, пытаясь не упасть. В конце концов мне приходится схватиться за стену.
Но я все-таки иду, и мои суставы похрустывают, словно скорлупа под только что вылупившимся цыпленком. Этот звук провожает меня до двери, которая, как я и думала, оказывается заперта.
Так что я возвращаюсь к койке и беру с прикроватного столика фотографию своей семьи. Прижимаю ее к груди, а другой рукой хватаю зажигалку Жаннетт.
Щелкнув зажигалкой, я подношу огонек к простыне. Она моментально загорается, и огонь начинает быстро распространяться. Пламя достигает одеяла, и оно тоже загорается. За ним следует матрас. Языки пламени ползут все дальше – последними вспыхивают подушки.
Прищурившись, я наблюдаю, как пламя охватывает всю постель. Огненный прямоугольник.
Затем, как я и рассчитывала, включается пожарная сигнализация.
52
Первым на звук сирены прибегает доктор Вагнер. За ним следует Жаннетт. Они открывают дверь и врываются внутрь. Жаннетт кричит при виде горящей койки, пламя с которой грозит перекинуться на стены и потолок.
Заглядевшись на огонь, Жаннетт и доктор Вагнер не замечают меня, стоящую прямо за открытой дверью.
И не замечают, как я выскальзываю наружу.
Когда они все-таки оборачиваются, уже слишком поздно.
Я закрываю за собой дверь и быстрым движением руки запираю ее на замок.
53
Я иду так быстро, как только могу – то есть довольно медленно. С каждым шагом мне приходится преодолевать острую непрекращающуюся боль. Но счастье уже, что я вообще могу сама передвигаться.