Русское Резерфорд Эдвард
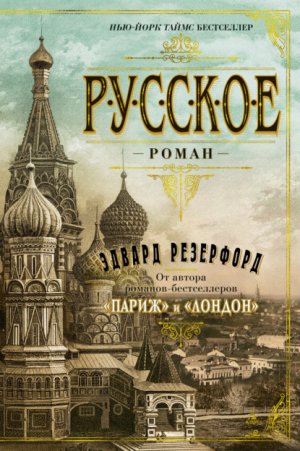
Она нахмурилась. Куда же запропастился мальчишка? Она обернулась и крикнула свекрови:
– Можно мне уйти поискать Кия? Он куда-то пропал.
Дородная старуха, почти не прерывая жатвы, бесстрастно взглянула на Лебедь и ее ни на что не годного братца. Потом покачала головой, мол, работа не ждет.
– Сходи спроси у старух, не видели ли они его, – тихо пробормотала она Малу.
– Хорошо.
И он послушно зашагал – размеренно, не торопясь – к краю поля.
Мал всегда забавлялся, сравнивая житье-бытье сельчан. Век мужчине выдавался, может быть, и насыщеннее, но короче. Рос парень и набирался сил – при этом либо худел, либо полнел. А когда силы покидали мужчину, тот попросту умирал. Но женщинам была уготована другая доля. Сначала, белокожие и стройные, грациозные как лани, они расцветали, а потом, все без исключения, толстели: сперва раздавались в бедрах, как его сестра, затем в поясе, выпуклым становился живот. И так неизменно все тучнели и округлялись, загорелые от солнца, напоминая формами кто грушу, кто яблоко, год за годом, пока те из них, что повыше ростом, не обретали величественности и дородности – как вот свекровь Лебеди. Но постепенно, не утрачивая своей уютной округлости, начинали жены умаляться, все уменьшаясь и уменьшаясь в размерах, и вот в старости окончательно усыхали, словно маленькое коричневое ядрышко в ореховой скорлупке. И вот сухонькая бабка, с морщинистым загорелым лицом и сияющими голубыми глазами, будет влачить старушечье свое существование еще много лет, пока так же просто, как упавший с ветки орех, не канет в сырую землю. Такова судьба всех женщин. Настигнет она, в конце концов и его сестрицу Лебедь. Глядя на старух, Мал всегда ощущал нежность и сочувствие.
На краю поля сидели рядком три бабушки. С доброй улыбкой он по очереди обратился к каждой из них.
Лебедь смотрела издали, как он говорит с ними, и удивлялась, почему так долго. Наконец он вернулся, ухмыляясь.
– Старые они, – пояснил он, – разум у них немного помутился. Одна говорит, вроде видела, как он возвращался в деревню вместе с другими ребятишками, другая думала, он на реку пошел, а третья – что в лес убежал.
Лебедь вздохнула. Она и представить себе не могла, что бы это Кию делать в лесу, и сомневалась, что он мог уйти на реку. Остальные дети вернулись в избу под надзор одной из девиц. Может быть, и он с ними.
– Сходи посмотри, не убежал ли он в деревню, – попросила она.
А поскольку это означало отложить работу, Мал с радостью зашагал прочь.
За жатвой женщины продолжали петь. Лебедь любила эту песню: пусть даже медлительная и скорбная, она была так прекрасна, что, напевая ее, женщина забывала о своих тревогах:
- А кто землю пашет,
- Тот в нее и ляжет,
- Смерть придет-нагрянет,
- Лиха неминуча.
- Ни огонь, ни вода,
- Ни залетные ветра,
- Только мать сыра земля
- Приберет свое дитя.
Женщины медленно продвигались вперед длинной чередой, нагибаясь, чтобы срезать тяжелые ячменные колосья. Когда их серпы рассекали буреющие стебли, над полем слышался тихий свист, шуршание и шелест. Тонкая пыль от упавшего ячменя стояла над землей легким, благоуханным облачком. И Лебедь, как это часто бывало, охватило чувство умиротворения и одновременно печали, словно какая-то часть ее души погибла навеки, не в силах вырваться из плена этой медлительной, тяжелой жизни, из великого безмолвия бескрайней равнины: печаль она ощущала оттого, что из монотонного, однообразного этого бытия не было исхода, а умиротворение – оттого, что пребывала среди своих родичей и жила так, как всем от века назначено.
Мал вернулся не скоро. Он улыбался обычной своей глуповатой улыбкой, но ей показалось, что она заметила в глазах его тревогу.
– Он там?
– Нет. В деревне его и не видели.
Как странно! Она-то решила, что Кий ушел с остальными, и тут забеспокоилась. Она снова обратилась к свекрови:
– Кийчик куда-то запропастился. Позволь мне пойти его поискать.
Но старуха только взглянула на нее не без презрения:
– Дети вечно куда-то пропадают. Придет, никуда не денется.
А потом добавила, уже более злобно:
– Пусть твой братец его поищет, что ж ему без дела-то маяться.
Лебедь с грустью наклонила голову.
– Сходи на реку, вдруг он туда убежал, – попросила она.
На сей раз она заметила, что брат зашагал быстрее.
Работа двигалась споро. Женщина знала, что вот-вот наступит время полуденного отдыха. И подозревала, что ее свекровь нарочно задерживает их и не пускает отдохнуть, чтобы никуда она, Лебедь, не ушла. Она оторвалась от работы, подняла голову и устремила взгляд на бесконечный горизонт. Теперь он словно издевался над нею – насмешливо, под стать ее свекрови: «Ничего ты не сделаешь; как боги распорядятся, так и будет». Она снова склонилась над полосой.
На сей раз Мал вернулся быстро. Вид у него был обеспокоенный.
– Нет его на реке.
– Ты уверен?
Он-де столкнулся со стариком, вместе с которым ходит на охоту, и тот все утро пробыл на берегу реки. Уж точно старик бы заметил Кия, если бы он там объявился.
Она почувствовала укол страха.
– Думаю, он ушел в лес, – предположил Мал.
В лес. Он никогда не забредал туда один, только с нею. Она в ужасе уставилась на брата:
– Что ему там делать?
– В толк не возьму.
Он явно лукавил, но было ясно: выспрашивать, почему он обманывает, не стоит.
– В какую сторону он мог пойти?
Мал задумался. Он вспомнил, как опрометчиво сказал мальчику этим утром: «Как туда добраться? Идти на восток. Далеко-далеко на восток. Но я туда и за день доберусь».
– Может быть, он на восток пошел, – покраснев, произнес Мал. – Куда – я и сам точно не знаю.
Она бросила на него презрительный взгляд:
– На, возьми. – Она сунула ему в руки серп. – Жни! – приказала она.
– Да это ведь бабья работа, – запротестовал он.
– Жни знай, дурак! – закричала она на него и зашагала к свекрови, а ее товарки, видевшие эту сцену, расхохотались. – Отпусти меня Кия искать! – снова взмолилась она. – Мой брат отправил его в лес!
Ее свекровь поначалу даже не удостоила ее взглядом, но посмотрела на дальний конец поля. Мужчины там прервали работу, и несколько из них, включая мужа Лебеди и деревенского старейшину, шли по направлению к ним.
– Пора роздыху! – объявила она женщинам, а потом бросила Лебеди: – Можешь идти!
Когда к ним подошли муж и старейшина, Лебедь кратко объяснила им, в чем дело. Старейшина, крупный, седобородый человек с маленькими глазками, в которых словно навеки поселилось нетерпение, не выказал особого сочувствия. Но ее муж, более мягкий и участливый, озабоченно наморщил лоб. Он вопросительно взглянул на старейшину:
– А не пойти ли и мне тоже?
– Мальчишка объявится. Не мог он уйти далеко. Пусть она его ищет, – произнес старейшина скучающим тоном.
Она заметила, как на лице мужа на миг изобразилось облегчение. Она все понимала и не винила его, ведь ему надо было позаботиться о других женах и детях.
– Я пойду, – тихо сказала она.
– Если не вернешься после роздыха, я сам за тобой пойду, – с улыбкой пообещал муж.
Она кивнула и отправилась на поиски.
Как же приятно, как покойно было в лесах! В вышине, в сияющем голубом небе время от времени проплывали пышные белоснежные облака, поблескивая в лучах полуденного солнца. Они пришли с востока, из-за зеленого леса, из неизвестно каких бескрайних, исстрадавшихся без влаги степей. На опушке леса, по которой шагал мальчик, ветер нежно наклонял высокие травы, и они шелестели под его дуновением, словно перешептываясь. С полдюжины коров паслись в тени, то тут, то там перебиваемой солнцем.
Прошло уже немало времени с тех пор, как Кий ускользнул от старух. Сейчас он весело шагал по знакомой тропинке, которая вела в чащу. Опасности он не чувствовал.
Все утро он размышлял о медвежонке. Его дяде Малу было точно известно, где тот прячется – в сказочном царстве далеко-далеко на востоке. И разве он не сказал, что добраться туда может за день? Но Кий, как бы мал он ни был, отчего-то точно знал, что дядя его туда не пойдет. И чем дольше он об этом раздумывал, тем больше убеждался, что знает, как поступить.
По мере того как долгим утром становилось теплее, поле, на котором работали женщины, все сильнее мерцало от жары. Кий бродил без цели туда-сюда, вялый и ко всему равнодушный, пока наконец, как в тумане, словно следуя мановению чьей-то невидимой руки, не побрел прочь и не обнаружил, что шагает в сторону лесов.
Он знал дорогу. «На восток» означало двигаться от реки по тропинке, по которой мать и другие женщины ходили за грибами. А придет время, и снова все отправятся по этой тропинке – по ягоды. Именно с востока приплывали белые облака.
Он не знал, долго ли ему идти; но если его дядя мог добраться туда за день, то и ему это было под силу.
«Ну, может быть, за два дня», – храбро подумал он.
И вот, в белой рубахе, перехваченной полотняным поясом, в лаптях из березового луба, все еще сжимая в кулачке ячменный колос, сорванный на поле, маленький пухленький мальчик двинулся по тропинке в сосновый лес с детской мечтательной решимостью.
Примерно в двухстах саженях тянулись чередой маленькие полянки, куда женщины ходили за грибами, – в укромной тени росли грибки целыми россыпями, – и Кий довольно улыбнулся, дойдя до этого места. Дальше грибных полян он никогда не заходил, но теперь уверенно углубился в лес.
Узенькая тропинка вела вниз по склону, то по опавшей сосновой хвое, то по узловатым корням, а потом вновь шла в гору, сквозь подлесок. Он заметил, что среди дубов и буков сосны стали попадаться реже, зато начали встречаться ясени. Белки опасливо следили за ним с деревьев. Одна, у самой тропинки, хотела было скакнуть прочь, но передумала и вместо этого принялась внимательно разглядывать его, сидя на задних лапках и похрустывая какой-то беличьей снедью. Через некоторое время лес поредел. Все шорохи и шелесты словно бы затихли. Тропинка здесь заросла травой. Еще несколько саженей – и тропинка повернула направо, потом налево. Показалась еще одна небольшая сосновая рощица.
Маленький Кий блаженствовал. Его переполнял восторг: ведь он решился на подвиг и проник в неведомые земли.
Он прошел немногим более половины версты, когда тропинка сузилась, заведя его под густую лиственную завесу. Мальчик стал пробираться дальше, и деревья сомкнулись у него за спиной, потянуло сырой прелью.
И тут прямо перед ним внезапно блеснуло темное озерцо.
Было оно невелико, примерно десяти аршинов в ширину и тридцати в длину, и все окружено деревьями. Ничто не тревожило поверхности водоема. Однако, пока мальчик разглядывал водную гладь, слабое дуновение ветра подняло на воде едва заметную рябь. Набежавшая волна устремилась к ребенку и с чуть слышным плеском лизнула берег, черную землю и заросли папоротника.
Кий знал, что это значит. Он осторожно оглядел заводь и ее окрестности.
Наверняка тут обитают русалки, и, если не остеречься, того и гляди выплывут из глубины и защекочут до смерти. «Берегись русалок, Кий, – шутливо предупреждала его мать, – ты такой смешливый, оглянуться не успеешь, как они тебя на дно уволокут!»
Не спуская глаз с поверхности воды, мальчик стал обходить опасный омут и очень обрадовался, когда тропинка повела его прочь от обиталища русалок. Вскоре густой лес сменился дубовой рощей. Тропинка вилась между деревьями, пока не вывела его на большую пустую поляну. Справа виднелась купа берез. Кий остановился.
Какая тишина вокруг! А над ним – высокое голубое небо, пустое и безмолвное. В какую же сторону ему идти?
Он подождал несколько мгновений, пока над поляной не проплыло облако. Кий внимательно проводил его взглядом, пытаясь понять, куда его уносит.
Путь на восток лежал прямо перед ним. Он снова зашагал.
И тут ему впервые захотелось, чтобы кто-то пошел вместе с ним. Несколько раз он окидывал взглядом поляну, надеясь, что мать его нагонит. Ему казалось совершенно естественным, что она должна внезапно появиться рядом с ним. Но она не показывалась.
Он снова углубился в лес. Тропинка исчезла; на короткой траве под буками, кажется, не протоптали дорожек ни люди, ни звери. Лес был пуст, и это было странным. Он замер в растерянности. Не повернуть ли ему назад? Знакомое поле и реку он словно бы оставил позади давным-давно. Неожиданно ему очень захотелось обратно, домой. Но тут же вспомнился тихий омут, мимо которого ему предстоит пройти, а там стерегут его русалки.
Деревья теперь росли тесно; пугающие и неприступные, они уходили ввысь и закрывали небо, так что в просветах между древесными кронами едва виднелись крохотные участки голубизны, словно гигантскую голубую чашу неба грубо разбили на тысячи осколков. Кий поднял глаза к этим голубым осколкам и снова помедлил. Но как же медвежонок? Нет, он не сдастся. Маленький мальчик закусил губу и двинулся вперед.
И тут ему почудилось, будто услышал он матушкин голос:
«Кий, мальчик мой, – казалось, позвала она его, и слова ее негромким эхом разнеслись по чаще. – Кий, ягодка моя!» Она умоляла его вернуться. Личико ребенка озарилось улыбкой: а вот она, матушка. Он обернулся.
Но ее за спиной не было. Он прислушался, уже сам позвал ее, еще раз прислушался.
Его окружало безмолвие. Слегка подул ветер, листья зашелестели, верхние ветви неуклюже закачались. А что, если это не она звала его, а всего-навсего стонал ветер? Или это дразнят его русалки, живущие в омуте?
Он печально побрел дальше.
По временам тоненький луч солнца, проникая сверху, поблескивал в светлых волосах ребенка, прокладывавшего себе путь по лесу, под высокими деревьями. Иногда ему мнилось, будто за ним следят чужие глаза, а вдали, в глубокой тени, притаились и подстерегают его странные существа, безмолвные, бурые и серые; но как ни оглядывался он, как ни озирался, ничего не мог приметить.
Но в следующий миг он чуть было не бросился назад.
Ведь, когда он в очередной раз остановился, всматриваясь в полутьму и пытаясь понять, что же там мелькнуло, внезапно над головой его раздался громкий, хриплый, зловещий крик, а когда он обернулся в ужасе, темная тень обрушилась сквозь листву в вышине у него над головой.
– Баба-яга! – вне себя от страха вскрикнул он.
Что ж, было чего пугаться. Все дети боялись ведьмы Бабы-яги. Того и гляди прилетит по небу в ступе с помелом, схватит длинными тощими руками, вцепится когтями, утащит всех без разбора, мальчиков и девочек, унесет к себе в избушку на курьих ножках и съест. Того и гляди… В ужасе, как завороженный, он глаз не мог отвести от страшного зрелища.
Но оказалось, что это всего-навсего птица. Шумно хлопая крыльями, камнем упала она сквозь листву, ломая ветви в вышине.
Но потрясение оказалось невыносимым. Мальчика охватила дрожь. Он расплакался, сел на землю и стал снова и снова громко звать мать. Однако мгновения тянулись, долгие и безмолвные, ничто не нарушало покоя лесной чащи, и он замолчал и постепенно успокоился.
Это была всего-навсего птица. Что часто повторял ему дядя? «Охотнику в лесу бояться нечего, Кий, если он осторожен. Только детям и женщинам в лесу бывает страшно». Он медленно встал и нерешительно побрел дальше, сквозь темный лес.
И только спустя некоторое время он заметил, что слева открывается вид на иную местность, где деревья росли не так густо, а свет легче пробивался сквозь древесные кроны. Вскоре Кию показалось, что этот новый лес озарился золотистым сиянием, и, привлеченный этим сказочным светом, он стал пробираться к нему через чащу.
Там было теплее. Верхушки деревьев уже не уходили в поднебесье. Ноги утопали в сочной высокой траве. Попадались кочки, поросшие мхом. Он ощутил прикосновение жаркого солнца к своему лицу, услышал жужжание мух и почувствовал, как его укусил крохотный комарик. На душе у него сделалось светлее. Из-под ног у него метнулась малюсенькая зеленая ящерка и исчезла в траве.
Он так обрадовался, попав в это приветное место, что сперва даже не замечал, в какую сторону идет.
На самом деле, сам того не ведая, Кий шел уже почти час, и время приближалось к полудню. Он по-прежнему не ощущал ни голода, ни жажды, а от радости, что выбрался из темного леса, позабыл об усталости. Оглядываясь, он теперь уже не различал темного леса; более того, когда он описал полный круг, залитое солнцем место показалось ему незнакомым и странным. Поблизости поблескивали под солнцем стволы берез. Маленькая птичка, сидя на ветке, пристально глядела на него, словно от жары не в силах была вспорхнуть и улететь; внезапно и он, утомленный палящим солнцем, почувствовал, будто попал в сказку. Впереди подлесок становился гуще, виднелись низкие заросли камышей.
И тут он увидел сияние.
Свет лился откуда-то из-под земли, из-под спутанных клубком древесных корней. Внезапная вспышка этого яркого света заставила его зажмуриться. Кий сделал шаг, чтобы рассмотреть его получше. Свет, льющийся из-под земли, не ослабевал. Мальчик подошел совсем близко, и тут его осенило.
«А вдруг, – подумал он, – так можно попасть на тот свет?»
Наверняка это возможно, недаром славянское слово, которым жители деревушки именовали потусторонний мир, звучало совершенно так же, как слово, обозначающее сияние, солнечные лучи, блики огня. А Кий знал, что домовой и другие предки обитают под землей. Вот и здесь, в таинственном месте, сияние исходит откуда-то из-под земли. Что, если там и вправду лежит дорога на тот свет?
Подойдя поближе, он обнаружил, что источник света – это струйки крохотного, полускрытого от глаз ручья, там, где на них падают лучи полуденного солнца. Ручей вился по подлеску, то пропадая в какой-нибудь впадине, то вновь появляясь в высокой траве неподалеку от того места, где исчез. Однако этот свет, хоть и отражался от маленького ручейка, не делался менее волшебным в глазах мальчика. Более того, когда он разглядывал сияющую поверхность ручья, поблескивающие стволы берез, густую пышную траву, его посетила другая мысль, еще более волнующая. «Я дошел до тридевятого царства, – подумал он, – вот оно какое!» Он наверняка добрался до ворот в сказочное, потаенное тридевятое царство, ибо есть ли на свете место, более волшебное и прекрасное, чем это?
Дивясь своей удаче, пошел он дальше вдоль русла речушки-невелички: сначала пробирался по кустам, а затем увидел два низких валуна, в расщелине между которыми рос куст ореха-лещины. Там он остановился и дотронулся до камней: они были теплые, почти горячие. Внезапно ему захотелось пить, он мгновение помедлил, опасаясь воды из волшебного ручья, но потом, когда жажда сделалась невыносимой, стал на колени в траву и зачерпнул прозрачной воды в ладони. Какая же она была чистая и сладкая!
Затем, желая лучше осмотреть местность, он принялся карабкаться на один из валунов. Прямо над ним выдавался небольшой выступ. Он пошарил рукой, стремясь ухватиться за что-нибудь и удержаться на камне.
Пальцы его сомкнулись вокруг змеи.
Он и сам не мог бы объяснить, как через мгновение оказался в полутора саженях от валуна, дрожа всем телом. Кий судорожно, конвульсивно подергивал головой, вертясь налево и направо, в страхе оглядывая деревья, ручей, валуны и пытаясь понять: вдруг и на них скрываются змеи и сейчас на него бросятся? Травинка коснулась его ноги, и он подскочил от ужаса.
Однако змея лежала на валуне неподвижно. Какое-то время он выжидал, его била дрожь. На земле ничто не шелохнулось, хотя высоко в небесах, не взмахивая крыльями, бесшумно парил канюк, высматривая добычу.
Когда любопытство пересилило ужас, мальчик снова принялся медленно взбираться на валун.
Змея была мертва. Она лежала на широком выступе, свернувшись кольцом. Голова у нее была размозжена, череп пробит, – может быть, это орел проломил ей голову клювом? Он понял, что это гадюка, ведь в его родных краях водились несколько видов этих тварей, и, хотя она уже не могла причинить ему вред, он невольно содрогнулся, глядя на нее.
Но, все еще глядя на ядовитую гадину, он внезапно понял нечто важное и, хоть страх его до сих пор не улегся до конца, немного успокоился и даже улыбнулся. Да, он и вправду попал в сказочное царство. Змея лежала в тени куста, который рос в расщелине между двумя валунами. А куст был ореховый.
– Значит, я смогу найти своего медвежонка, – произнес он вслух.
Ведь мертвая змея могла открыть ему одну из величайших тайн – научить его волшебному языку.
Волшебный язык был безмолвным. На нем говорили все деревья, травы и цветы, и даже некоторые камни и реки; случалось, что говорили на нем и звери. А овладеть этим потаенным языком можно было разными способами – об этом сказала ему не кто-нибудь, а его бабушка, а уж ей ли не знать? «Научиться этому языку можно четырьмя способами, Кий, мальчик мой. Если спасешь змею из огня или рыбу из сетей, они могут открыть тебе эту тайну. Или если найдешь в лесу в полночь в день летнего солнцестояния цвет папоротника. Есть и третий способ: если пашешь землю, найдешь лягушку и возьмешь ее в рот. А еще если найдешь мертвую змею под ореховым кустом, зажаришь ее и съешь ее сердце».
«Если я заговорю на языке деревьев и зверей, они скажут мне, где мой медвежонок», – подумал он. И, довольный, посмотрел на страшную змею. Незадача была только одна, как ее зажарить? Ведь огонь он развести не мог. «Может быть, – заключил он, – я смогу отнести ее в деревню».
Он не отводил глаз от змеи. Она лежала совсем рядом с ним и явно издохла совсем недавно. Если бы не размозженная голова, могло бы показаться, что она свернулась на камне, живая, и, чувствуя тепло нагретого солнцем камня сквозь подошвы лапотков, он подумал, невольно вздрогнув, что то же самое тепло ощущает и змея.
Нет, не дотащить ее до дома.
Но тут ему в голову пришла простая и утешительная мысль, перед его внутренним взором словно открылся широкий, свободный путь сквозь глухие леса. «Вернусь-ка я в деревню за дядей Малом. Он придет и поможет мне зажарить змею».
Вот так легко все устраивается. На миг ему показалось, что его странствия завершились и он уже благополучно вернулся домой. С облегчением Кий слез с валуна к ручейку, бегущему у его подножия, и повернул назад по своим же собственным следам вдоль русла этой маленькой речушки. Теперь, когда он возвращался из своего удачного похода, места, где приоткрылась для него дверь в тридевятое царство, представлялись ему уже не такими волшебными – скорее, знакомыми.
Прошло какое-то время, прежде чем он понял, что заблудился.
Повернув в лес у сияющей заводи, он шел, выбирая направление по проплывающим облакам. Так почему же тогда ему внезапно показалось, что это место он видит впервые? Деревья словно вытянулись и росли гуще, чем прежде. Впереди то там, то сям виднелись камни и кустарники, которых прежде он не встречал в лесу. Сейчас он обрадовался бы, даже если бы перед ним открылся вид на зловещую русалочью заводь. Он снова поднял голову, надеясь увидеть облака. Ему было невдомек, что с утра ветер постепенно менял направление.
И только тогда наконец маленький мальчик медленно поддался страху. Он все более и более ясно осознавал, что заблудился, и чем отчетливее это понимал, тем сильнее и сильнее охватывал его пронизывающий холод. Он остановился, посмотрел направо, посмотрел налево, увидел лишь бесконечные ряды высоких деревьев, уходящие во все стороны, и понял, что все безнадежно.
Ему не выбраться. Он позвал мать, четыре, пять раз прокричал ее имя. Но крики его затихли в лесу, замерли, никем не услышанные. Ему показалось, что сам этот день решил заманить его в ловушку, заточить в лесу под бескрайним голубым небом, а сейчас с насмешкой наблюдает за ним сверху. Может быть, он никогда не вернется домой. Заметив рядом поваленное дерево, мальчик сел рядом с ним. Прислонившись спиной к лежащему стволу, слишком расстроенный, чтобы двигаться дальше, он почувствовал, как на него нахлынула одна волна отчаяния, другая, и расплакался.
Он позвал на помощь еще дважды, но не получил ответа. Рядом с поваленным деревом рос большой гриб. Кий протянул руку и погладил его бархатистую шляпку, пытаясь хоть чем-то утешиться, а потом еще немного поплакал. Наконец его сморило от плача, голова отяжелела и опустилась на грудь.
Увидев своего медвежонка, он поначалу не мог понять, наяву это происходит или во сне.
Медвежонок явно отбился от матери и бежал вприпрыжку, непомерно большие лапы его заплетались на бегу, так что он поминутно спотыкался, торопясь нагнать медведицу. Медвежонок прошел всего саженях в десяти от того места, где сидел полусонный Кий.
Протирая глаза, Кий с трудом встал на ноги, ущипнул себя, чтобы убедиться, что не спит, и проводил медвежонка взглядом. Неужели он и вправду в конце концов нашел своего медвежонка? Он сам не верил своей удаче. Медвежонок еще не скрылся из виду, он спешил за удаляющейся бурой тенью, наверняка за своей матушкой. Бурое пятно исчезло за деревом.
Забыв обо всем на свете, мальчик бросился за ними. Им владела одна-единственная мысль: проследить, куда они идут. Вне себя от волнения, сбиваясь с ног, он кинулся вслед медведям.
Он бежал за ними сначала через лес, потом по поляне, затем через другой лес. Он и думать забыл о том, насколько ушел от дома. Время от времени он различал их очертания и застывал в страхе, что они его заметят. Но по большей части он шел на тот шум, хруст и шорох, который производили звери, то большими прыжками, то короткими перебежками пробираясь сквозь подлесок. Он не знал ни далеко ли он ушел от дома, ни как найдет обратную дорогу. Он слишком приблизился к своей вожделенной цели, чтобы думать о чем-то еще. Он нетерпеливо продвигался вперед.
Несколько раз он чуть было не потерял их из виду. Посреди дубовой или буковой рощи, которая казалась ему бескрайней, его внезапно обступало безмолвие. Он вдруг осознал, что вокруг него со всех сторон теснятся деревья, неотличимые друг от друга. Тогда он остановился, перешел на медленный шаг и брел так какое-то время, затем замер и наконец различил смутный шелест, долетающий откуда-то издалека.
Он не чувствовал опасности, ведь, увидев столько волшебных знамений: сокрытую заводь, свет в ручье, исходящий из потустороннего мира, змею под ореховым кустом, – он понимал, что день выдался волшебный и что духи леса ведут его к цели.
В очередной раз упустив медведей из виду и вслушиваясь в лесное молчание, он заметил справа, за завесой берез, яркое солнечное пятно и решил, что там скрывается поляна. Не побежал ли туда медвежонок? Кий двинулся в ту сторону.
И тут он заметил вспышку света среди деревьев впереди, не слишком высоко. Что-то поблескивало между нижними ветвями. Что именно – он не видел: частый березняк не давал разглядеть, но на этом блестящем предмете плясали солнечные лучи, перебегая то туда, то сюда и вспыхивая яркими цветами: красным, серебряным, золотым. Что же это может быть?
Внезапно, охваченный радостью, он понял, в чем дело. Кто же еще может обитать в лесах и так сверкать? Кто же еще может оберегать сокровища, которых так жаждут люди, и, само собой, в этот миг стережет его медвежонка? Кто же еще, как не редчайшее, прекраснейшее чудо из чудес лесных?
Только жар-птица.
Оперение у жар-птицы разноцветное. Оно сияет и переливается даже во тьме. У того, кто изловчится и вырвет из жар-птицыного хвоста длинное перо, исполнится любое желание. Жар-птица приносила тепло и счастье. Разумеется, медвежонок сейчас где-то рядом с ней и ждет Кия. Сияющий свет словно манил его, подзывал поближе.
Он двинулся вперед и остановился саженях в пяти. Разглядеть жар-птицу толком ему не удавалось, но она не улетала, а переливалась всеми цветами радуги, словно бы поджидала Кия. С негромким радостным криком мальчик кинулся на поляну.
Всадник, глядевший на него из-под стального шлема, был неподвижен. Обод шлема украшали несколько разноцветных драгоценных камней, они-то и сверкали на солнце, переливаясь, как жар-птица. Лицо у всадника было смуглое, с крупным орлиным носом. Волосы черной гривой ниспадали из-под шлема на плечи. А в черных, миндалевидных глазах застыл холод. За спиной у него висел длинный, изогнутый лук.
Маленький мальчик глядел на него, не отводя глаз. Этот воин, величественный и грозный, восседал верхом на вороном скакуне, кожаная сбруя коня была богато отделана. Конь его, пощипывавший траву в тени на опушке, лениво поднял голову и посмотрел на Кия.
Лицо всадника по-прежнему ничего не выражало.
И вдруг он камнем, точно хищная птица, бросился на ребенка.
Высоко-высоко в бескрайнем голубом небе тяжелое полуденное солнце беспощадно палило землю; впрочем, под слабым дуновением знойного ветра едва слышно перешептывались сухие, высокие, в пояс, ячменные колосья, которые раздвигала Лебедь, уходя с золотистого поля. Даже на лесной опушке пахло пыльным ячменем. Из-под ячменных колосьев выскользнула полевка и спряталась под древесным корнем.
Может быть, малыш просто забрел в тень под деревьями, на самой опушке? Лебедь шла и нежно звала-выкликала: «Кийчик, где ты, моя ягодка? Кийчик, где ты, голубчик?»
Пасущиеся коровы подняли головы, но даже не соизволили пошевелиться. Высоко в небе, над распростертым внизу полем, над лесной опушкой пролетел канюк, высматривая добычу. Кия не было.
Она пошла по тропке, ведущей на грибные поляны. В полуденном лесу царило то же безмолвие, что и в поле, а солнце пробивалось сквозь плотную древесную листву, врываясь в лесной полумрак резким, слепящим светом. Она снова позвала: «Кийчик, утенок мой! Ты где?»
На шее у нее висел на шнурке крохотный талисман, вырезанная из сосны фигурка уточки, давний материнский подарок. Она поцеловала амулет.
На полянах, где собирали грибы, Кия не было.
Дальше, к заводи. «А не упал ли Кийчик в омут? – подумала Лебедь. – Вдруг он там, под толщей неподвижной, темной воды?» Вгляделась в водную гладь, но маленького тельца под водой не увидела. «Да и с чего бы ему лезть в воду?» – успокаивала себя она.
Зов ее громким эхом разнесся по безмолвным лесам.
Тропинка привела ее на поляну. Еще и еще раз она звала его, надеясь, что сын откликнется. Не мог же маленький в самом деле уйти так далеко?
В дальнем конце поляны стеной стояли березы, и перед их белоснежными с черным стволами женщина замерла на миг, склонив голову. Береза – дерево священное, людям благоволит: попроси ее о помощи – не откажет. Теперь Лебедь точно знала, что идет на восток, и не догадывалась, что ее сын, не подозревая, что ветер переменился, побрел, следуя за облаками, в противоположную сторону, на запад. Пара волков, словно две бледно-серые тени, притаились возле дерева и пристально следили за ней. Сердце Лебеди застыло. Неужто Кий попался серому волку? Да нет, волк не нападет на человека теплым щедрым летом.
Она шла, в душе ее исподволь возникали смутные образы, неотвязные, неотступные, о них пели песни и говорили сказки – птицы радости и печали, вещие и опасные птицы. А то мнился ей огонь: дома, в печи, огонь греет да тешит; здесь, в лесу, огонь гонит да губит. Злой огонь и добрый слились в одно пламя – как его разделить?
И деревья то виделись ей добрыми стражами, что хранят, берегут дитятко и в урочный час вернут, а миг – и вот они чужие, темные, грозные. В дубовой роще почудился ей жалобный голосок, доносящийся откуда-то слева; прислушалась, и окликнула его в ответ, и снова прислушалась, а потом двинулась дальше.
Как будет она жить без него? Вот и опустеет местечко на полатях подле печи. Чем же утешиться, чем избыть пустоту? Мужем ли ей утешаться, его добротой? Нет. Другое дитя зачать? Видела своих односельчанок, потерявших дитя. Плакали, убивались, а потом смирялись. Рожали других детей, а бывало, хоронили и тех, рожденных взамен. Что ж, жизнь рода никогда не прервется. Но что с того, что род будет жить вечно, что это за утешение для матери? Случалось Лебеди испытывать и горе, и тревогу, как и любой рожавшей жене, но такого дикого страха она доселе не знала. Ужас терзал ее, причинял нестерпимую боль.
Взлететь бы, как Бабе-яге, под самый купол небес, окинуть бы взглядом и лес, и степь, и все, что движется внизу! Лишь бы отыскать сыночка, лишь бы вытащить его своими чарами, лишь бы вернуть домой!
День перешагнул за полдень, а она брела дальше на восток, и в голове ее бились две мысли. Виданное ли дело, чтоб малое дитя забралось так далеко, а значит, коли все еще жив, то блуждает в лесу совсем поблизости… Эх, знать бы где…
Вторая мысль была неизмеримо страшнее.
К востоку лес обрывался, открывалась новая беда – степь.
Ох, выходит Кийчик из-под защиты деревьев и стоит на открытом месте, средь высоких трав. Как спастись ему от палящего солнца? Травы поглотят его, не разглядеть, никогда не выберется он из степи. А сколько злого зверя гуляет по степным просторам? В лесу летом ни волк, ни медведь не опасны, к человеку милостивы, а в степи гадюки, дикие псы, да мало ли какая напасть маленького поджидает!
Лебедь вышла из леса и пошла по краю – между лесом и степью, все кричала и звала, чтобы было ее слышно и в степи, и в лесу. Далеко забрело дитя; может, устало, спит сейчас в тенечке, под защитой деревьев?
Перед ней, насколько хватало взгляда, раскинулась огромная, ничем не ограниченная равнина – степь. Безмолвие летнего полдня простиралось до горизонта и исчезало за ним. Свет точно свинцовой тяжестью падал на землю, чуть мерцающую под его палящими потоками. Островки пожухлой, но кое-где еще сохранившей зеленую свежесть травы и осоки обещали: скоро степь вступит в свои права. Дальше стелился ковыль – высокая трава с длинными, развевающимися по ветру соцветиями-метелками, которыми он покрывался весной, – и владениям его конца-краю не было. Сейчас эти выбеленные солнцем метелки сливались воедино, как будто над желтой дымкой иссушенных жарой трав лежал слой белого пуха. Дальше равнина казалась коричневатой, а еще дальше блестела в лучах солнца под линией горизонта, отливала сиреневым. Каждому, кто выходил из лесу на эту раскаленную равнину, представлялось, что степь молчит, таится, падает в непробудный сон, спасаясь от невыносимого зноя.
Но нет. Где-то у ног Лебеди в траве стрекотал кузнечик. Взлетел и парил в воздухе лесной жаворонок, храбро распевая в горячем небе. На опушке леса росли гиацинты и ирисы, уже увядшие от летней жары, а среди желтой, пожухлой травы темнел лоскут зеленой и сочной: там обитала стайка сурков.
Несколько раз звала она Кия, но не услышала ответа и не увидела ни единого его следа. Она повернула налево и пошла на северо-восток вдоль опушки леса. Перед ней немного правее – возможно, на расстоянии трех верст – возвышался небольшой, но ясно различимый холм. Это был могильный курган, неведомо кем и когда насыпанный. Ее собственное племя курганов не насыпало.
Время шло, но, как ни странно, курган в мерцающей дымке зноя словно не приближался. Степь частенько обманывает путников, насылает на них морок при помощи обманчивого света, но сегодня все вокруг было особенно зловещим и угрожающим. Изящный журавль-красавка с иссиня-черной шеей и белой спиной спешил к себе в потаенное гнездо. Она порой заходила обратно в лес, кричала там и аукала, а после снова возвращалась в степное пекло.
Наконец курган все же приблизился, а в степные владения вошел тоненький мысок леса. По рощице этой она и побрела.
Стоянка кочевников открылась перед ней прямо за деревьями. В какой-нибудь сотне шагов Лебедь увидела разбитый лагерь.
И сын ее был у них в руках.
Пять кибиток, крытых корой, были расставлены кругом, от них на бескрайнюю, раскаленную, сияющую степь ложилась пыльная тень. Несколько кочевников спешились и отдыхали под кибитками.
Двое оставались верхом. Один из них был белокур, другой – темноволос. Черноволосый всадник сказал своему товарищу, предводителю маленького отряда:
– Брат мой, давай искать деревню.
Белокурый всадник смотрел на ребенка, которого его названый брат держал перед собой на холке своего могучего вороного скакуна. Мальчик, бледный от страха, беспомощно озирался. Пригожий малыш.
Длинные иссиня-черные волосы его похитителя поблескивали на солнце, почти такие же гладкие, как бока его вороного коня.
Деревня наверняка находилась неподалеку от тех мест, где бродил ребенок. Отыскать ее, захватить молодых мужчин и мальчишек, и пусть деревенские беспомощно выкрикивают проклятия им вслед. Из угнанных в полон вырастят не рабов, а воинов и примут их в члены клана. Так и случилось в детстве с двоими из тех кочевников, что отдыхали под кибитками. «Странный народ, – подумал черноволосый, – бога войны не знают, но обучи их воевать – и окажутся они и смелы, и решительны». И мальчишка этот, возможно, когда-нибудь станет гордостью клана.
Однако в этот жаркий день ему не хотелось совершать набег на деревню.
– Я не для того пришел сюда, – тихо сказал он.
Темноволосый склонил голову.
– Твой дед не дожил до старости, – мрачно ответил он. – Не зря его прозвали Оленем.
В устах степных кочевников это была высшая похвала. Среди них старик считался существом, лишенным чести, – храбрецы погибали в битве, не успев состариться.
В тот же день, чуть раньше, когда солнце достигло зенита, белокурый воин, стоя на вершине возвышавшегося поблизости кургана, вонзил в землю свой длинный меч. Ибо это был могильный холм его деда, убитого в схватке в этом безлюдном месте и забытого всеми, кроме членов его семьи, которые раз в несколько лет возвращались в этот отдаленный уголок степи, чтобы воздать честь покойному. Меч и сейчас виднелся на холме, из кибиток можно было различить даже перекрестье его рукояти, и блеск железа напоминал о благородном клане воинов.
Кий не отрываясь смотрел на всадников. Таких людей он прежде никогда не видел, но кое-что о них слышал. Он догадался: всадник на вороном скакуне – скиф.
«Вот поймает тебя скиф, – сказал ему однажды отец, – живьем с тебя шкуру сдерет и на конскую сбрую пустит». Кий со страхом поглядывал на удила. Едва он взглянул в холодные глаза темноволосого воина, как тотчас же понял: жди беды – и явно эти двое решают, как бы половчее содрать с него кожу. Малыш дрожал всем телом. Однако при виде светловолосого всадника в душе его затеплилась надежда. Ему было очень страшно, а все же никогда еще не видал Кий человека прекраснее.
Побратим скифа, высокий белокурый кочевник, был коротко стрижен. Черты его лица были правильны, утонченны, почти изящны, выражение лица – открытое и привлекательное. Но когда его светло-голубые глаза сверкнули гневом, он сделался поистине ужасен, страшнее темноволосого, смуглого скифа рядом с ним. Мужи этого племени способны были вселять ужас, и многие писатели древности упоминали об этом.
То был алан, представитель величайшего из всех сарматских племен, а могущественный клан, к которому он принадлежал, слыл одним из самых гордых, и называли они себя «бледными» или «сияющими».
С незапамятных времен кочевники приходили с востока, из азиатских земель, расположенных за тем огромным полумесяцем горных кряжей, что образовывал южную границу великой Евразийской равнины. Верхом преодолели они горные перевалы, возвышавшиеся над Индией и Персией, проскакали по окутанным мерцающей дымкой предгорьям, словно изливавшимися водопадом на великую равнину. Появлялись они и из пустыни, окружавшей Каспийское море севернее Волги, а оттуда двигались в плодородную степь к северу от Черного моря, в земли по берегам Днепра и Дона. Они вторгались в Восточное Средиземноморье и на Балканы, доходя едва ли не до Греции.
Первыми, в глубокой древности, с востока пришли киммерийцы, номады железного века. Затем, около 600 года до новой эры, появились скифы, индоевропейский народ с примесью монгольской крови, говоривший на языке иранского происхождения. Потом, примерно в 200 году до новой эры, земли эти приглянулись другому, еще более сильному и могущественному народу – сарматам; они ограничили владения скифов небольшой территорией и подчинили их себе.
Все эти кланы воинов являлись с востока. Иранским именем «Дон», означающим «вода», они нарекли реки Дон, Днепр и даже протекающий намного западнее Дунай. Воинственные кочевники – повелители степей.
От Черного моря до самого леса славяне боялись сияющих аланов, но и восхищались ими. Некоторые славянские племена пахали для них землю; были и такие, что платили им дань. И вправду, ни пределов, ни границ не ведали они в своих странствиях; и в сказаниях своих говорили они, что изъездили всю бескрайнюю степь – от земель, где встает теплое солнце, до земель закатных.
Алан посмотрел на небо. Полуденная жара еще не спала, но вскоре их спутники, отдыхавшие под кибитками, проснутся, и они двинутся дальше.
– Мы вернемся сегодня, – тихо промолвил он. – Мальчишку повезешь ты.
Кий не сводил глаз с высокого воина. В отличие от своего побратима-скифа, алан пользовался стременами. Он носил мягкие кожаные сапоги и широкие шелковые штаны. Сбоку к его седлу были приторочены длинный меч и аркан, любимое оружие его соплеменников, а к бедру был пристегнут кинжал с рукоятью, оканчивавшейся навершием в виде кольца. Кольчуга и остроконечный шлем были перехвачены ремнями поверх боевой выкладки, лежащей на земле возле кибиток, рядом с двумя длинными копьями, с ними аланы шли в смертоносные атаки. Его полотняный кафтан был расшит маленькими незамкнутыми золотыми треугольниками, а на шее у него красовалось ожерелье из крученых золотых нитей, которое оканчивалось двумя золотыми драконами. С плеч алана ниспадал длинный шерстяной плащ, заколотый огромной фибулой, богато отделанной восточными драгоценными каменьями. Узоры были не клановые – а личные.
Скиф был одет совсем иначе. Спину Кия царапали золотые и серебряные нашивки на кожаной куртке всадника. Смуглую руку, удерживающую его на холке коня, украшал браслет с изображениями богов и фантастических животных, он сверкал так, что резал Кию глаза. Малыш разумеется не знал, что браслет был сработан удивительными греческими мастерами. На боку у скифа висел изогнутый меч с рукоятью также греческой работы.
Но особенно восхитили ребенка их кони. Иссиня-черного скакуна, на котором его везли, он, конечно, не мог разглядеть, но чуял его невиданную силу и мощь. А конь алана представлялся ему существом едва ли не божественным.
Он был серебристо-серый, с черной гривой, с черной полосой вдоль спины и с черным хвостом, этот конь. Эту благородную масть аланы именовали «инеем». Кию казалось, что конь едва ступает по земле, словно не удостаивает ее своим прикосновением. Словно не поскачет он сейчас, а полетит.
И воистину это было так, ибо во всем племени аланов не сыскалось бы более резвого скакуна. Хозяин звал его Траяном, по имени римского императора, молва о воинских подвигах которого разошлась по берегам Черного моря и которого даже расселившиеся на широко раскинувшихся, обширных землях сарматы стали почитать как малого бога. Трижды Траян, быстроногий, с уверенной поступью, спасал в бою жизнь алана. Однажды, когда тот был ранен, конь ускользнул от врагов и бросился его искать. Соплеменники хвалили алана и его скакуна: «Траян ему дороже жены».
Сейчас Траян стоял неподвижно, но от дуновения легкого ветерка, пролетающего над степью, маленькие золотые диски, висящие на его узде, закачались и тихонько зазвенели. На каждом диске была вырезана тамга – эмблема клана, к которому конь принадлежал – точно так же, как и его хозяин. Тамгой этого клана был трезубец, священный знак, висевший над очагом в родовой башне клана, в сотнях верст к востоку.
Скиф тоже смотрел на Траяна, с трудом подавив вздох. Его соплеменники погребли бы столь божественно прекрасного коня в могильном кургане вместе с его хозяином, когда тому придет час пасть в битве. Аланы же, хотя и слыли искусными наездниками, обычно довольствовались тем, что хоронили вместе с воином конские удила и сбрую.
Его отец сражался вместе с аланами в наемных войсках Рима, и потому они и побратались еще в детстве. Не бывало уз священнее, их нельзя было разорвать. Много лет странствовали они вместе и бились на поле брани бок о бок. Никогда, ни в чем скиф не предал алана. Он твердо знал, что, если потребуется, отдаст за друга жизнь.
Однако сейчас, когда он в тысячный раз разглядывал Траяна, в его суровых, безжалостных глазах появлялось странное, мечтательное выражение. «Если бы он не был моим братом, – подумал скиф, – я убил бы его, и даже сотню таких, как он, ради подобного коня». Скакун горделиво воззрился на него в ответ. Вслух скиф произнес:
– Брат мой, не дашь ли ты мне двоих из наших людей разграбить деревню? А потом я поскачу вслед за тобой и нагоню тебя завтра на закате.
Алан нежно погладил холку своего коня.
– Не проси у меня этого сейчас, брат, – отвечал он.
Скиф замолчал и задумался. Оба они знали, что алан не в силах был отказать названому брату ни в чем: он готов был преподнести скифу любой дар, сделать любое одолжение, пойти ради него на любую жертву. Таков был их обычай, так повелевала им честь. Если бы скиф по всем правилам попросил отдать ему коня, алан согласился бы пожертвовать Траяном. Но названый брат не мог злоупотреблять своим правом: ему надлежало знать, когда просить нельзя. И потому сейчас темноволосый, смуглый воин склонил голову и сделал вид, что и вовсе не упоминал о налете на деревню.
Маленький Кий присмотрелся и закричал.
Она шла к ним по лугу в лучах беспощадного, палящего полуденного солнца. Высокая, пожелтевшая, увядающая трава царапала ее голые ноги.





