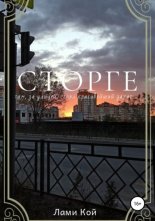Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки Зигмунд Карл
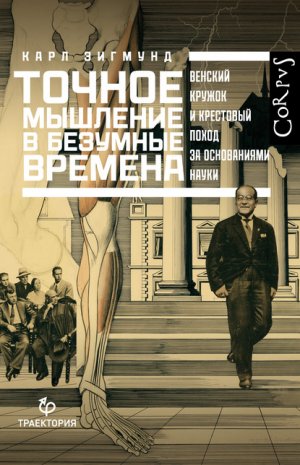
Глубочайшее презрение к немецким идеалистам, следовавшим Канту, красной нитью проходит сквозь всю австрийскую философию. Задолго до Брентано математик и философ Бернард Больцано (1781–1848), тоже священник, лишенный сана, а впоследствии вынужденный покинуть университетскую кафедру, воскликнул: “Немцы! Когда вы наконец откажетесь от своих заблуждений, которые делают вас смешными и несносными в глазах соседей?”[74]
Примерно о том же говорил и Больцман всякий раз, когда ему представлялся случай выступить перед Философским обществом. Например, свою лекцию, заявленную под довольно мирным названием “Об одном тезисе Шопенгауэра”, Больцман начал с небрежного замечания, что поначалу он хотел назвать лекцию несколько более остро, а именно “Доказательство, что Шопенгауэр – пресный и невежественный философишка, который непрестанным распространением пустых бредней сеет везде ахинею и навсегда переворачивает людям мозги кверху дном”[75]. Забавно, что Больцман тем самым поквитался с Шопенгауэром за Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, поскольку Шопенгауэр клеймил того в таких же самых выражениях за туманные неудобочитаемые сочинения. Впрочем, Больцман и Гегеля ни в грош не ставил.
Протокружок, или Urkreis
Среди ученых, вращавшихся вокруг Философского общества, было немало свежеиспеченных докторов наук, для которых было большим удовольствием встречаться в разнообразных городских кофейнях. До 1910 года это была просто очередная дружеская компания, одна из многих. Однако теперь, в исторической перспективе, понятно, что эта небольшая и недолговечная группа стала связующим звеном между Махом и Больцманом с одной стороны и Венским кружком с другой. Тогда об этом никто, конечно, не догадывался. Ведь эти молодые люди были учеными и не считали себя наследниками философской традиции, а тем более настоящими философами. Однако они выросли в городе Маха и Больцмана, и это наложило на них отпечаток на всю жизнь. Хотя Мах был воплощением мудреца-пророка, а Больцман – его противником, их роль в формировании этого кружка единомышленников была одинаковой.
“Как ни удивительно, все физики в Вене были учениками и Маха, и Больцмана. Не бывало такого, чтобы какой-нибудь поклонник Маха недолюбливал атомную теорию Больцмана”[76]. Так писал Филипп Франк, который начал работать над диссертацией под руководством Больцмана, а закончил ее лишь после самоубийства своего наставника. Полвека спустя Франк нарисовал портрет этого первого Венского кружка (который теперь называют Протокружком, или Urkreis):
Я принадлежал к компании студентов, которые встречались по четвергам вечером в одной старой венской кофейне. Мы засиживались до полуночи, а то и позднее, обсуждали вопросы науки и философии… интересы наши были разнообразны, но мы постоянно возвращались к нашей основной проблеме: как избежать традиционной неоднозначности и неполноты философии? Как снова свести науку и философию воедино? Под наукой мы понимали не только естественные науки, но и общественные, и гуманитарные. Самыми активными участниками нашей группы, появлявшимися на этих встречах особенно регулярно, были, помимо меня, математик Ганс Ган и экономист Отто Нейрат[77].
Много лет спустя Ган и Нейрат станут отцами-основателями Венского кружка, а значит, вскоре сделаются главными героями нашего повествования. Но пока что они были лишь юными, только что защитившимися учеными со слабостью к философии.

Венский университет в 1910 году
Ганс Ган был сыном венского надворного советника. Он учился в Вене, а после защиты диссертации несколько семестров провел в Германии, в Геттингене, который в то время был настоящей Меккой для математиков. Похожий послужной список был и у Филиппа Франка. Что касается Отто Нейрата, он был сыном венского профессора и почти все университетские годы провел в Берлине, где изучал экономику, социологию и историю. Это он следил, чтобы Urkreis не упускал из виду и общественные, и гуманитарные науки.
В Вене Нейрат и Ган ходили в одну школу. Отто всегда был дамским угодником и, естественно, обратил внимание на младшую сестру Гана Ольгу (1882–1937), умную и способную девушку, которая собиралась стать одной из первых студенток математического факультета в Вене. Эта привязанность оказалась не просто флиртом. Когда Ольга в возрасте всего двадцати одного года ослепла и погрузилась в глубокую депрессию, Отто поставил перед собой цель вытащить ее из этого мрака, организовал для нее частное обучение и в конце концов дал возможность получить докторскую степень по математике.
Об этом первом Венском кружке известно немного. Вероятно, в него входил также Рихард фон Мизес (1883–1953), который изучал машиностроение в Венском техническом университете, а затем проектировал гидротурбины. В дальнейшем фон Мизесу предстояло стать берлинским представителем Венской группы. Самоуверенность Рихарда граничила с наглостью. Один рецензент его диссертации ворчал: “Ваш трактат написан в стиле откровения, а по сути своей это самонадеянная эксплуатация читателя”[78].
Оставим в стороне вопрос самонадеянности: все молодые люди из Urkreis были полны решимости добиться больших успехов в своих областях. Вдобавок они разделяли живой интерес к выявлению подлинной основы всего научного знания, а поэтому жадно читали все, что могла предложить философия по этой теме.
По воле случая все эти юные ученые и мыслители были еврейского происхождения и, естественно, ощущали, что в Вене крепнут антисемитские настроения – отвратительное моровое поветрие, мысли о котором не покидали Зигмунда Фрейда, Стефана Цвейга и Артура Шницлера ни днем, ни ночью и которое подтолкнуло Теодора Герцля (1860–1904) к сионизму. Разбушевавшийся расизм огорчал не только евреев. “Исправится ли положение дел при следующем императоре?” – спрашивал старик Брентано, уже почти слепой, в письме к старику Маху. Едва ли – такого ничто не предвещает, продолжал он, не считая, впрочем, того, что в Австрийской империи невероятностей постоянно происходит что-то невероятное[79].
Все члены Urkreis входили и в Философское общество Венского университета: Ганс Ган – с 1901 года, Филипп Франк – с 1903, Отто Нейрат – с 1906, а Ольга Ган – с 1908. Юные мыслители из Urkreis с жаром присоединились к крестовому походу Общества против метафизики. Они не были профессиональными философами, но этого и не требовалось: Философское общество было всегда радо философам из кофеен, и им дали полную свободу выступать с лекциями и участвовать в дискуссиях по собственному желанию. Так что Общество стало для них вторым домом – точнее, третьим, поскольку вторым была кофейня.
Маленькая компания, сложившаяся вокруг Гана, Нейрата и Франка, вскоре разбежалась на все четыре стороны, не оставив заметного следа. Ведь у всех этих молодых людей была профессия, и нужно было работать. Их Urkreis был лишь интермедией в великолепном представлении венского модернизма, и к сегодняшнему дню о нем давно забыли бы, если бы кружок не возродился двадцать лет спустя.
Альберт Эйнштейн
От жарких дебатов, заставлявших участников Urkreis засиживаться в кофейне до поздней ночи, не осталось никаких записей. История не сохранила даже названия кофейни. Тем не менее нетрудно догадаться, вокруг каких ключевых фигур строились эти дебаты: Генрих Герц, Анри Пуанкаре, Давид Гильберт, Бертран Рассел… А еще – юный служащий бернского патентного бюро, уроженец Германии, которому предстояло перевернуть всю физику с ног на голову: Альберт Эйнштейн (1879–1955).
Именно Эйнштейн в 1905 году наконец поставил точку в споре между Больцманом и Махом. С тех пор уже никто не сомневался, что атомы существуют. Да, они невидимы, но они есть, и здесь не может быть двух мнений. Чтобы получить этот выдающийся результат, Эйнштейну не потребовалось никаких новых инструментов. Он пустил в ход мощное оружие глубоких размышлений и нацелил его на давно известное явление – броуновское движение.
Шотландский ботаник Роберт Броун (1773–1858) еще в 1827 году отметил, глядя в микроскоп, что крошечные частички в жидкости постоянно дергаются туда-сюда случайным образом, прямо как малюсенькие живые существа. Но живыми они не были. Броун опубликовал статью о своем наблюдении, однако не смог предложить никакого объяснения такому загадочному поведению. (Как часто случается, открытие Броуна независимо совершил другой ученый, на сей раз голландский биолог Ян Ингенхауз, который написал о нем на сорок с лишним лет раньше, но явление все равно получило название в честь Броуна.)
Эйнштейн предположил, что непредсказуемые метания видимых частиц вызваны постоянными столкновениями с гораздо более мелкими частицами, из которых состоит окружающая жидкость, иначе говоря, столкновениями с невидимыми атомами или молекулами, существование которых в те годы еще было предметом жарких споров. Однако Эйнштейн проделал тщательные статистические расчеты на основании численных данных, полученных благодаря наблюдениям случайных движений видимых частиц, и сумел вывести и размер, и скорость их невидимых партнеров в танце. Этот остроумный результат стал последним гвоздем в крышку гроба антиатомистов, а картина атомов, которую нарисовал Эйнштейн, вскоре полностью подтвердилась в ходе экспериментов французского физика Жан-Батиста Перрена (1870–1942).

“Эйнштейн преобразил самые основы наших представлений о природе гораздо глубже Коперника… Проводником, указавшим нам путь к этим вершинам, стал Альберт Эйнштейн. Он провел поразительно остроумный анализ и тем самым очистил самые фундаментальные научные понятия от скрытых предубеждений, которые столетиями никто не замечал” Мориц Шлик
Хотя Мах пытался оказать жалкое сопротивление доводам Эйнштейна, его мировоззрение было обречено. С этого момента термин “атомная гипотеза” употребляли разве что историки науки.
Через год после того, как Эйнштейн опубликовал статью о броуновском движении, Людвиг Больцман свел счеты с жизнью. Больцман, как и Моисей, встретился с Создателем близ Земли обетованной, однако, увы, неясно, знал ли он, что его представления об атомах наконец нашли подтверждение. Мало того, по иронии судьбы бывший студент с факультета Больцмана, физик Мариан Смолуховский (1872–1917), уроженец Австрии, покинув Вену и заняв профессорскую должность во Львове, независимо получил те же результаты, что и Эйнштейн.
Очевидно, Больцман смирился с тем, что кое-кто всегда предпочтет говорить не “атомы существуют”, а “соответствующие ментальные репрезентации формируют простую и практичную картину наблюдаемых явлений”, даже если это означает примерно одно и то же.
В последние годы Больцман проводил больше времени в Философском обществе, а не на семинарах по физике. Он ощущал, что расцвет классической физики, его сферы интересов, остался, в сущности, позади. Электроны, рентген, а главное – темная лошадка под названием радиоактивность со дня на день сулили революцию. И это должна была быть в первую очередь революция Эйнштейна.
Альберт Эйнштейн был примерным ровесником молодых дарований из Urkreis. Он был серьезным, целеустремленным юношей, который в пятнадцать лет решил уйти из мюнхенской гимназии и отказался одновременно и от немецкого подданства, и от иудейского вероисповедания. Через год Эйнштейн, убежденный, что самостоятельно овладел всеми необходимыми знаниями, решил поступать в Цюрихский политехникум (ныне Федеральный технологический институт, Eidgenossische Technische Hochschule), однако, к собственному удивлению, не выдержал вступительного экзамена на инженерное отделение. Это был удар для юного Альберта, однако молодой человек не пал духом и записался в выпускной класс средней школы в швейцарском городе Арау. На следующий год он сдал экзамен и был принят в Цюрихский политехникум, а в 1900 году окончил его с дипломом преподавателя.
Чтобы свести концы с концами, он начал давать частные уроки математики и физики, но особых успехов не добился. “Моим сыновьям нужен репетитор, а не Сократ”, – раздраженно сказал один клиент и уволил его (по крайней мере так гласит легенда). Но в дальнейшем благодаря помощи друга Эйнштейн получил место помощника инспектора в патентном бюро в Берне – в табели о рангах его должность была самой скромной: технический эксперт третьего класса.
Именно в такой крайне неподходящей обстановке гений Эйнштейна вспыхнул, будто сверхновая. В 1905 году, одновременно с получением докторской степени, этот кудрявый служащий патентного бюро опубликовал подряд четыре поистине фундаментальные статьи и не только доказал, что атомы существуют, и сформулировал теорию относительности, но и выдвинул невероятно дерзкую гипотезу, что свет состоит из частиц, хотя представляет собой волну.
Статья о свете, упомянутая последней и опубликованная в марте annus mirabilis[80] Эйнштейна, на самом деле была первым плодом этого года, и в ней изложена гипотеза, которую сам Эйнштейн считал самой революционной среди своих идей. И она и правда была настолько революционной, что ее долго никто не принимал всерьез, даже обожатели Эйнштейна. И даже члены Urkreis, если уж на то пошло. Тем не менее следует рассказать о ней подробно, поскольку эта история противоречит всем теориям, претендующим на стандартизацию методологии науки.
Статья Эйнштейна “Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света”, начинается с простой, но неочевидной аналогии между электромагнитным спектром так называемого абсолютно черного тела (пустой полости, содержащей только световые лучи, с постоянной температурой стенок) и распределением скорости молекул в подобном сосуде, наполненном идеальным газом (распределение Максвелла – Больцмана). Эта аналогия после нескольких страниц математических расчетов привела Эйнштейна к потрясающему выводу, что свет в каком-то непостижимом смысле состоит из частиц.
Эта гипотеза была значительно радикальнее более ранней гипотезы Макса Планка о существовании квантов энергии в излучении черного тела. Идея Планка, которая ограничивала способы вибрации материальных тел, была первой квантовой гипотезой в истории, и хотя она была неожиданной и ее сложно было примирить с прежними законами, никому не казалось, что она так уж грозит ниспровергнуть все стройное здание классической физики.
А предположить, что свет по природе состоит из частиц, было, несомненно, опасно. Благодаря великим уравнениям Джеймса Клерка Максвелла, опубликованным в середине шестидесятых годов девятнадцатого века, и великим экспериментам Генриха Герца, проведенным примерно двадцать лет спустя (а также бесчисленному множеству других данных), всякий, кто что-то знал о свете, был убежден без тени сомнения, что свет – это волны; более того, это представление служило незыблемым столпом, на котором зиждилась основательная часть тогдашней физики. Поэтому, когда Эйнштейн предположил, что свет состоит из частиц, это был полный и радикальный подрыв практически всей классической физики. Такая ересь, бесспорно, угрожала целостности стройного здания.
Эйнштейн понимал, что отважно бросается в неизвестное, поэтому в конце своей статьи об “эвристической точке зрения” кратко, в виде приложения, описал три способа проверить свою дерзкую гипотезу о квантах света. Одна из трех проверок задействовала фотоэлектрический эффект: суть его в том, что при падении света на металлическую пластину из нее иногда вылетают электроны – а иногда нет, в зависимости от разнообразных факторов, которые в 1905 году еще не были выявлены.
Фотоэлектрический эффект открыли сравнительно недавно. Первым его заметил немецкий ученый Генрих Герц (1857–1894) в 1887 году, когда проводил серию опытов, неопровержимо доказавших теорию Максвелла, согласно которой свет состоит из электромагнитных волн! По мнению Герца, этот эффект был просто досадным недоразумением, несколько помешавшим его эксперименту, но впоследствии это мелкое недоразумение станет первой трещинкой в броне великой теории Максвелла. Невозможно не подивиться парадоксальному стечению обстоятельств: один и тот же эксперимент одновременно и подтвердил, и опроверг величайшее достижение физики девятнадцатого века!
В 1905 году о фотоэлектрическом эффекте Герца время от времени вспоминали, но большинство физиков он не особенно интересовал. Однако Эйнштейн с присущей ему обостренной интуицией заподозрил, что если провести эксперименты с должной аккуратностью, можно будет при помощи этого любопытного явления либо подтвердить, либо опровергнуть его гипотезу о квантах света. Поэтому он сделал предсказание на основании своей гипотезы – построил простой линейный график вероятных результатов будущих экспериментов по изучению фотоэлектрического эффекта. Любопытно, что в статье Эйнштейн подчеркнул, что прямая, которую он прогнозирует, не соответствует лучшим экспериментальным данным по фотоэлектрическому эффекту, доступным на то время. То есть его статья не объясняла имеющиеся данные, а предсказывала другие. Можно ли вообразить себе большую дерзость? Гипотеза Эйнштейна не просто попирала все общепринятые теоретические представления о свете, но и противоречила экспериментальным данным, полученным при изучении явления, которое, по утверждению Эйнштейна, могло бы подтвердить его гипотезу.
И в самом деле, Макс Планк и остальное физическое сообщество отнеслись к доводам из статьи Эйнштейна о квантах света с крайним недоверием. Более того, много лет никто ее не цитировал, никто не воспринимал всерьез ее идеи, и Эйнштейн оставался единственным человеком на планете (за исключением разве что его жены), убежденным в “корпускулярной” природе света. Даже Планк, питавший к Эйнштейну глубочайшее уважение, в 1913 году сказал о своем младшем коллеге: “И пусть иногда – как, например, в гипотезе о квантах света – он заходит в своих предположениях слишком далеко, его не стоит в этом упрекать, поскольку никакое подлинное новаторство, даже в точных науках, невозможно без некоторого риска и отваги”[81].
Прошло десять лет после публикации статьи Эйнштейна, и американский физик Роберт Милликен в своей знаменитой книге о фотоэлектрическом эффекте описал, как подтвердил линейный график Эйнштейна с необычайной точностью, однако затем утверждал (ошибочно), что к этому времени Эйнштейн сам отказался от своей теории о квантах света. Чтобы подчеркнуть, какое странное сложилось положение, Милликен добавил: “Эксперимент опередил теорию, точнее, опирался на неверную теорию, и выявил связи, по всей видимости, крайне интересные и важные, однако их причины пока что совершенно не ясны”[82].
В 1922 году наметился любопытный поворот. Эйнштейн наконец-то получил Нобелевскую премию по физике. Но за что ее присудили? За доказательство существования атомов? Нет, это было уже давно. За кванты света? Нет, конечно! В эти глупости никто не верил! За теорию относительности – общую, специальную или и ту, и другую? Тоже нет, хотя его труды по теории относительности перевернули физику и сделали Эйнштейна знаменитым во всем мире. Нобелевскую премию Эйнштейн получил “за заслуги в теоретической физике, а в особенности за открытие закона фотоэлектрического эффекта”. В этом решении Нобелевского комитета нет ни грана смысла, поскольку в то время никто, кроме самого Эйнштейна, не соглашался с его рассуждениями, на основании которых был сформулирован закон фотоэлектрического эффекта, хотя сам закон был прекрасно подтвержден Робертом Милликеном в ходе высокоточных экспериментов, которыми ученый занимался несколько лет.
Но в 1923 году все резко изменилось. В тот год американский физик-экспериментатор Артур Холли Комптон открыл аномалию в том, как свет рассеивает электроны (точнее, изменение длины световой волны), которую невозможно было объяснить уравнениями Максвелла, зато ее идеально описывали “ошибочные” представления Альберта Эйнштейна о квантах света (химик Гилберт Льюис вскоре переименовал их в фотоны). Физики всего мира внезапно были вынуждены пересмотреть свое рефлекторное отвращение к “эвристической точке зрения”, о которой Эйнштейн рассказал в 1905 году, и вскоре все приняли ее с распростертыми объятиями.
С тех пор физикам приходится пользоваться не одним, а двумя противоречивыми представлениями о том, что называют светом: для его полного описания необходимы и максвелловские электромагнитные волны, и эйнштейновские фотоны, и примирить одно с другим пока что не удается. Такая дуальная природа не знала прецедентов в истории физики.
Так что же такое свет? Корпускулярно-волновой дуализм невозможно объяснить. Но, может быть, объяснение – это не конечная цель физической теории. Эйнштейн еще в 1905 году из осторожности говорил всего лишь об “эвристической точке зрения”, которую можно применять как инструмент для мысленных экспериментов. И старательно избегал любых предположений о подлинной природе света.
Теория относительности
Однако вернемся в 1905 год – в annus mirabilis. Статья Эйнштейна о специальной теории относительности вышла всего через три месяца после статьи о квантах света. Она тоже была, прямо скажем, революционной, однако понять и принять ее многим физикам оказалось гораздо легче. Сочетание великой простоты и огромной глубины не могло не очаровать.
Примерно за триста лет до этого Галилео Галилей понял, что движение тела можно измерить, только ориентируясь на какое-то другое тело, то есть относительно другого тела. Иначе говоря, чтобы измерить скорость или определить местоположение, нужна так называемая система отсчета. В двух системах отсчета, движущихся друг относительно друга, скорости, приписываемые движущимся телам, могут получиться разными. Муха, летающая по салону самолета, в системе отсчета пассажиров обладает довольно низкой скоростью, а с точки зрения людей на земле мчится невероятно быстро. Вроде бы это очевидно. Однако измерения показали, что скорость луча света не зависит от системы отсчета, из которой ее измеряешь. Скорость света в вакууме постоянна и фиксированна, где бы ты ни был и как бы ни двигался. Скорость света в салоне самолета одинакова и для пассажиров, и для людей на земле.
Какой вывод может сделать из подобных фокусов разумный человек? Со времен Николая Коперника и его последователей все привыкли к мысли, что наша Земля мчится вокруг Солнца со скоростью около ста тысяч километров в час, однако новые эксперименты ясно показали, что это движение никак не влияет на скорость света.
Другая бросающаяся в глаза аномалия состояла в том, что стандартная теория электромагнетизма, по всей видимости, давала разные результаты в зависимости от того, движется ли магнит относительно электрической цепи или цепь относительно магнита. А это совсем странно: ведь на самом деле это одна и та же ситуация, рассматриваемая с двух разных точек зрения.
Такие глубокие аномалии в известных законах физики натолкнули Эйнштейна на то, чтобы переосмыслить понятия пространства, времени и скорости, а это, в свою очередь, заставило его пересмотреть понятие одновременности. Если два наблюдателя хотят договориться, что значит, когда два события происходят “в одно и то же время”, им нужно сверить часы. Сверка предполагает обмен сигналами. На сигналы нужно время, даже если они распространяются со скоростью света. Вывод гласит, что два события, происходящие одновременно для одного наблюдателя, могут происходить в разное время для другого наблюдателя, если он несется мимо. Иными словами, наблюдатели из систем отсчета, движущихся по-разному, дадут разные ответы на вопрос, “сейчас” ли происходят два события.
Эйнштейн переписал формулы классической механики на основании своих новых представлений о пространстве и времени – и о чудо! Из теории исчез “эфир” – его буквально вытеснил вакуум. И хотя стало уже невозможно говорить об “абсолютном пространстве” (имея в виду гипотетическую систему отсчета, которая не движется), благодаря идеям Эйнштейна стала возможна “абсолютная скорость” – то есть скорость света в вакууме, которая не зависит от того, в какой системе отсчета ее измеряют.
Практически вдогонку этой мысли Эйнштейн вывел самую знаменитую формулу во всей физике – E = mc2 – и тем самым связал энергию E, массу m и скорость света c. Об этом открытии сообщала последняя статья, которую Эйнштейн опубликовал в свой annus mirabilis.
Отрадно знать, что сделанные в тот удивительный год четыре открытия, после которых физика уже не могла быть прежней, все же удостоились признания коллег Эйнштейна. Первого апреля 1906 года Эйнштейн получил повышение в швейцарском патентном бюро: из технического эксперта третьего класса стал техническим экспертом второго класса.
Все эти поразительные результаты Эйнштейн вывел, и пальцем не прикоснувшись к лабораторному оборудованию. Однако при всей своей революционности его теории были прочно укоренены в философии науки тех дней – в идеях Маха, Герца и Пуанкаре.
Генрих Герц и Анри Пуанкаре
Книга Герца “Принципы механики”, опубликованная посмертно в 1894 году, сразу после его безвременной кончины, стала столь же авторитетной, что и “Механика” Маха. Герц делал упор на роль математических моделей в описании научных фактов. С его точки зрения, нам не нужно интуитивно понимать механику явлений. Достаточно уметь проверять модели при помощи измерений и вычислений.
Еще дальше зашел в своих рассуждениях Анри Пуанкаре (1854–1912), выдающийся французский математик, в своей работе “Наука и гипотеза”. По его представлениям, законы природы – вольное творение человеческого разума, и их цель – непротиворечивым образом соотнести наблюдаемые факты. Случается, что один и тот же набор наблюдений описывают несколько разных моделей; тогда предпочтение той или иной модели становится всего лишь вопросом удобства – что проще и практичнее. Ни о каких объективных “фактах” не может быть и речи. Более того, абстрактные идеи наподобие силы и электрического заряда определяются только через способы их применения. Задаваться вопросом, что лежит “за ними” и что это такое “на самом деле” – никчемная метафизика.
Таким образом, идея эфира, покоящегося в абсолютном пространстве – идея, лежащая в основе теории пространства и времени Пуанкаре, – полностью соответствует физическим наблюдениям, если предположить, что линейки сокращаются в направлении движения, а часы замедляются, если их перемещать. Пуанкаре задолго до Эйнштейна понял, что означает сверка часов при помощи электромагнитных сигналов. Он ввел понятие локального времени и в результате сумел объяснить все те же явления, что и Эйнштейн. А значит, его теория была равноправной альтернативой теории Эйнштейна.
Однако теория относительности, как выяснилось, далеко превосходила теорию эфира Пуанкаре по изяществу и практичности, поэтому в конце концов ей отдали предпочтение из соображений удобства. Или, если угодно, теорию Эйнштейна стали считать истиной, тогда как теорию Пуанкаре сочли мастерским выстрелом, совсем чуть-чуть не попавшим в цель.
Этот случай – яркий парадокс в истории науки: Анри Пуанкаре невольно послужил превосходным примером собственных представлений о научной истине как вопросе удобства. Перед нами две равноправные теории – теория Пуанкаре и теория Эйнштейна, – в равной степени дававшие рабочие прогнозы (по крайней мере в то время). Пуанкаре был до обидного близок к тому, чтобы обойти Эйнштейна и первым открыть теорию относительности, а вместо этого разработал собственную теорию эфира. Очевидно, он поставил не на ту лошадку – шаг тем более удивительный, что в “Науке и гипотезе” он писал: “…Гипотеза эфира, без сомнения, когда-нибудь будет отвергнута как бесполезная”[83].
Давид Гильберт
Все физические теории опираются на математику. А на что опирается математика? Со времен Евклида любая уважающая себя математическая теория должна была, по крайней мере в идеале, состоять из теорем, а теоремы – это коллективное потомство набора аксиом, выведенное разными путями при помощи строгих логических умозаключений. Аксиомы же – это утверждения, принимаемые как данность. Но если это данность, чем она задана? И кем дана?
Во времена Евклида аксиомы геометрии считались очевидными, то есть их задавала наша пространственная интуиция.
Но интуиция коварна. Более того, еще древние греки заметили, что одна аксиома Евклида не так уж и очевидна. Эта аксиома – так называемая аксиома о параллельных – гласит, что на плоскости для любой прямой L и любой точки P, не принадлежащей L, существует одна и только одна прямая, содержащая P и не пересекающаяся с L. Эта прямая – уникальная параллель прямой L, проходящая через точку P. А поскольку прямые бесконечны, невозможно проинспектировать, что происходит на всем их протяжении – а тогда откуда мы знаем, что эти две прямые не пересекаются где-то далеко-далеко, куда нам не заглянуть?
Две тысячи лет геометры пытались обойти эту проблемную аксиому, для чего им требовалось вывести ее логически из остальных, более простых и интуитивно понятных. Однако их упорный труд не увенчался успехом, и в начале девятнадцатого века до математического сообщества стало постепенно доходить, что эти усилия, скорее всего, так ни к чему и не приведут. Многие математики даже заключили, что невозможность строгого доказательства аксиомы о параллельности можно строго доказать.
И тогда приблизительно одновременно (в двадцатые годы девятнадцатого века) два отважных математика – венгр Янош Бойяи и русский Николай Лобачевский – поняли, что если заменить аксиому о параллельности альтернативной аксиомой – для любой прямой L и любой точки P, не принадлежащей L, существует бесконечно много прямых, проходящих через P и не пересекающихся с L, – получится альтернативная геометрия, неевклидова геометрия, в которых параллельных линий не одна, а много. Поначалу теоремы неевклидовой геометрии выглядят непривычно и крайне любопытным образом отличаются от знакомой евклидовой геометрии, например, в новой геометрии сумма углов треугольника всегда меньше 180 градусов, но главное в ней другое: набор ее теорем ничуть не менее непротиворечив. С чисто логической точки зрения обе геометрии одинаково верны.
Это показало, что в принципе аксиомы и теоремы так называемой “геометрии” не обязательно имеют отношение к человеческой интуиции. Наша человеческая образная система точек и линий, наше ощущение, что они представляют собой “на самом деле”, так сказать, представление об их природе, – сугубо наше личное дело. Безусловно, интуитивные представления полезны в повседневной жизни, когда надо прокладывать себе маршрут в пространстве, но для геометра, рассуждающего абстрактно, важно лишь, как определенные чисто теоретические сущности, которым даны названия точек и линий, соотносятся друг с другом согласно произвольно заданным аксиомам и логически вытекающим из них теоремам. Короче говоря, геометрия не обязательно имеет отношение к физическому миру, в котором мы родились и живем.
Такую точку зрения особенно ревностно отстаивал Давид Гильберт (1862–1943), самый выдающийся математик своего времени. Родиной Гильберта был прусский город Кенигсберг, город Иммануила Канта.

“Давид Гильберт, проделав огромную подготовительную работу, поставил перед собой цель выстроить геометрию на основаниях, чьей надежности никогда не будет угрожать отсылка к интуиции” Мориц Шлик
Гильберт никогда не был вундеркиндом. Как он признавался впоследствии, “В школе меня не особенно занимала математика, поскольку я понимал, что всегда успею ею заняться”[84]. Юный Гильберт никуда не спешил. Он был от природы дальновиден.
А еще Гильберт никогда не отступался от намеченной цели. И всегда получал новые фундаментальные результаты – и в алгебре, и в анализе, и в теории чисел, и в прикладной математике. Как сказали бы французы, он был наделен le coup d’oeil[85]. В 1895 году Гильберт получил в Геттингенском университете кафедру, которую до него занимали титаны и гении – Карл Фридрих Гаусс и Бернхард Риман. Очень скоро ему удалось превратить небольшой университетский городок в блистательный мировой центр математики и теоретической физики, которому не было равных целых сорок лет.
Книга Гильберта “Основания геометрии” стала образцом современной концепции математической теории. Тонкий томик задавал аксиоматические рамки евклидовой геометрии с величайшей строгостью и безо всяких отсылок к интуиции. Секрет был прост. Основные понятия определялись исключительно через их взаимные отношения. Например, Гильберт опустил утверждение Евклида “Точка – то, у чего нет частей”, но сохранил “Две различные точки определяют прямую”.
Спрашивать, что такое на самом деле прямые и точки, так же бессмысленно, как спрашивать, что такое на самом деле шахматные фигуры. Какая разница? Значение имеют только правила игры. Смысл основных понятий не имеет ни малейшего отношения к делу.
Гильберт выразился просто: “Вместо того чтобы называть все это «точками», «линиями» и «плоскостями», можно с тем же успехом называть их «столами», «стульями» и «пивными кружками»”. Эта шутка среди математиков мгновенно вошла в пословицу.
В физике все примерно так же, но с одной оговоркой. Некоторые считают, что идеальная физическая теория должна следовать примеру геометрии. То есть роль аксиом должны играть некоторые фундаментальные законы – чем меньше и чем проще, тем лучше. Законы задают соотношения между самыми элементарными понятиями. А затем из этих аксиом мы можем логически вывести огромное множество следствий – как в математике. Но ведь цель физики – выявлять факты реального мира, поэтому физические понятия должны быть связаны с измерениями, а следствия из фундаментальных законов – проверяться при помощи тщательных наблюдений.
Таким образом, физическая геометрия сосуществует с математическими геометриями во всем их многообразии. Физическая геометрия описывает реальное пространство и должна быть применимой, в частности, к углам, граням и ребрам твердых тел. Тогда можно будет изготовить физические треугольники из металлических стержней и измерить сумму их углов. Если окажется, что эта сумма отличается от ста восьмидесяти градусов, мы окажемся перед дилеммой: либо наше пространство неевклидово, либо стержни у нас не прямые. С каким из этих утверждений мы согласимся, вопрос договоренности. Нам решать, как будет удобнее.
Как могли бы выглядеть аксиомы физики? А аксиомы вероятности? Есть ли механический способ подвергнуть математическое утверждение инспекции и сказать, истинно оно или ложно? Эти вопросы вошли в число двадцати трех задач, которые поставил перед математическим сообществом Дэвид Гильберт в 1900 году на Международном конгрессе математиков в Париже. Гильберт надеялся, что в наступающем веке по крайней мере некоторые из этих задач будут решены. Однако решены пока не все. Но все они оказывают определяющее влияние на математическую науку.
Бертран Рассел
На протяжении девятнадцатого века математику постоянно контролировали, укрощали и проверяли железной логикой. Мало того, что ради строгости пришлось пожертвовать интуитивным обаянием математики – сам метод логических рассуждений стал жестко регламентирован и расписан по шагам. Более того, стало очевидно, что старой доброй аристотелевой логики математикам уже не хватает. В ответ на такой спрос англичанин Джордж Буль (1815–1864), немец Рихард Дедекинд (1831–1916) и итальянец Джузеппе Пеано (1858–1932) разработали свои версии чистой символической логики, которая дает возможность формализовать даже самые сложные математические доказательства. А предельным случаем такой логики стало “понятийное письмо” – Begriffsschrift, – которое создал немецкий логик Готлоб Фреге (1848–1925).
Такую же двойную задачу – поставить математику на логические основания и превратить логику в математическую дисциплину – поставил перед собой и юный Бертран Рассел (1872–1970).
Рассел родился в британской аристократической семье, его дед дважды был премьер-министром. Маленький Берти рос как сиротка – до того строго воспитывала его глубоко верующая бабка. Он получил домашнее образование, а затем поступил в Кембридж, чтобы изучать математику. Много лет его преследовал панический страх душевной болезни. В его семье были подобные случаи. А великое утешение и возможность отвлечься от мыслей о самоубийстве дала ему математика с ее холодной определенностью. Однако в 1902 году Бертран Рассел обнаружил парадокс, который заставил сильно усомниться в этой холодной определенности. А самое неприятное – этот парадокс относился к теории множеств, теории, которую в то время начали считать незыблемым фундаментом, на котором предстояло возвести всю остальную математику. Катастрофа!

“Невозможно, пожалуй, переоценить значение его способа философствования. Я твердо убежден, что это метод будущего – единственный метод, способный воплотить мечту Лейбница о строгом математическом подходе к философским вопросам” Мориц Шлик
Множества – это наборы элементов. Эти элементы, в свою очередь, тоже могут представлять собой множества, подобно тому как папки могут содержать в себе другие папки. Нетрудно представить себе множество, которое содержит как элемент само себя (например, множество всех множеств – это тоже множество). Однако многие множества, естественно, сами себя не содержат (например, множество всех котов, ведь само оно не кот).
А тогда как насчет множества Х всех множеств, которые не содержат сами себя? Содержит ли Х само себя? Если да, то нет, а если нет, то да. Разберем подробнее: если Х не содержит самого себя, то по определению, которое мы дали Х, Х должно быть одним из элементов Х, а следовательно, содержит само себя; напротив, если Х содержит само себя, то оно, опять же по определению, не может быть элементом Х, а следовательно, не содержит самого себя. Такие безостановочные метания между да и нет, безусловно, не могут не тревожить.
Родственный парадокс придумал немецкий философ Курт Греллинг (1886–1942), некоторое время работавший с Куртом Гёделем и входивший в так называемый Берлинский кружок, группу философов, тесно связанную с Венским кружком. Греллинг был еврей и погиб в Аушвице.
Его парадокс выглядит следующим образом. Говорят, что слово автологично, если оно точно описывает само себя. Например, слово “русское” – русское, то есть автологичное, а слово “немецкое” – не немецкое (оно тоже русское), а значит, не автологичное. Еще примеры: слово “пятисложное” имеет ровно пять слогов, а значит, автологично. А слово “двухсложное” состоит не из двух, а из четырех слогов и поэтому не автологично. Прилагательное “раритетное” само по себе довольно редко и потому раритетно, а следовательно, автологично, а прилагательное “непроизносимое” вполне произносимо, а следовательно, неавтологично.
Так вот, если мы только что придумали слово “неавтологичное”, будет ли оно автологичным? Если да, то нет, а если нет, то да. Опять же неприятная ситуация.
Сам Рассел описал свой парадокс на примере цирюльника, который бреет всех мужчин в деревне, которые не бреются сами. Бреет ли цирюльник сам себя? Если да, то нет, а если нет, то да. Мы снова попали в крайне неприятную ситуацию.
Когда Рассел сообщил о новом парадоксе логику Фреге, тот был потрясен до глубины души. Он сразу понял, что вся его теория пошла насмарку. Второй том “Основ арифметики” Фреге (Grundgesetze der Arithmetik) уже готовился к печати, и вносить правку в текст было поздно. Фреге мог разве что добавить послесловие. И то, что он написал, по сей день служит памятником интеллектуальной честности: “Мало что может быть неприятнее автору научного труда, чем по завершении работы узнать, что один из столпов его творения обрушен”.
В отчаянной попытке вырваться из смертельной хватки собственного парадокса Рассел изобрел теорию типов, которая запрещала множеству содержать само себя (или двум множествам содержать друг друга и т. д. и т. п.). Такой подход, более осмотрительный, и другие тщательно продуманные подходы, разработанные другими учеными – некоторые из них сегодня более популярны, – сделали возможным обойти парадокс Рассела и другие родственные ему парадоксы.
Когда в 1903 году вышла в свет книга Рассела “Основания математики”, он всего в тридцать лет стал самым знаменитым логиком своего времени. Основная мысль его книги была программной: математика должна строиться на логике и только на логике. А затем вместе со старшим коллегой философом Альфредом Нортом Уайтхедом (1861–1947) Рассел взялся за проработку этого грандиозного проекта в мельчайших подробностях, и их совместный трехтомный труд Principia Mathematica вышел в 1910–1913 годах.
Principia Mathematica стали библией математической логики. Доказательство теоремы “1 + 1 = 2” появляется лишь на 362-й странице второго тома и написано на таком узкоспециальном и заковыристом языке, что ее в глаза не узнает большинство читателей, а преимущественно математики.
Согласно Principia Mathematica, парадокс Рассела вроде бы удалось обойти, однако он оставил по себе неприятный осадок. Можно ли рассчитывать, что не появится никаких неожиданных противоречий, которые еще просто не открыты? Кому нужны самые изящные логические доказательства, если нельзя полагаться на логику как таковую?
Анри Пуанкаре описал это притчей: математик подобен пастуху, который, чтобы уберечь свое стадо от волков, окружает его высоким забором. Через него не может перебраться ни один зверь. Но вдруг волк спрятался где-то внутри забора?
Поэтому в число двадцати трех задач, которые Давид Гильберт поставил перед математиками наступающего века, входила и такая: как доказать, что внутри математики нет скрытых противоречий?
Профессиональный рост
Рассел, Пуанкаре, Планк, Гильберт и Эйнштейн – философские революции, связанные с этими прославленными именами, и были темой оживленных разговоров в венской кофейне на встречах Urkreis. Но вскоре компания распалась: Ганс Ган в 1911 году получил место в Черновцах, а Филипп Франк в 1912 году – в Праге. Рихард фон Мизес еще в 1909 году стал профессором в Страсбурге. Молодые ученые должны быть всегда готовы услышать зов издалека, иначе им не удастся сделать карьеру в академическом мире.
Разумеется, это относилось и к Альберту Эйнштейну. Первый шаг в его карьере был коротким: он привел из патентного бюро в Берне в Цюрихский университет, где Эйнштейн стал адъюнкт-профессором. Его ровесник, венский физик Фридрих Адлер, тоже мог претендовать на ту же должность, и цюрихские социал-демократы, несомненно, поддержали бы его, но Адлер предпочел не подавать заявления, поскольку прекрасно понимал масштабы таланта Эйнштейна, с которым вместе учился.
Вскоре молодые физики подружились. У них были квартиры в одном доме, и они часто проводили вместе вечера. “У нас выработалось много параллелей”[86], как писал Адлер отцу. И в самом деле, сходство было даже пугающим: они практически одновременно женились, причем оба – на необычайно умных и способных студентках из Восточной Европы, у них были дети примерно одного возраста, которые часто играли вместе, они писали диссертации у одного и того же руководителя, который обоих доводил до бешенства, вели похожий богемный образ жизни и придерживались близких взглядов и в политике, и в науке.
Фридрих Адлер, этот Doppelgnger – темный двойник – Эйнштейна, имел все основания войти в Urkreis; сходилось все – кроме того, что в те годы он жил не в Вене. Мало того, его отец Виктор Адлер, основатель Австрийской социал-демократической партии, настаивал, чтобы Фридрих поехал учиться за границу, поскольку опасался, что дома он отвлечется на политику. Юный Адлер, как и Эйнштейн, изучал математику и физику в Цюрихе и окончил Политехникум. После чего быстро завоевал признание как физик, однако его голова была забита идеями Маха. И подобно тому как Эрнст Мах отказывался верить в атомы, Фридрих Адлер скептически относился к недавно открытым электронам. Ведь эти новомодные гипотетические частицы еще меньше атомов, а значит, их даже труднее увидеть!
В 1911 году Эйнштейна переманили из Цюриха в Прагу – предложили должность штатного профессора теоретической физики в бывшем институте Эрнста Маха. На свое цюрихское место Эйнштейн предложил кандидатуру Адлера. Однако Адлер отказался, поскольку к тому времени переключился с физики на политику. Опасения его отца, увы, оправдались.
Фридрих Адлер вернулся в Вену и посвятил себя борьбе за социал-демократические идеи. Физику он отложил в долгий ящик, кисло отметив, что “мои идеи в этой области оказались недоступными для других физиков”. Но вскоре его новые коллеги начали сетовать, пусть на первых порах и в шутку, что его мышление излишне математично и что он пал жертвой “логической чумы”[87].
Эйнштейн тоже живо интересовался политикой, но в отличие от Адлера не мог отречься от первой любви – физики. Тем не менее, чтобы занять должность профессора в Австрии (в то время Прага находилась еще в Австрии), он должен был сообщить, какого он вероисповедания. Какое именно вероисповедание он укажет, было безразлично, но что-то нужно было написать – старый монарх Франц Иосиф настаивал на подобных вещах. Эйнштейн охотно подчинился и указал, что принадлежит к древнееврейской вере.
К этому времени он уже работал над радикальным обобщением теории относительности. Специальную теорию относительности потому и называют специальной, что она имеет ограничения – касается только наблюдателей, которые движутся равномерно друг относительно друга, – а общая теория относительности должна была быть гораздо шире и работать и для наблюдателей, которые движутся произвольно друг относительно друга. (Не все знают, что первую теорию относительности стали называть прилагательным “специальная” только после того, как была сформулирована общая теория: тем самым подчеркивалось, что первая теория “специальна”, поскольку ограничивается существенно меньшим классом ситуаций.)
Обобщение с систем отсчета, движущихся равномерно друг относительно друга, на системы отсчета, движущиеся произвольно, означало, что Эйнштейн переключился на системы отсчета, которые движутся друг относительно друга с ускорением. С характерной для него сверхъестественной интуицией Эйнштейн предположил, что гравитация и ускорение каким-то образом глубоко взаимосвязаны. На эту мысль его натолкнула одна особенность ньютонова закона всемирного тяготения. Эту особенность мог заметить кто угодно после Ньютона – наблюдение Эйнштейна было поразительно простым, – но почему-то никто не обратил на него внимания. Фантастически значимая идея, которая была у всех под носом триста лет, но осталась незамеченной. А Эйнштейн нашел эту прекрасную ракушку, когда сидел в одиночестве на берегу моря, и подобрал ее.
Вот что он заметил: каждое тело подвергается воздействию силы тяжести, пропорциональной его массе, однако его сопротивление гравитационному тяготению (как и любому тяготению) тоже пропорционально его массе (таков смысл третьего закона движения Ньютона). Это совпадение, если его можно так назвать, означает, что эти эффекты уравновешивают друг друга. А следовательно, если разные тела подвержены воздействию одного и того же гравитационного поля, они должны двигаться по идентичным траекториям, независимо от массы.
Хорошо, а что все это значит? Эйнштейн со студенческой скамьи в Цюрихе помнил, что то же утверждение применимо к телам в ускоряющейся системе отсчета – то есть, например, к ящику, который падает в сторону Земли со скоростью, растущей с каждым мгновением. Как ни удивительно, если наблюдатель, запертый внутри этого ящика, котрый несется навстречу неведомому, будет смотреть исключительно на тела внутри ящика, он не сможет сказать, движется ящик или покоится в пустом пространстве, поскольку все предметы будут парить, как будто гравитация отсутствует и на них не действуют никакие силы (сегодня это явление прекрасно известно как “невесомость”, и все мы видели его в фильмах об астронавтах на орбитальных космических станциях, но в те дни о нем, естественно, никто не слышал и не мог себе его представить – никто, кроме Эйнштейна).
А вот если тот же ящик утаскивает вверх волшебный ангел, который непрерывно ускоряется, то, с точки зрения наблюдателя, внутри предметы будут падать на пол, будто ящик стоит на земле. Короче говоря, картина внутри ящика, который несет ангел, поднимающийся в космос с ускорением, будет неотличимой от картины внутри ящика, который стоит на поверхности Земли (Луны, Венеры и пр.), подвергаясь ее притяжению.
Проделав эти два мысленных эксперимента на основании подмеченного совпадения, Эйнштейн пришел к важнейшему заключению: ускорение и гравитация глубоко аналогичны. А после этого он сделал отважный логический переход: они не просто аналогичны, а неотличимы друг от друга. Это озарение позволило провести неожиданную связь между двумя привычными явлениями, которые на первый взгляд не имеют между собой ничего общего. Эту радикально новую идею Эйнштейн назвал “принципом эквивалентности”, а в дальнейшем вспоминал момент открытия как “самую радостную мысль в моей жизни”.
Ускорение как явление относится к движению, а значит, к пространству и времени и, следовательно, к четырехмерной геометрии. Так Эйнштейн указал на фундаментальную, но до той поры не замеченную связь между геометрией и физикой (а точнее, силой тяготения). Но какова природа этой глубоко концептуальной связи, как она устроена? Эйнштейн бился с этой загадкой много лет в попытках выразить связь в виде точных формул. В какой-то момент он узнал, что над этим же вопросом бесплодно размышляет Давид Гильберт, а Гильберт, безусловно, был более сведущ в математике. Однако Эйнштейна эта новость ничуть не обескуражила, и он не опустил рук. Более того, он усердно следовал логике, подсказанной идеями Эрнста Маха – великого философа, которого Эйнштейн давно боготворил.
Мах утверждал, что инерция тела определяется неподвижными звездами в отдаленных уголках вселенной, а следовательно, зависит от распределения массы во всем пространстве. Это звучало несколько неопределенно, но, по мысли Эйнштейна, указывало в верном направлении. Эйнштейн назвал это “принципом Маха”.
Чтобы понять, что это за принцип, представьте себе, что вы находитесь на Северном полюсе и хотите измерить вращение Земли. Это можно сделать двумя разными способами: либо наблюдать, как точечка света от любой звезды, кроме Полярной, описывает полный круг у вас над головой, либо установить маятник и смотреть, как плоскость его качания медленно вращается, подобно маятнику Фуко в научном музее, пока не вернется в исходное положение. Интересно, что результаты этих двух измерений совпадут.
В сентябре 1910 года, когда Эйнштейн приехал в Вену, чтобы прийти в соответствующее учреждение и официально сообщить, какого вероисповедания придерживается, он воспользовался случаем и навестил Эрнста Маха в его скромной квартирке за городом. Это было за шесть лет до смерти Маха. Старый ученый, которого разбил инсульт, стремительно терял слух, однако юного отступника принял с радостью. Мах много лет мечтал познакомиться с первооткрывателем новомодной теории относительности. Он уже просил Филиппа Франка объяснить ему, что такое пространство-время. Беседа Эйнштейна и Маха, разумеется, коснулась и атомной гипотезы, и философии науки. Действительно ли общие законы физики – всего лишь экономный способ упорядочить данные наблюдений? Для Эйнштейна было большим облегчением узнать, что слово “экономный” Мах употребляет не в психологическом, а в логическом смысле. Это было гораздо ближе его собственным представлениям, чем формулировки в трудах Маха. Что касается идеи, что атомы существуют в действительности, то Мах признал, что она поистине экономна, а следовательно, научно правомерна, поскольку способна объединять набор наблюдений, которые в ином случае остались бы разрозненными. Эйнштейн понимал, что со стороны Маха это серьезная уступка, и из деликатности не стал развивать тему. В тот же день он нанес визит и знаменитому Виктору Адлеру, отцу своего друга Фридриха.
Прага показалась Эйнштейну очень красивой, но удержать надолго не смогла, хотя он добродушно замечал, что заседания кафедры в тамошнем университете были занимательнее любой постановки в местных театрах. Покинув этот великий город, Эйнштейн неоднократно публично заявлял, что вопреки слухам не столкнулся там с антисемитизмом. Это был его первый шаг к тому, чтобы стать выразителем мнений своего “племени”, как он выражался.
В 1912 году Эйнштейн вернулся в Цюрих, на сей раз уже как штатный профессор, однако вскоре непоседливый релятивист снова переехал, на сей раз в Институт кайзера Вильгельма в Берлине – предшественник современных институтов Макса Планка. Тем самым Эйнштейн автоматически вернул себе немецкое гражданство. Германский рейх обеспечивал идеальные условия для этой общепризнанной восходящей звезды физики. Венские журналисты кисло отметили, что ни один австрийский институт не в состоянии соперничать с теми возможностями, которые предоставлял своим исследователям Институт кайзера Вильгельма.
Преемником Эйнштейна в Праге по его рекомендации стал бывший ученик Больцмана Филипп Франк, этот столп Urkreis. Друг Франка Ганс Ган, математик, покинул Вену еще в 1911 году, чтобы стать профессором в Черновицком университете, который был основан в 1875 году в самом отдаленном уголке Габсбургской империи. В дальнейшие годы вопрос о принадлежности этого плавильного котла национальностей к Украине, Польше или Румынии стал предметом бурных споров. Но тогда, в 1911 году, Черновцы просто принадлежали Габсбургам. Это была столица одной из земель Короны – герцогства Буковинского. Тут уж все ясно как день! И теперь новоиспеченный профессор Ган мог жениться безо всяких сомнений. Его избранницей стала Лилли Минор, которая вместе с сестрой Гана Ольгой была одной из первых женщин в Вене, получивших докторскую степень по математике.
Назначение Гана в Императорский и Королевский университет Франца Иосифа в Черновцах было типичным первым шагом в обычном cursum honorum[88] в далеких сельскохозяйственных провинциях, который еще называли Ochsentour – буквально “воловья тропа” – медленное и трудное продвижение по карьерной лестнице. В идеале такой окольный путь через провинцию должен был привести молодого ученого, если все пойдет по плану, в Венский университет с перевалочными станциями в Праге, Граце и тому подобных местах. Точно так же венские актеры вынуждены были прокладывать себе дорогу к вершинам – к вожделенному Burgtheater, главной сценической площадке города. Нет нужды говорить, что до конца добирались не все, как профессора, так и актеры.
Однако юный Ганс Ган, похоже, ни секунды не сомневался, что когда-нибудь вернется в Вену. Более того, накануне отбытия в Ochsentour он объявил своим приятелям по кофейне, что, как только вернется, они возобновят регулярные диспуты по четвергам вечером, но на сей раз “при поддержке университетского философа”[89].
Любопытно, что именно так и произошло – всего-то пятнадцать лет спустя.
Венский модернизм и другие сенсации
Неудивительно, что философские вопросы, занимавшие Urkreis сразу после появления на научном небосклоне Рассела, Гильберта и Эйнштейна, оставались для большинства современников китайской грамотой. Широкая публика в лучшем случае замечала устрашающие заголовки – вроде статьи в самой известной венской газете Neue Freie Presse: “Минута в опасности: математическая сенсация”[90]. Эта загадочная фраза, разумеется, отсылала к удивительным следствиям из теории относительности. Однако и в других областях ученые получали “сенсационные” результаты, оказавшие сильнейшее влияние на радикально-модернистское поколение, выросшее в годы перед самой Первой мировой войной.
Научно-технический прогресс привел к появлению невероятных новинок. Радиосигналы связали континенты, рентгеновские лучи позволили заглянуть внутрь живых организмов, аппараты тяжелее воздуха подняли в небо отважных авиаторов. И при этом самые основы науки становились все абстрактнее, все недоступнее, а их потенциальное применение обретало все более зловещую окраску. Подспудная тревога отчасти проявилась в “Факультетских картинах”, которые написал для Венского университета Густав Климт в 1900–1907 годах. Климт создал по одной настенной росписи для трех факультетов – философского, медицинского и юридического.

Густав Климт. Философия. Настенная роспись
Жутковатые образы Климта будоражат воображение – нагие мужчины и женщины, плывущие в забытьи сквозь потустороннюю пустоту. На самом деле ему заказывали “Триумф света над тьмой” – ведь философский факультет покровительствовал научным институтам. Поэтому ожидалось, что художник создаст полотно, полное оптимизма и прославляющее прогресс. А Климт выразил собственную реакцию – сродни контузии – на страшный урок, который преподает любая научно-техническая революция: человек отнюдь не есть мера всех вещей. Человечество зародилось в огромном и абсолютно чуждом мире по чистейшему капризу судьбы.
В Вене разразился скандал. Оскорбленные в своих чувствах не стали молчать, а газетчики с радостью бросились в гущу схватки. Искусствовед Франц Викхофф (1853–1909) прочитал о картинах Климта лекцию “Что есть уродство?”. В ней он защищал Климта, однако большинство его коллег-философов не узнали в демонических настенных росписях Климта свою обожаемую науку. Многие, в том числе и Больцман, подписали петиции с протестом.
В итоге, окончательно разозлившись, Густав Климт разорвал контракт и вернул аванс. К этому времени он, естественно, уже потратил все деньги, но у него были частные покровители, которые помогали ему финансово, в том числе отец Людвига Витгенштейна. Больше Климт никогда не брал государственных заказов. Сегодня печально знаменитые “Факультетские картины” мы можем увидеть лишь в репродукциях – все оригиналы уничтожили отступавшие войска СС в конце Второй мировой войны.
В последние годы перед Первой мировой войной современное искусство ничуть не уступало в сенсационности науке, и интеллектуальная венская молодежь умела в полной мере насладиться и тем, и другим. Лучше всех провоцировали авангардные скандалы студенты, периодически собиравшиеся на заседания Академического союза любителей музыки и литературы. Эта группа не упускала случая ввязаться в любой спор, о чем бы ни шла речь – о строгой гладкой архитектуре Адольфа Лооса, двенадцати музыкальных тонах Арнольда Шёнберга или картинах Оскара Кокошки с их буйным колоритом. Оживленные дискуссии в Urkreis нужно рассматривать в сопоставлении с этой культурно сверхзаряженной группой. Ведь художники сидели практически за соседним столиком в кофейне. Например, младшая сестра Ганса Гана Луиза была живописцем, а брат Филиппа Франка Йозеф – архитектором. Настроения юных ученых полностью соответствовали искрометному духу зародившегося столетия.
Модернистское мировоззрение выводило на первый план функциональность без прикрас и доминировало не только в науке, но и в литературе и архитектуре. Орнаментальность и сентиментализм воспринимались как подозрительные пережитки прошлого поколения.
А теперь было принято отдавать предпочтение фактам, практичности, деловитости и опрятности. От пышных бород и корсетов отказались как от реликтов минувшей эры.
Наука с дурным глазом
К этому поколению, столь очарованному наукой, принадлежал молодой писатель Роберт Музиль (1880–1942). Сентиментальные позы были ему совершенно чужды. Он любил математику за безжалостность и называл ее “наукой с дурным глазом”. И считал, что “прочитав подряд два немецких романа, надо взять интеграл, чтобы привести себя в форму”[91].
Музиль изучал инженерное дело в Брюнне, где его отец был профессором. Талантливый юноша не просто чувствовал себя в математике как рыба в воде – она привлекала его еще и благодаря романтическому интересу. Музиль, как он сам писал впоследствии, “был избран, чтобы полюбить Эльзу фон Шубер”[92], дочь математика. Однако его страсть и преданность ни к чему не привели. Эльза (которую на самом деле звали Берта! Что сказал бы на это Фрейд?), неотразимая фрейлейн Шубер, предпочла другого. Она вышла за эрцгерцога, который ради любви к ней отказался и от титула, и от дохода. Времена настали новые, но оперетты еще не успели отойти в прошлое.
В 1902 году Роберт Музиль покинул “Каканию”. Так он прозвал двойную монархию (Австрийскую империю и Королевство Венгрию), чьи официальные учреждения всегда имели в своем названии сокращение k.k. (произносится “ка-ка”) – kaiserlich-koniglich, “имперский и королевский”. Естественно, все понимали, что “Какания” Музиля при всей своей аристократической наружности на самом деле означает “Дерьмландия”.
Роберт Музиль переехал в Берлин, где изучал математику, физику, психологию и философию, а в 1908 году получил докторскую степень. Его диссертация на тему “Оценка учения Маха” (Beurteilung der Lehren Machs)[93] начинается со следующих строк: “Слово ученого сегодня весит очень много в тех случаях, когда точная философия подступается к вопросам метафизики и теории познания. Давно прошли те времена, когда картина мира могла полностью сформироваться в голове философа”.
При всем своем восторженном отношении к науке доктор Музиль ученым не стал. Еще студентом он завершил первый роман “Душевные смуты воспитанника Тёрлеса”. Душевные смуты были вызваны, в частности, тем, что “с этими мнимыми или еще какими-либо невозможными величинами можно действительно производить вычисления, дающие осязаемый результат”[94].
Первый роман был встречен с большим энтузиазмом. Поэтому Музиль отклонил предложение стать старшим преподавателем в Университете Граца, чтобы полностью посвятить себя писательству. Пожалел ли он впоследствии об этом решении? Беда в том, что его литературная карьера вскоре зашла в тупик. В конце концов Музилю пришлось согласиться на работу библиотекаря в Венском техническом университете. Впрочем, этот компромисс оставил ему вдоволь времени для сочинительства.
Но вскоре он впал в нездоровое возбуждение. Психиатр Отто Пётцль (1877–1962), с которым мы встретимся еще не раз и не два, поставил ему диагноз – тяжелая неврастения. Музиль уволился со своего, вероятно, слишком уж уютного местечка и вернулся в Берлин. Там он пошел работать в знаменитое издательство и, в частности, попытался – впрочем, безуспешно – убедить одного молодого пражского автора переписать странную историю, которую тот прислал. Назывался тот жутковатый рассказ “Превращение”, а автора звали Франц Кафка.
В 1913 году Музиль опубликовал эссе “Математический человек” – размышления о кризисе, катализатором которого стал Бертран Рассел. Начал Музиль с того, что подчеркнул, насколько важную роль сыграло математическое мышление в создании всех механизмов, без которых немыслима повседневная жизнь. Правда, в дальнейшем он оговорился, что все это математическое мышление вдохновлялось не практическими инженерными потребностями, а чистым математическим любопытством. Пока что ход рассуждений нам знаком. Но затем Музиль делает неожиданный разворот:
И вдруг, когда все так прекрасно устроилось, зажило и задвигалось, математики, те самые, кто сидел по темным углам, колдуя над своими формулами, – объявили, что в самом фундаменте их науки что-то такое абсолютно невозможно привести в порядок. Они глядели в корень и в конце концов углядели, что все огромное здание держится, можно сказать, ни на чем. Но машины-то работали! Отсюда следовало, что наше существование – какой-то обман, призрак; мы живем, собственно говоря, в результате ошибки; если бы не она, нас тут вовсе бы не было. Невозможно подыскать аналогию ощущения, какое испытывает математик: ощущение фантасмагории[95].
“Держится ни на чем…” Музиль словно бы описывает ощущения фигур Климта, которые в трансе плывут сквозь вязкую пустоту. Но некоторые крепкие орешки все же не теряют головы. И в самом деле: “Этот интеллектуальный скандал математик демонстрирует самым наглядным образом, открыто гордясь дьявольским безрассудством своего разума и уповая только на него… Нечего ссылаться на то, что вне своей специальности математики часто бывают тупыми посредственностями и даже сама их хваленая логика покидает их, когда они оставляют свою науку. Там уже не их область. Зато в своей они делают то, что нам надлежало бы выполнять в нашем деле. В этом и состоит смысл их существования и урок, который они нам дают: они – пример для тех людей духа, которые должны прийти”[96].
Венский писатель Гуго фон Гофмансталь (1874–1929) был меньше Роберта Музиля искушен в научных кризисах, но точно так же понимал, что “в самом фундаменте их науки что-то такое абсолютно невозможно привести в порядок”. Он писал: “Наша эра обречена покоиться на шатком основании, и мы понимаем, что то, что прежние поколения считали незыблемым, на самом деле шатко”[97].
В том же году, когда Музиль писал о “Математическом человеке”, k.k.-монархию потрясло дело о шпионаже, которое цензорам не удалось замолчать, как они ни старались. Оказалось, что полковник Альфред Редль, офицер контрразведки, все это время был русским шпионом. Или, если вспомнить метафору Анри Пуанкаре, овчарка пастуха оказалась волком.
Когда этот безобразный скандал стал достоянием публики, доброжелатель из числа коллег Редля тайно передал ему пистолет. То есть задачей Редля стало покончить с собой. Так он и поступил, оставив множество вопросов без ответа.
Однако один вопрос ему так и не задали, и вот какой. Могла ли австрийская секретная служба, официально называемая Бюро доказательств, предложить “аналогию ощущения, которое испытывает математик”? Ведь если посмотреть “в корень”, говоря словами Музиля, точно так же окажется, что “все огромное здание держится… ни на чем”.
Громкая история полковника Редля наверняка убедила венцев, если они нуждались в убеждении, что абсолютная уверенность – химера. Самые основы “Какании” уже начали рушиться.
Глава четвертая. Венский кружок набирает обороты
Вена, 1914–1922. Крах на Восточном фронте. Фридрих Адлер, когда-то бывший темным двойником Эйнштейна, после обеда стреляет в премьер-министра. Эйнштейн просит судью помиловать Адлера. Адлер считает, что Эйнштейн ошибся. Ганс Ган, раненый на войне, демобилизуется, занимает кафедру в Вене и вспоминает о юношеском романе с философией. Мюнхенский суд обвиняет военного экономиста Отто Нейрата в соучастии в заговоре. Нейрата депортируют в Вену, и он утверждает, что корабли можно чинить в открытом море. Мориц Шлик, уроженец Берлина и протеже Эйнштейна, возглавляет Венский кружок и понимает, что в Австрии грядут тяжелые времена. Всячески приветствует возобновление встреч кружка вечером по четвергам.
Новые измерения
Когда земля уходит из-под ног, приходится за что-то цепляться. Генералы Какании цеплялись за свои военные планы, хотя и знали, что русские в них посвящены. Вероятно, они рассуждали, что если русским известно, что австрийцам известно, что русским известны австрийские планы, царская армия наверняка предвидит перемены и будет поймана врасплох, если все останется по-прежнему.
Если и так, расчеты не оправдались. На Восточном фронте разразилась катастрофа, не успели k.k.-войска даже выстроиться в боевой порядок. В считанные недели русские захватили Черновцы. Так что в конце лета 1914 года Ганс Ган остался и без дома, и без работы в Университете Франца Иосифа – а ведь и то, и другое только что казалось таким надежным. Его жене Лилли с маленькой дочерью Норой пришлось искать убежища в Вене.
Гана призвали в имперскую армию. В 1915 году на итальянском фронте он был ранен. Пуля застряла в позвонке так близко к спинному мозгу, что хирурги не решились ее извлечь. Ган несколько месяцев провел в госпитале, а затем был демобилизован; пуля осталась в его теле на всю жизнь.
Несмотря на все эти невзгоды, Ганс Ган вернулся к математическим исследованиям пространств бесконечной размерности, и перед ним открылось новое многообещающее поле для исследований. Ган стал одним из основателей функционального анализа наряду со своим польским соперником Стефаном Банахом.
Непосвященным даже идея четырех измерений видится головоломной. Но математики больше не были скованы интуицией. В двумерном пространстве точка задается двумя числами – своими координатами; в трехмерном – тремя. Если вместо точек в пространстве, которые можно себе зримо представить, взять наборы координат, это, так сказать, лишает пространство глубины, но глубина для вычислений и не требуется. Считать можно даже без мысленной картины происходящего.
А тогда почему бы не взять вместо двух или трех координат четыре, пять или сто? Математики любят обобщать, поэтому не устояли перед искушением изучать пространство с произвольным числом измерений, даже бесконечным – в таком пространстве точка соответствует последовательности координат, длящейся бесконечно, как знаки после запятой. В таких пространствах, хотя они и абстрактны, можно обобщать знакомые формулы для вычисления углов и длин, а следовательно, заниматься геометрией. Вычисления заменяют интуицию, точнее, помогают ей, ведь математики все равно не могут удержаться от попыток представить себе сущности, которые занимают их мысли изо дня в день. Однако делают это украдкой, ни с кем не делясь.
Как ни удивительно, оказалось, что функциональный анализ невероятно полезен для физики. Например, в статистической механике Больцмана состояние газа, содержащего 1023 молекул, не более чем точка в пространстве, имеющем 6 1023 измерений. Ведь каждая молекула определяется своим положением в трехмерном пространстве (то есть имеет три координаты) и своей скоростью – еще три координаты на каждую молекулу. А главное, этот новомодный анализ, где с бесконечными последовательностями и даже с функциями обращались как с точками, оказался незаменимым в бурно развивающейся области квантовой физики.
Дела у инвалида войны Ганса Гана пошли заметно лучше. В 1917 году он получил место профессора в Бонне. Там он случайно встретил коллегу по Черновцам Йозефа Шумпетера (1883–1950) – эксцентричного экономиста. В отличие от большинства экономистов своего времени, Шумпетер высоко ценил точные вычислительные методы и еще в бытность новоиспеченным молодым доктором наук написал статью “Математические методы в теоретической экономике” (ber mathematische Methoden in der theoretischen konomie).
Боннский университет был, несомненно, превосходным учебным заведением, однако Ганс Ган чувствовал себя на берегах Рейна не в своей тарелке и так и не прижился там. Более того, пацифистские листовки, которые он распространял, поссорили его с немецкими властями. Впрочем, к этому времени Ган уже надумал снова сменить адрес. В Веском университете вот-вот должна была освободиться должность профессора математики. Перед Ганом внезапно открылась блестящая возможность возобновить заседания философского кружка, старого доброго Urkreis, как он пообещал много лет назад.
Ганс Ган был готов вернуться домой.
Почти измена
Ганс Ган родился в Вене в так называемом “втором обществе”. Он рос в рафинированной атмосфере fin-de-sicle[98], которую так верно описал Артур Шницлер: искрометно-остроумные беседы в литературных салонах, многозначительные взгляды, которыми обменивались во время музыкальных soire[99], сумрачные кофейни, где каждый второй страдал манией величия, и бодрящие дух и тело выходные в Земмеринге – на модном горном курорте, до которого из Вены можно было добраться всего за несколько часов.
Отец Гана начал профессиональную деятельность как журналист и музыкальный критик, а затем стал главой Телеграфно-Почтового бюро (Telegraphen-Correspondenz-Figure Bureau). Таким образом, он принадлежал к высшему слою штатского чиновничества: ведь телеграф, самое быстрое средство коммуникации, превратился в нервную систему монархии, а эта монархия по размерам уступала только России. Всякий, кто открывал Amtskalender – альманах, где методично перечислялись все чиновники, подчинявшиеся императору, – первым в списке видел имя отца Ганса Гана.
Отец рассчитывал, что сын будет изучать право, однако тот после первого курса переключился на математику. Несколько семестров Ганс провел в Страсбурге и Мюнхене, а затем вернулся в Венский университет. И докторский, и хабилитационный экзамен (на право читать лекции в университете) принимал у него профессор Людвиг Больцман, к тому времени уже ставший легендой.
У Гана был выдающийся талант привлекать таланты. Его первую студенческую компанию прозвали “неразлучной четверкой”. В этот квартет помимо самого Гана входили Густав Гергольц (1881–1953), изучавший математику и астрономию, впоследствии профессор в Лейпциге и Геттингене, Генрих Титце (1880–1964), необычайно многогранный математик, в дальнейшем профессор в Мюнхене, и Пауль Эренфест, бывший однокашник Гергольца, который написал докторскую диссертацию о механике Генриха Герца под руководством Больцмана, а затем сделал существенный вклад в развитие квантовой механики и общей теории относительности.

Ганс Ган, соблазненный философией
Когда Больцман покончил с собой, Эренфеста как восходящую звезду попросили написать статью о статистической механике для новой “Энциклопедии математических наук” (Enzyklopdie der mathematischen Wissenschaften).
Статья Эренфеста, шедевр ясности и простоты, вошла в число классических трудов по физике. Но поскольку ее автор в отличие от Эйнштейна наотрез отказался заявлять о принадлежности к какой бы то ни было вере, он не мог претендовать на место профессора в империи Франца Иосифа. Поэтому Пауль и его жена Татьяна, тоже одаренный математик, в течение пяти лет жили и работали в Санкт-Петербурге, однако не занимали никаких постоянных должностей. Затем по рекомендации Эйнштейна Эренфесту предложили престижную должность профессора теоретической физики в Лейдене. В Нидерландах профессор имел право на полную свободу мысли.
Гансу Гану тоже предложили составить статью для “Энциклопедии” – знак уважения коллег. Он написал ее совместно с Эрнстом Цермело, бывшим студентом Давида Гильберта. Цермело, который когда-то лишил Больцмана сна и аппетита своим злокозненным “парадоксом повторяемости”, открыл и парадокс теории множеств Рассела совершенно независимо от Рассела и даже немного раньше. (В науке сплошь и рядом случается, что результат называют в честь человека, получившего его последним.) Цермело работал в Геттингене и идеально подходил для того, чтобы снабдить Гана самыми свежими сведениями о фундаментальной математике, и лет через двадцать эти труды оправдались с избытком.
“Неразлучная четверка” распалась еще в студенческие годы. Вокруг Гана собралась другая компания – на сей раз из молодых докторов наук. Это и был Urkreis. Однако члены “четверки” не теряли друг друга из виду даже после разлуки. В 1909 году Ган писал в Петербург своему другу Паулю, который теперь именовал себя Павлом: “За последний год я чуть не изменил математике, соблазнившись чарами… философии. Все начиналось прекрасно – с Пуанкаре, Маха и Герца, – но тут вмешался Кант, а это с неизбежностью привело к Аристотелю и компании. Презрение, с которым наши коллеги сегодня говорят об этих мыслителях, представляется мне полной нелепицей, ведь многие всерьез убеждены, будто человек, чье имя и теперь, две тысячи лет спустя, гремит так же, как и тогда, не писал ничего, кроме глупостей”[100].
“Я не слишком подвержен эмоциям, – признавался Ган Эренфесту. – Но другу, который так далеко, как ты, вынужден открыть душу: временами, когда я мимоходом пытался прикоснуться к метафизике Аристотеля, меня охватывало благоговение, и я глубоко сожалею, что у меня не было возможности основательно поразмышлять об этом”[101].
В Вене двадцатых годов Ган умудрился выкроить время именно для такой “возможности основательно поразмышлять об этом”.
На штатную должность профессора математики был большой конкурс, но Ган в конце концов оказался на самом верху списка и не заставил себя уговаривать.
Новая форма романтизма
Вена двадцатых годов утратила почти весь былой блеск. Императора больше не было, многонациональная империя рухнула. Масштабные проекты метро и канала к Балтийскому морю, работы по которым должны были начаться в 1914 году, пришлось отложить из-за войны. От Австрийской империи осталась лишь гидроцефалическая республика, малюсенькая страна с непомерно огромной столицей, и экономически, по всеобщему мнению, она была обречена. На третий год войны в Вене случился страшный голод, и в горькие послевоенные годы положение не слишком улучшилось. Горожан косили эпидемии, особенно так называемая испанка. Умерли и художники Густав Климт и Эгон Шиле, и архитектор Отто Вагнер. От государственной казны остались сущие крохи, и даже бывший коллега Гана Йозеф Шумпетер, который тоже вернулся из Бонна и некоторое время пробыл в должности госсекретаря, обнаружил, что ничего не в силах сделать, как бы ни старался. Любые усилия были напрасны. Многим казалось, что наступил конец света. Карл Краус написал едкую сатирическую пьесу “Последние дни человечества” (Die letzten Tage der Menschheit), поставить которую, по его словам, удастся лишь в каком-нибудь марсианском театре. А Гану пришлось продать унаследованную от отца красивую виллу в курортном Земмеринге. Однако же ему удалось сохранить дом в Нойвальдеге, одном из самых элегантных жилых районов Вены, откуда рукой подать до Венского леса. Впрочем, в кофейнях стало еще многолюднее, да и Венский филармонический оркестр играть не разучился. Ган любил ходить на концерты с партитурой на коленях. Ведь его отец, покойный надворный советник, когда-то был музыкальным критиком.

Кабинет Ганса Гана располагался в Новом физическом корпусе поблизости от Штрудльхофских лестниц
Институтский корпус математики, физики и химии достроили незадолго до войны. Он стоял на улице, которую только что переименовали в Больцмангассе, неподалеку от изящных Штрудльхофских лестниц. Романист Хаймито фон Додерер (1896–1966), чьи персонажи часто бродили по этому району, называл эти здания “гладкими и непроницаемыми”[102]. Для него здесь витал “дух ой новой разновидности романтизма, какой источает только самая точная из наук”. Додерер принадлежал к “потерянному поколению”, которое теперь заполняло университетские аудитории.
У Гана было двое весьма почтенных коллег по математическому факультету – Вильгельм Виртингер (1865–1945) и Филипп Фуртвенглер (1869–1940). Однако Фуртвенглер был парализован ниже шеи, а Виртингер стремительно глох и отличался вздорным характером. Оба были лет на двадцать старше Гана и только рады переложить часть учебной нагрузки на энергичного новичка.
Аудитории были забиты сверх всякой меры. Не было ни угля, чтобы топить их зимой, ни бумаги, чтобы печатать Die Monatshefte fr Mathematik und Physik – авторитетный венский математический журнал. Чтобы возобновить его выпуск, и то с отставанием на несколько лет, потребовался благотворительный взнос богатого семейства Витгенштейн. Научные контакты с зарубежными странами прервались. Жалованья ученого едва хватало на полмесяца. Новое государство балансировало на грани банкротства, деньги стремительно обесценивались.
Все это не сулило ничего хорошего возрожденному философскому кружку. Однако Ганс Ган, мужчина видный и с зычным голосом, не дал себя запугать и не отступился от своей великой цели.
Тем более что на его стороне теперь стоял соратник еще выше и громогласнее – настоящий человек-гора, старый школьный друг Гана Отто Нейрат, который тоже вернулся в Вену. Точнее, его вернули.
Задача о наибольшем удовольствии
Два друга, которым тогда было около сорока, вернулись из Германии при совсем разных обстоятельствах: Ган принял предложение занять престижную кафедру в своей венской альма-матер, а Нейрат пересек границу ночью как депортированный арестант, которого без лишних церемоний водворили восвояси. Нейрат был основателем и президентом службы Центрального экономического планирования в Мюнхене, которая просуществовала недолго, и пытался провести “полную социализацию”, то есть национализацию, при двух злосчастных правительствах Баварской Советской Республики. Эксперимент провалился с треском и блеском – ему положила кровавый конец германская армия, рейхсвер.
Отто Нейрат был сторонником социализации, сколько себя помнил. Его отец Вильгельм сумел вырваться из так называемых низших классов и стал профессором национальной экономики и статистики в Венском сельскохозяйственном институте (в прошлом – Королевская коллегия сельского хозяйства). Старший Нейрат без устали критиковал либеральную экономическую систему. Капитализм был обречен. По убеждению ученого, частная конкуренция неизбежно должна была вызвать кризис перепроизводства – а в результате привести к расходу ресурсов, упадку экономики и всяческим несчастьям.
Те же подрывные представления пропагандировал друг и наперсник отца Отто Нейрата Йозеф Поппер (1838–1921), печально знаменитый венский чудак, который по воле случая был еще и близким другом Эрнста Маха. Поппер, подписывавшийся псевдонимом Линкеус[103], с миссионерским рвением провозглашал, что кормить граждан – долг государства. В то время это было крайне неординарное мнение, которое осторожно изучали разве что члены Фабианского общества в поздневикторианской Англии и некоторые другие мечтатели.
Поппер-Линкеус писал трактаты о социальных утопиях и публиковал их под броскими заголовками вроде “Право жить и обязанность умереть” (Das Recht zu leben und die Pflicht zu sterben). Отто Нейрат, выросший под подобным влиянием, с детства стал страстным приверженцем плановой экономики и отказа от денег.
Нейрат два семестра изучал в Вене математику и философию, а затем в 1900 году решил перебраться в Берлин – город несравнимо более динамичный, пышущий силой и самоуверенностью. Не нужно было быть немцем, чтобы прийти к убеждению, что зарождающийся век будет принадлежать Германии.
В круговерти столичной жизни Нейрат постигал национальную экономику, социологию и историю. Докторскую степень он получил за диссертацию по экономике древнего мира, в основном об обществах, строившихся не на деньгах, а на бартере.
Когда отец Отто, оставшийся в Вене, умер, Нейрату-младшему пришлось познакомиться с реалиями безденежной экономики, и знакомство это было прямолинейным и болезненным. Чтобы свести концы с концами, ему пришлось продать большую часть унаследованной библиотеки из тринадцати тысяч книг и заполнить бланк заявления на государственное пособие.
В 1907 году Отто Нейрат стал преподавателем в венской Новой академии коммерции. Именно он во время диспутов Urkreis в кофейне следил, чтобы гуманитарные науки не оставались в стороне. Более того, он всегда был рад возможности изложить свои воззрения на собраниях Философского общества.
На лекции “Задача о наибольшем удовольствии” (Das Problem des Lustmaximums) молодой подстрекатель предложил радикально новую картину утилитаризма. Примерно тогда Зигмунд Фрейд рассказывал о своем знаменитом “принципе удовольствия” (он же Lustprinzip – инстинктивная тяга к удовольствию) на собраниях Психологического общества по средам. Однако Отто Нейрат в отличие от Фрейда не интересовался потаенными уголками человеческой души. Его занимали не люди, а общества, и, по его мнению, общество следовало оценивать по тому, насколько ему удается оптимизировать общую сумму удовольствия в своих пределах. Если по этому вопросу не удастся достигнуть согласия (а скорее всего, так и будет), “разнообразие мнений о наилучшем способе организации общества неизбежно перейдет в борьбу, чтобы узнать, какое мнение окажется превалирующим”[104].
Этот молодой великан с огненно-рыжей гривой сразу привлекал внимание, особенно дам. Еще бойким школьником он завязал романтические отношения с известной шведской писательницей Эллен Кей (1849–1926). В 1907 году он взял в жены Анну Шапиро (1877–1911), марксистку и феминистку на шесть лет старше. Писатель Артур Шницлер метко назвал ее в дневнике “философствующая русская”[105]. В ее романе с Отто ощущалось заметное влияние оперы “Богема”, и все кончилось трагически: Анна умерла, когда рожала их сына Пауля.

Отто Нейрат с огненно-рыжей гривой
Через полгода Отто женился снова. Его второй женой стала старая любовь – младшая сестра Ганса Гана Ольга, которая ослепла, когда ей было едва за двадцать. Они вместе даже опубликовали несколько статей по ее специальности – математической логике.
Однако оказалось, что ухаживать за маленьким сыном Отто незрячей Ольге трудно, поэтому мальчика отправили в приют, где он и вырос. В первые десять лет жизни он почти не виделся со своим необычайно деятельным отцом.
Начиная с 1909 года Отто Нейрат опубликовал цикл статей, которые легли в основу новой области знания – экономики военного времени. Войны случались так часто и приносили такой тяжелый урон, что их нельзя было считать просто досадными возмущениями обычного равновесия на рынке. Здесь Нейрат видел явные предвестники централизованной плановой экономики. Более того, налицо были примеры, когда деньги утрачивали значимость как средство обмена, а люди возвращались к бартеру. Статьи Нейрата поместили экономику военного времени на карту научных дисциплин. Недостатка в материалах для изучения не было – более того, они нашлись прямо на заднем дворе Австрии: одна за другой – сначала в 1912, потом в 1913 году – разгорелись две Балканские войны.
Нейрат считал свою дисциплину абсолютно свободной от оценочных суждений – “эта наука в точности такая же, как баллистика, и точно так же не зависит от того, кто за, а кто против применения пушек”[106]. Новаторские идеи позволили этому оригинально мыслящему молодому социолгу добиться профессиональных успехов. Судя по всему, экономика военного времени стала новой и перспективной научной нишей.
Когда разразилась Первая мировая война, опять же прямо на заднем дворе Австрии и на сей раз в результате ее грубых ошибок, интерес к новой дисциплине Нейрата вспыхнул с колоссальной силой. Однако Нейрату пришлось два года пробыть на самой обычной военной службе, и лишь затем ему приказали явиться в военное министерство. Там он стал начальником отдела в комитете по экономике военного времени.
Заинтересовались Нейратом и немецкие союзники и назначили его директором-основателем Музея экономики военного времени в Лейпциге. Задачей музея было задокументировать важность плановой экономики. В последний год Первой мировой войны Нейрат провел в разъездах между Веной и Лейпцигом, а по дороге, если можно так выразиться, получил еще и право читать лекции (хабилитацию) в Гейдельбергском университете. Помимо всего прочего, говорят, что его мнению придавал большое значение знаменитый Макс Вебер, социолог и экономист.
В августе 1918 года новый музей в Лейпциге с гордостью открыл свою первую выставку. Она оказалась последней. Темой выставки стала вражеская экономическая блокада Германии и Австрии. И блокада обошлась дорого. Германская и Австрийская империи рухнули, а музей закрылся.
План планов
С точки зрения Нейрата, конец войны и последовавшая Ноябрьская революция в Германии предоставили великолепную возможность произвести полную социализацию. Основная работа уже позади, утверждал он: осталось лишь превратить централизованную плановую экономику военного времени, которая уже налажена, в систему, годящуюся и для нужд мирного времени.
О своих планах Нейрат рассказал сначала в Саксонии, где его никто не принял всерьез, зато в Баварии его ждал успех. Это стало неожиданностью, поскольку революционное движение в Баварии не слишком хорошо показало себя на выборах в марте 1919 года, а его лидер был убит; но, несмотря на такие неудачи, советы солдат и рабочих не сдавались. К власти в Мюнхене законным путем пришло социалистическое правительство. Оно поручило Нейрату организовать службу Центрального экономического планирования, чтобы воплотить полную социализацию в жизнь.
В разгар колоссальных политических потрясений Нейрат бросил все силы на усовершенствование “плана планов”[107] – верховного плана плановой экономики. Ведь это была его мечта. Он не отступился от задачи, даже когда в апреле власть в Мюнхене захватило советское правительство, устроившее путч – лишь для того, чтобы его вскоре свергло второе правительство. Эти правительства-однодневки были всего лишь искорками в политическом костре. Когда порядок восстановился, по Баварии прокатилась волна арестов. Предварительное заключение Нейрата продлилось примерно столько же, сколько его работа в службе Центрального экономического планирования: шесть недель.

Отто Нейрат на обличительном плакате
Линия защиты была простой: Нейрат утверждал, что он всего лишь чиновник и “социальный техник” и к политике безразличен. Чистоту его намерений подтвердили многочисленные свидетели, в том числе слепая жена Ольга, которая пережила все это светопреставление в Мюнхене. Кроме Ольги это были писатель и промышленник Вальтер Ратенау (1867–1922), главный организатор экономики военного времени в Германии, социолог Макс Вебер (1864–1920), обнаруживший притаившуюся в кулуарах капитализма протестантскую рабочую этику, и Отто Бауэр (1881–1938), лидер австрийских социал-демократов – и все они писали письма в защиту Нейрата. Бауэр, работавший плечом к плечу с Нейратом в австрийском комитете по экономике военного времени, писал судье: “Нейрат самым добросовестным образом служил последовательно в австрийском военном министерстве, затем в левоцентристском коалиционном правительстве и, наконец, в Баварской Советской Республике, поскольку убедил себя, что все эти правительства одинаково подходят для воплощения его социально-технических проектов”[108].
Возвращение боевого коня
Несмотря на заступничество Отто Бауэра, Нейрата все же осудили. Двадцать пятого июля 1919 года его приговорили к полутора годам тюрьмы за соучастие в государственной измене. Однако он мог благодарить счастливую звезду, что его обвинили лишь в содействии, а не в самой измене, поскольку в противном случае он бы лишился головы.
Вскоре после приговора Отто Бауэр, занявший место министра иностранных дел Австрийской республики, принял меры, чтобы баварское правительство освободило политического заключенного. Это привело к межправительственным пререканиям, затянувшимся на несколько месяцев. Нейрат никогда не терял времени даром и на сей раз провел тюремный срок весьма плодотворно – написал книгу “Анти-Шпенглер” (Der Anti-Spengler). Немецкий историк Освальд Шпенглер (1880–1936) создал трактат об истории культуры “Закат Европы”, вышедший в 1918 году и немедленно оказавший колоссальное влияние на весь немецкоязычный мир. Представления Шпенглера о естественном расцвете и неизбежном увядании великих цивилизаций задели за живое, поскольку в то время Европа стала свидетельницей падения трех империй. Отведав Армагеддона, многие утратили всякую веру в прогресс и уже видели, как азиатские орды свирепо барабанят в ворота, и ждали кровавой битвы, которая окончательно лишит Запад мирового господства.
Однако Нейрату все эти “сумерки богов” были отвратительны. Он категорически возражал против апокалиптической картины упадка и краха, которую нарисовал Шпенглер. Нейрат был убежден, что против такого распада можно что-то предпринять. В своем антишпенглеровском трактате он писал (как и много раз впоследствии, просто другими словами): “Мы подобны мореходам, чей корабль дал течь и теперь надо отремонтировать его прямо в открытом море, поэтому они не могут начать с чистого листа. Уберешь какую-нибудь балку – и надо тут же заменить ее новой, а остальной корабль послужит словно бы подпоркой. Именно поэтому благодаря старым балкам и проплывающим мимо обломкам древесины полностью перестроить корабль заново можно, но лишь при пошаговой реконструкции”[109].
Метафора эта не нова. Ее применяли еще древние греки, когда задавались вопросом: если заменить все детали судна по одной, что получится в результате – тот же самый корабль, что и в начале, или другой? Нейрат избавил это уподобление от статуса простой загадки и превратил его в мощный образ упорной человеческой борьбы.
Точно такую же “пошаговую реконструкцию”, что и в притче о мореходах, имели в виду и австрийские социал-демократы, когда собирались выстроить государство из обломков пущенной под нож дунайской монархии. Однако их коалиционное правительство не слишком продвинулось по этому пути. Страстное стремление к социализации постепенно остыло. Отто Бауэр ушел с поста главы соответствующего комитета и к тому же перестал быть министром иностранных дел, а значит, уже не мог вмешиваться в дела Баварии в интересах Отто Нейрата. Его попытки достичь этой цели к успехам не привели.
В конце концов задача репатриировать Нейрата в Австрию была возложена на канцлера Карла Реннера (1870–1950). Австрийское правительство гарантировало, что арестованный в дальнейшем воздержится от какой бы то ни было агитации против баварских властей, и сам Нейрат принес торжественную клятву больше никогда не ступать на германскую землю. Баварское правительство желало раз и навсегда удостовериться, что избавилось от несносного венца. Немецкий историк Карл фон Мюллер выразил общее мнение, назвав Нейрата “демагогом, которого зазвали к нам из Австрии”[110].
Отметим, что тот же историк вскоре стал верным последователем другого австрийского демагога – совсем иной породы. В 1919 году бывший капрал Адольф Гитлер еще служил в неприметной должности в рейхсвере в Мюнхене. Как раз в те годы он обнаружил у себя незаурядные способности к политической риторике – или, вернее, талант воспламенять толпу. Пять лет спустя, после неудачного “Пивного путча” против баварского правительства, мюнхенский суд приговорит его к Festungshaft (заключению строгого режима в крепости) – совсем как Отто Нейрата.
И будущий фюрер, опять же как и Нейрат, не потратил даром времени в заключении и написал книгу (Mein Kampf). Впрочем, в отличие от Нейрата Гитлера не репатриировали в Австрию – австрийское правительство не рассматривало такую возможность.
Вероятно, Отто Нейрату было не так уж и трудно воздержаться от дальнейшей политической деятельности в Германии. Ведь ему было чем заняться в Австрии. И он с готовностью ринулся в самую гущу событий.
Писатель Роберт Музиль, встретившийся с Отто Нейратом вскоре после его возвращения домой в Вену, отметил в дневнике: “У него блокнот с огромным множеством записей. Все уже улаженные дела аккуратно вычеркнуты. Судя по всему, постоянно витает где-то в мыслях, а потом вдруг произносит какую-нибудь любезность – «пожалуйста, передайте наилучшие пожелания супруге», – несмотря на то что мы расстались с ней всего четверть часа назад. Постоянно куда-то спешит, постоянно завязывает новые знакомства – то там, то сям”. А завершается портрет Нейрата в дневнике Музиля такими словами: “Он подобен профессиональному боевому коню. Но со взрывной энергией”[111].
Как и всегда, любимой мишенью бурных нападок Нейрата была метафизика. Он считал ее реакционной дымовой завесой, под какой бы личиной она ни выступала – философского идеализма или божественного откровения. Нейрат никогда не уставал бороться с этим коварным орудием буржуазии, а с начала 1921 года его собратом по оружию в этой обострившейся борьбе стал его зять Ганс Ган.
Философ la carte
Было ясно, что темы для философских исследований у двух друзей не кончатся никогда. Еще с предвоенных дней Urkreis произошло много такого, что подлило воды на их мельницу. В частности, Гильберт, Рассел и Эйнштейн не сидели без дела. Одного этого хватало, чтобы возродить прежние встречи в кофейне и вернуться к философии науки.
Однако для этого недоставало одного участника – университетского профессора философии, которого Ганс Ган давно мечтал пригласить. Вероятно, он имел виды на своего венского коллегу Адольфа Штёра (1855–1921), официального преемника Эрнста Маха. Штёр начинал как физик, подобно Больцману и Маху, однако тяготел к анализу языка. “Если бы не было слов, – писал он, – не было бы абсурда, в крайнем случае ошибки… Мысль не может быть абсурдной – только высказывание”[112]. Сегодня это смотрится как винтажный Витгенштейн. Поэтому Штёр, несомненно, стал бы уместным дополнением к кружку, однако он неизлечимо заболел и больше не мог преподавать. Увы, он не вошел в их ряды.
Недавно открылись две вакансии на профессорские должности в Философской школе. Уже была учреждена конкурсная комиссия, а теперь у нее появилась новая задача – найти преемника Адольфу Штёру. Новоприбывший Ган умудрился проникнуть в комиссию, хотя и позже всех. Фортуна благоволила ему. Но вопрос, кого же избирать, оставался открытым. Однако в этом у Гана было завидное преимущество: он мог получить бесценный совет от самого Эйнштейна.