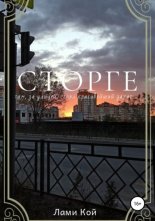Точное мышление в безумные времена. Венский кружок и крестовый поход за основаниями науки Зигмунд Карл
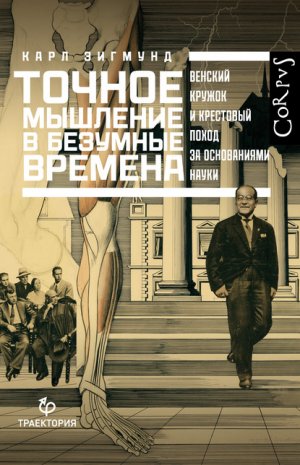

Гёдель покупает себе развлекательное чтение: первый том Principia Mathematica
Когда Ган писал одобрительный отзыв о диссертации, то написал, что работа Гёделя “удовлетворяет всем требованиям к докторской диссертации”. Однако это было сильнейшее преуменьшение. Решить задачу, которую поставил Давид Гильберт, – колоссальное достижение для любого математика, и совершить такой подвиг не менее почетно, чем быть посвященным в рыцари.
В феврале 1929 года, за несколько месяцев до того как Гёдель получил докторскую степень, умер его отец. Овдовевшая мать решила переехать в Вену, поближе к сыновьям. Старший, Рудольф, только что закончил учение и стал профессиональным рентгенологом. Все трое поселились в просторной квартире на Йозефштедтер-штрасе, неподалеку от знаменитого театра Макса Рейнхардта.

Доктор Курт Гёдель
Новоиспеченный доктор математики Курт Гёдель, к несчастью, не сумел получить должность в университете, но, к счастью, она ему и не требовалась. Он мог заниматься чем душа пожелает в качестве состоятельного независимого ученого. Так у него и появилась привычка засиживаться за письменным столом допоздна, спать до полудня, а потом не спеша прогуливаться до математического факультета на Штрудльхофгассе. Там его почти всегда можно было застать в библиотеке, где он проверял контрольные для Менгера и Гана или помогал студентам готовить доклады для семинаров.
Неполнота
Лекции Брауэра обеспечили Гёделя обильной пищей для размышлений. Закон исключенного третьего предполагает, что любая открытая задача всегда имеет конкретный ответ – или так, или иначе. По Брауэру, это все равно что заявлять безо всяких сомнений, что любая математическая задача имеет решение. Гильберт, конечно, именно так и считал. Но разве не могло быть такого, что формальные системы, которые так любил Гильберт, окажутся слишком слабыми, чтобы охватить математику в целом? Карнап, который виделся со своим тихим молодым коллегой Гёделем каждые несколько дней – обычно в кофейне, как правило, за беседой о логике – писал в дневнике:
23.12.1929. Гёдель. О неисчерпаемости математики. Его вдохновили венские лекции Брауэра. Математику невозможно формализовать полностью. Похоже, он прав.
Пока что лишь “похоже”, однако через полгода Гёдель пришел к новым чудесным открытиям, что позволило ему сформулировать доказательство, развеявшее все сомнения. Этот момент Карнап тоже зафиксировал в дневнике:
Вт., 26 августа 1930. 6–8.30. Кафе “Рейхсрат”. Открытие Гёделя: неполнота системы Principia Mathematica. Сложности с доказательством непротиворечивости.
В конце лета 1930 года несколько членов Венского кружка собрались в кафе “Рейхсрат” сразу за Парламентом, чтобы обсудить совместную поездку в Кенигсберг, на Балтийское побережье. В сентябре там должен был пройти ежегодный съезд Союза математиков Германии – ритуальный “рынок рабов”. После триумфа на Пражской конференции годом раньше было решено снова организовать свою секцию. У Венского кружка и теперь нашелся свой человек из местных, чтобы все организовать. В Праге это был Филипп Франк. А теперь агентом кружка в Кенигсберге охотно вызвался послужить Курт Рейдемейстер.
На этот раз главной темой секции должны были стать первоосновы математики. Там должны были сойтись в схватке три главные школы-соперницы: логицисты, чьей целью было свести математику к логике, формалисты, ищущие железное доказательство, что в математике нет противоречий, и интуиционисты, которые переопределили математику, провозгласив, что все можно сконструировать эксплицитно, и запретив применять закон исключенного третьего. У каждой из этих фракций был прославленный вождь – Рассел, Гильберт и Брауэр соответственно. Однако судьба распорядилась так, что на заседании секции никто из них не присутствовал. Даже Гильберт, который в это время приехал в Кенигсберг, не смог прийти, поскольку был очень занят на основном конгрессе математиков Германии.
Поэтому каждый из трех конкурирующих подходов представляло доверенное лицо: от имени логицистов выступал Рудольф Карнап, интуиционистов – Аренд Гейтинг, а точку зрения формалистов отстаивал любимый ученик Гильберта Джон фон Нейман. Кроме того, предусматривался доклад о воззрениях Витгенштейна: его решил сделать Фридрих Вайсман.
Однако у Вайсмана все с самого начала не заладилось. По дороге в Кенигсберг он заболел. Последнюю часть пути нужно было проделать на пароходе, и разыгралась страшная буря. Хуже того, Витгенштейн потребовал от Вайсмана начать выступление с заявления, что он, Витгенштейн, снимает с себя всякую ответственность за то, какие взгляды припишет ему докладчик. Не самый соблазнительный способ начать нести благую весть.
Как ни удивительно, никто из членов Венского кружка ни словом не упомянул в своих выступлениях новый фундаментальный результат Курта Гёделя. Даже сам Гёдель не стал рассказывать о своей теореме о неполноте, а предпочел сделать упор на той теореме о полноте, которую доказал годом раньше и доказательство которой стало темой его диссертации. Только на заключительной дискуссии он почти что мимоходом упомянул одно следствие из своей теоремы о неполноте. Это было перед самым обедом, в конце заседания.
Венгерский математик фон Нейман мгновенно потерял аппетит. Зато обрел пищу для ума, поскольку сразу же понял, какое колоссальное значение имеет небрежная ремарка Гёделя. И забросал Гёделя вопросами о его доказательстве.
Доктор фон Нейман (Янош, Иоганн или Джонни – он отзывался на любой вариант имени), живчик, бонвиван и прирожденный предприниматель, уже в то время считался звездой первой величины на математическом небосклоне. Ему едва исполнилось двадцать шесть, а он уже сделал важный вклад в развитие теории множеств, математического анализа и основ квантовой физики.
Джонни понял все с первой попытки. По быстроте мышления ему не было равных на планете. И его только что осенило, что открытие Гёделя одной ослепительной вспышкой взорвало его прежний взгляд на мир. Фон Нейман понял, что существуют истинные математические утверждения, которые нельзя вывести формальными способами из набора аксиом.
Через несколько недель фон Нейман написал Гёделю, что из доказательства неполноты следует полный крах программы Гильберта. То есть если математика непротиворечива, то утверждение “математика непротиворечива” как раз и есть одно из этих жутковатых гёделевских утверждений – истинное, но недоказуемое! На поверхностный взгляд это глубокий парадокс, но на самом деле рассуждения совершенно точны.
Однако Гёдель уже пришел к тому же заключению и обратной почтой отправил Джону фон Нейману корректуру своей статьи. Эпохальная работа “О принципиально неразрешимых положениях в системе Principia Mathematica и родственных ей системах, I” (ber formal unentscheidbare Stze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I) была опубликована несколько недель спустя в Monatshefte, математическом журнале, редактором которого был Ганс Ган. Римская цифра I в конце названия появилась потому, что первоначально Гёдель собирался написать вторую часть с более подробным разбором доказательств, но благодаря теплому приему первой со стороны Неймана и других математиков вскоре стало понятно, что можно обойтись и без второй. Часть I оказалась достаточно прозрачной, чтобы убедить верхушку математического мира. А к сведению и на благо философов Гёдель написал краткий синопсис, который напечатали в Erkenntnis, домашнем журнале Венского кружка.
Джон фон Нейман был потрясен до глубины души. Нашелся человек, который соображает быстрее него! Свои доказательства гений из Венгрии частенько придумывал во сне. Иногда, проснувшись, он обнаруживал в приснившемся доказательстве ошибку. Но он обожал повторять, что рано или поздно – не позднее третьего сна – к нему приходит верное решение. Ему уже дважды снилось, что он доказал непротиворечивость математики. Какая удача, смеялся он, что этот сон не повторился в третий раз! Более того, если бы фон Нейман обнаружил формальное доказательство непротиворечивости, это означало бы – благодаря результату Гёделя, так похожему на парадокс, – что математика и в самом деле противоречива.
Нумерация Гёделя
Доказательство Гёделя занимает десятки страниц, однако идея, лежащая в его основе, поразительно проста. В любой формальной системе математические утверждения представляют собой просто последовательности символов. Гёдель нашел систематический способ превращать любую такую последовательность в уникальное целое число (так уж вышло, что в очень большое число, но эта подробность ни на что не влияет). Данная последовательность символов уникальным образом определяет это целое число (то есть последовательность может быть механически “зашифрована” в виде этого числа) и наоборот: если дано большое целое число, то его можно представить в виде последовательности символов, и тогда эта последовательность определяется уникальным образом (то есть большое целое число, если угодно, можно механически “расшифровать”). Впоследствии эти большие числа получили название “номера Гёделя” соответствующих последовательностей, а рецепт шифровки-расшифровки – “нумерация Гёделя”.
Следующая идея опирается на то, что доказательства в Principia Mathematica, как и в любой другой формальной системе, строятся регулярно, таким образом, что это можно отразить в мире чисел. Так, для любой теоремы существует “число-теорема”, с которым можно работать в терминах сложения, умножения и других математических понятий. Поэтому доказуемость последовательности в формальной системе соответствовала чисто математическому свойству очень большого числа, и об этом свойстве можно было говорить, применяя систему обозначений из Principia Mathematica. Иначе говоря, точно так же, как можно утверждать, что число N – квадрат, куб или простое число, и доказывать о подобных утверждениях всевозможные теоремы (например, “существует бесконечно много простых чисел”), можно утверждать, что число N – число-теорема, и существуют всевозможные теоремы об этом более сложном понятии “численности-теоремности” (например, “существует бесконечно много чисел-теорем”). Таким образом, система Principia Mathematica обретает способность говорить (в зашифрованном виде) о доказуемости или недоказуемости последовательностей в самой системе Principia Mathematica. Вот типичный пример, когда змея кусает свой хвост!
Решающий шаг Гёделя, его coup de grce[310], состоял в конструировании особого математического утверждения G, согласно которому последовательность, обладающая номером Гёделя g, недоказуема, то есть ее нельзя формально вывести из системы аксиом Principia Mathematica. Что поразительно, Гёдель умудрился повернуть все так, что целое число g и есть номер Гёделя утверждения G (“несколько случайно”, как он лукаво заметил). Тогда утверждение G гласит, что оно – не теорема, то есть не может быть доказано в пределах Principia Mathematica. Можно выразить G словами: “Меня нельзя доказать в пределах Principia Mathematica”. А тогда ложно G или истинно? Доказуемо или недоказуемо? Выходит, если G доказано, это приводит к противоречию, и, наоборот, если доказано его отрицание не-G, это приводит к другому противоречию. Казалось бы, полная катастрофа, неизбежно ведущая к самопротиворечивой системе – но постойте! А вдруг недоказуемы и G, и не-G? В таком случаеудается уберечь от противоречивости всю систему (Principia Mathematica), но лишь ценой полной невозможности решить, во что она “верит” – в G или в не-G.
Короче говоря, если система Principia Mathematica непротиворечива, то есть она никогда не докажет два утверждения, противоречащих друг другу, то с помощью ее аксиом и правил невозможно доказать ни G, ни не-G. А поскольку G утверждает, что его невозможно формально доказать, то, что оно утверждает, истинно. Однако доказательство истинности G по Гёделю опирается на смысл G. Это не доказательство с точки зрения формальной доказуемости, эта идея ограничена доказательствами, которые определяются по формальным правилам Principia Mathematica. Это Гёдель сумел показать, что это странное утверждение G истинно, поскольку мыслил вне правил системы.
Писатель Ганс Магнус Энценсбергер, родившийся в 1929 году, в одном из своих стихотворений сравнил доказательство Гёделя с курьезной историей об известном вруне бароне Мюнхгаузене, который утверждал, будто вытащил сам себя из болота за косичку. “Только Мюнхгаузен был лжец, а Гёдель оказался прав”[311].
Фраза “Меня нельзя доказать” вообще не похожа на нормальное математическое высказывание. Ведь математики обычно имеют дело с числами, фигурами, функциями, а не с абстрактными философскими на вид идеями вроде “доказуемости”. Но благодаря рецепту шифровки-расшифровки Гёделя на формальную доказуемость утверждения стали смотреть как на качество, в точности соответствующее арифметическому свойству номера Гёделя, присвоенного этому утверждению.
Вскоре было показано, что вдобавок к гёделевскому утверждению G, которое при помощи нумерации Гёделя истинно утверждает: “Меня нельзя доказать”, существует бесконечно много других истинных утверждений, которые нельзя доказать, зато они выглядят гораздо привычнее для математиков – например, существуют недоказуемые истинные утверждения, по форме схожие с гипотезой Гольдбаха, которую Гёдель упоминал на съезде в Кенигсберге. Это весьма поучительный пример.
Еще в 1742 году математик-любитель Кристиан Гольдбах предположил, что любое четное число больше 2 представляет собой сумму двух простых чисел. Отчасти это можно проверить. Так, 6 = 3 + 3, 12 = 5 + 7 и т. д. Самые быстрые компьютеры на Земле позволили проверить гипотезу Гольдбаха для всех четных чисел до 300 000 000 000 000 000 (17 нулей). Это виртуозное достижение, естественно, не доказывает гипотезу Гольдбаха и даже не приближает нас к доказательству: ведь по-прежнему остается бесконечно много четных чисел, до проверки которых еще не дошла очередь!
Компьютерная программа способна исследовать каждое четное число и проверять, представляют ли они собой сумму двух простых чисел. Если гипотеза Гольдбаха ошибочна, компьютер когда-нибудь это покажет, надо просто подождать, пока он доберется до четного числа, которое не будет представлять собой сумму двух простых чисел. Но если гипотеза верна, компьютер будет трудиться бесконечно, а нам придется до второго пришествия сидеть и ждать, не зная, найдется ли когда-нибудь исключение. Очевидно, гипотезу Гольдбаха так не докажешь. Компьютерная программа может подтвердить ложность гипотезы (если она и в самом деле ложна), поскольку это займет лишь конечное время, но не может подтвердить ее истинность (если она в действительности истинна), поскольку на это требуется бесконечное время.
Подобным же образом компьютер способен проинспектировать любую формальную математическую последовательность формул, ведь такая последовательность – всего лишь цепочка символов, и проверить, есть ли у нее формальное доказательство. Такая проверка – акт сугубо механический, и он не требует понимания, что означают те или иные символы. Компьютер может проинспектировать все возможные подобные тексты по одному, стоящие в бесконечном списке по возрастанию длины. Этот список никогда не исчерпать. Но если можно доказать либо утверждение А, либо его отрицание не-А, тогда компьютер обязательно найдет соответствующее доказательство: оно ведь есть где-то в этом списке.
Поначалу представляется, будто из всего этого следует, что все математические утверждения можно механически рассортировать. Запустите компьютер и поглядите, что он найдет первым – доказательство А или доказательство не-А. Пара пустяков!
Но тут есть загвоздка, которая в том и состоит, что благодаря теореме Гёделя о неполноте существуют истинные утверждения, для которых нет формального доказательства. Если А принадлежит к таким формулам, то компьютер будет продолжать процесс проверки бесконечно и так никогда и не определит, ложно или истинно А, ведь ни у А, ни у его отрицания нет доказательства!
Таким образом, теорема Гёделя о неполноте предвосхищает важнейшие идеи об абсолютных пределах возможностей компьютерных программ. Первым до них докопался английский математик Алан Тьюринг (1912–1954) в 1936 году. С годами Гёделю, Тьюрингу и другим гениальным логикам удалось установить, что процесс математического мышления невозможно полностью свести к чисто формальным аксиоматическим рассуждениям. В этом смысле математика – неисчерпаемый источник.
Через несколько десятков лет после прорывных статей Гёделя и Тьюринга в мире завоевала невероятную популярность логическая игра судоку – ей увлекались миллионы. Это показывает, что логика может быть очень интересной. Более того, головоломки судоку можно считать аналогичными формальным математическим теориям la Гильберт, и сейчас мы в этом убедимся.
Цель игры в судоку – расставить цифры от 1 до 9 в 81 ячейке в квадрате 9 9 так, чтобы каждая цифра встречалась в каждом ряду, в каждом столбце и в каждом мини-квадрате 3 3 только один раз.
В нескольких ячейках цифры уже расставлены, что называется, бонусом. Так вот, в нашей аналогии с формальными системами заранее заданные цифры – это “аксиомы”. Мы ждем, что нормальная головоломка судоку, во-первых, имеет решение, во-вторых, это решение единственное. То есть предполагается, что для каждой из 81 ячейки найдется одна и только одна цифра, удовлетворяющая условиям. Если найдется какая-то ячейка, которую в принципе нельзя заполнить, значит, “аксиомы” ведут к противоречию. А если есть ячейка, которую можно заполнить двумя и более разными способами, значит, “аксиомы” неполны: задача о том, какие цифры подходят в какие ячейки, не имеет решения. Нужны дополнительные “аксиомы”, чтобы задать единственно верное расположение цифр. То есть идеальная головоломка судоку должна быть одновременно и полной, и непротиворечивой.
Однако ждать того же от формальной системы математики – значит неизбежно разочароваться. Именно это Гёдель и показал в 1931 году. Впоследствии Людвиг Витгенштейн подвел под этим черту следующим образом: “Теорема Гёделя вынуждает нас рассматривать математику под новым углом”[312]. (Впрочем, большинство исследователей сходятся на том, что ни Витгенштейн, ни Рассел на самом деле не понимали идей Гёделя.) Теперь, когда мы прекрасно знаем, как все обстоит на самом деле, сама мысль, что все истинные утверждения математики (но не ложные) можно выявить по одному благодаря трудолюбивой компьютерной программе, выглядит так же диковинно, как надежды алхимиков обрести философский камень. Нельзя заменить живых математиков холодными строгими автоматами. Вероятно, так можно сказать и о других профессиях, но этого никто не доказал. (И в качестве реплики в сторону: в 2013 году математик Харальд Хельфготт доказал, что любое нечетное число представляет собой сумму трех простых чисел. Тем не менее мы ни на волосок не приблизились к доказательству гипотезы Гольдбаха.)

Примеры судок: (а) неполное, (b) противоречивое, (c) “нормальное”
Гёделя иногда понимают неправильно. Разумеется, это практически неизбежно, и эту участь Гёдель разделяет с Дарвином и Эйнштейном и другими великими первопроходцами в науке. Кто-то утверждает, что Гёдель доказал, что математика противоречива. Это вовсе не так. Он доказал, что ее непротиворечивость невозможно формально доказать. Примерно так же вам, вероятно, не удастся обеспечить стопроцентно убедительное юридическое доказательство, что вы никогда в жизни не совершали убийства, – ни разу. Несмотря на это, мы, как правило, изначально не считаем никого убийцей. Так же и с математикой. Никто всерьез не верит, что математика внутренне противоречива. Перефразируя слова одного французского математика, изящно сформулировавшего девиз своей профессии, “Бог создал математику непротиворечивой, а дьявол сделал так, чтобы это нельзя было доказать”.
Параллельная акция
Карл Менгер пропустил драматические события Кенигсбергского конгресса, поскольку в это время путешествовал по Соединенным Штатам в качестве приглашенного профессора. Но едва он узнал об открытии Гёделя, как ему стало ясно, какое колоссальное значение оно имеет, и он рассказывал о нем при каждом удобном случае. Хотя Менгер был старше Гёделя всего на четыре года, он стал для него своего рода наставником и относился к нему не просто по-дружески, а даже по-отцовски. Когда он вернулся в Вену, они с Гёделем постепенно отошли от Венского кружка. На их вкус там слишком сильно отдавало Витгенштейном и Нейратом – вокруг первого было слишком много преклонения, а вокруг второго слишком много политики.
Карл Менгер не хотел, чтобы его считали одним из левых участников кружка. Он с энтузиазмом относился к абстрактному искусству в изобразительной статистике, которая потоком текла из музея Отто Нейрата, но разгорячиться настолько, чтобы вместе с Нейратом мечтать о “полной социализации”, то есть национализации, ему никогда не удавалось. Подобные дерзкие фантазии слишком далеко отстояли от либеральных воззрений Менгера-старшего и идей Австрийской школы национальной экономики. Ее более практичный подход основывался на потребностях и решениях отдельных людей, а не на невозможных идеальных коллективах, классах и массах.
Что касается Витгенштейна, тут Менгер определенно не был готов разделить чуть ли не религиозное преклонение Шлика перед этим своенравным гением. Первые три четверти “Трактата” Менгер считал непроходимым самолюбованием. И вообще, как можно столько разглагольствовать о том, чего не выразишь словами?
Как-то под конец вечерней встречи Венского кружка, на которой Шлик, Ган, Вайсман и Нейрат пространно рассуждали о языке, Менгер по дороге домой мрачно заметил Гёделю: “Мы сегодня опять перевитгенштейнили этих витгенштейнианцев: сидели и молчали”. На что Гёдель отвечал: “Чем больше я думаю о языке, тем сильнее меня поражает, что люди умудряются понимать друг друга”[313].
Тем не менее эти молодые скептики иногда появлялись по четвергам на собраниях кружка, правда, все реже и реже. Их интересы постепенно смещались в сторону Венского математического коллоквиума, который основал Менгер. Он был устроен по образцу Венского кружка – как сказал бы Музиль, “параллельная акция”. И в самом деле, коллоквиум, как и кружок, поначалу организовали студенты, привлеченные идеями молодого профессора, который вдохновлял их на размышления, в данном случае – Карла Менгера, а не Шлика.
Венский математический коллоквиум тоже стал выпускать свой журнал – Ergebnisse eines Mathematischen Kolloquiums (“Результаты работы математического коллоквиума”). Он выходил раз в год и состоял в основном из записей докладов. Чаще всего его статьи были посвящены теории размерности, математической логике и математической экономике.
Среди постоянных участников коллоквиума были Абрахам Вальд, Франц Альт, Георг Нёбелинг и Ольга Таусски. Немец Нёбелинг (1907–2008) был любимым учеником Менгера, и неудивительно, поскольку он значительно обобщил ранние результаты Менгера по теории размерности. Румынский математик Абрахам Вальд (1902–1950) происходил из семейства ультраортодоксальных раввинов и получил домашнее образование. К занятиям математикой он приступил, когда был гораздо старше обычных старшекурсников. Зато продвигался он много быстрее. Докторскую степень он получил, проучившись всего три семестра. Карл Менгер, его профессор, был с ним примерно одних лет. Вот как он описывал своего студента: “Маленький, худенький, явно бедный, ни старый, ни молодой на вид – странный контраст с бойкими новичками”[314].
Франц Альт (1910–2011), сын венского юриста, изучал математику под руководством Карла Менгера. И Альт, и Вальд, получив докторскую степень, остались без работы и, чтобы свести концы с концами, вынуждены были давать частные уроки. Карл Менгер всеми силами старался им помочь. Экономический кризис лег на городскую жизнь тяжким бременем.

Карл Менгер и Курт Гёдель в гостях у Ольги Таусски
Ольга Таусски (1906–1995) была в этой компании единственной женщиной. Получив докторскую степень, она нашла работу в Геттингене – помогала готовить публикацию полного собрания сочинений Гильберта. Там она познакомилась с Эмми Нётер (1882–1935), самой известной женщиной-математиком той эпохи. Более того, Нётер стала первой женщиной в Германии, получившей право читать лекции в университете. Однако подобной чести она дождалась лишь с приходом Веймарской республики. До этого ее заявления на хабилитацию годами отвергались как неподобающие, и это несмотря на энергичную поддержку доктора Давида Гильберта, который, как известно, заметил: “Университет – не общественная баня”.
А теперь Ольга Таусски имела возможность посещать лекции Эмми Нётер, которая разработала принципиально новый подход к современной алгебре. Однако еще при Веймарской республике Ольге Таусски во время краткого визита в Вену посоветовали не возвращаться в Геттинген. Набирали вес “политические причины”. А Ольга была не только не того пола, но и не той национальности.
Застрявшая в Вене Ольга Таусски не могла найти работу. Но Ган и Менгер не бросили ее в беде. Они организовали цикл популярных научных лекций. Входная плата была весьма высокой, примерно как билет в оперу. Из вырученных средств два математика смогли выплачивать своему другу и коллеге Ольге Таусски стипендию.
Цикл назывался “Кризисы и новые основания точных наук” и имел на удивление шумный успех. Ганс Ган прочитал лекцию о зачастую коварной роли интуиции в математике, Карл Менгер – о понятии размерности, Вернер Гейзенберг рассказал о квантовой механике, а физик Ганс Тирринг рассуждал о возможности полета человека в космос. Произойдет ли это когда-нибудь? Несомненно, говорил Тирринг, но не в нашем веке. Однако прошло много лет, и Тирринг еще успел застать первые шаги человека по Луне.
Это вам не шутки
В этом ярком созвездии безработных молодых математиков Курт Гёдель единодушно считался звездой первой величины. Становилось все понятнее, как многогранны и глубоки следствия из его теоремы о неполноте. Немец Эрнст Цермело, который когда-то причинял головную боль Людвигу Больцману, некоторое время считал, что нашел ошибку в доказательстве Гёделя, но самому Гёделю ничего не стоило объяснить ему, что он заблуждается.
“Мой милый Гёдерль, – писал друг Гёделя Марцель Наткин, используя уменьшительно-ласкательное прозвище, – я страшно горд, хотя я тут ни при чем… Итак, ты показал, что все формальные системы в стиле Гильберта содержат задачи, не имеющие решения. Это вам не шутки!”[315] Наткин в это время жил в Париже и набирал известность как фотограф.
Вскоре Гёдель подчеркнул, что его теорема о неполноте применима не только к каким-то конкретным аксиоматическим системам рассуждений вроде Principia Mathematica, а к любой непротиворечивой системе аксиом, в которой определены понятия “натуральное число”, “сложение” и “умножение”. Иначе говоря, не существует конечного набора аксиом, из которого можно вывести всю теорию чисел в целом.
В 1932 году Карл Менгер прочитал популярную лекцию о “Новой логике” в Венском университете, на которую собралась целая толпа. Таким образом, Менгер стал первым, кто познакомил широкую публику с идеями Курта Гёделя. Эта лекция Менгера стала одной из вершин цикла “Кризисы и новые основания точных наук”. Даже для самого Курта Гёделя это оказалось событием настолько значимым, что он всю жизнь хранил билет на него (входной, без места!).
Весной 1932 года Курт Гёдель совершил следующий подвиг. Поскольку интуиционизм ограничивает применение закона исключенного третьего, множество теорем, которые опираются на него, должно быть подмножеством набора всех теорем классической математики. Именно это ограничение и вызвало у Гильберта такой яростный протест. Тем не менее Гёдель сумел доказать в некотором смысле прямо противоположное. Интуиционизм только кажется более узким. Если соответствующим образом интерпретировать формальные символы, оказывается, что теоремы классической теории чисел превращаются в подмножество теорем интуиционистской теории чисел. А тогда какова природа математической истинности и доказуемости? С такими результатами ответ становится еще неуловимей.
Глубокий идеологический конфликт вокруг пределов дозволенного в математике начал понемногу смягчаться, словно шина, напоровшаяся на гвоздь. Какой интерпретации придерживаться, всего лишь вопрос договоренности.
Потрясающий результат Гёделя полностью соответствовал представлениям Менгера. Менгер уже довольно давно придерживался мнения, что догматические предписания, диктующие, что допустимо, а что запрещено, в математике неуместны. Главное – с самого начала точно указывать, каких правил собираешься придерживаться.
Когда Гёдель доложил о своих новых результатах на Венском математическом коллоквиуме, среди немногочисленных слушателей был Освальд Веблен (1880–1960). Веблен, сын знаменитого Торстейна Веблена, который первым решил изучать феномен демонстративного потребления, был одним из самых выдающихся математиков в Соединенных Штатах. В то время он ездил по Европе с лекциями от имени только что образованного Института передовых исследований в Принстоне. Его задачей была вербовка научных умов. Менгер уговорил его послушать доклад Гёделя. Веблен был потрясен и тут же внес Гёделя в свой список тех, кого следует звать в Принстон в первую очередь.
В 1932 году Гёдель подал заявление на хабилитацию в университет. За несколько лет до этого венские математики решили, что между получением докторской степени и хабилитацией должно пройти не меньше четырех лет. К счастью для Гёделя, этот промежуток подходил к концу. Темой лекции, которую он должен был прочитать в качестве экзамена, он выбрал “Конструирование утверждений, формально не имеющих решения”.
Ганс Ган писал в отзыве о лекции: “Научный прорыв первого порядка, вызывающий сильнейший интерес в профессиональных кругах. Можно с уверенностью сказать, что он займет свое место в истории математики. Так, показано, что программу Гильберта по доказательству непротиворечивости математики невозможно осуществить”[316].
Весной 1933 года Курт Гёдель стал приват-доцентом, то есть внештатным лектором в университете, правда, в сущности, без жалованья. Экономика находилась в таком ужасном состоянии, что рассчитывать на штатную должность не приходилось. Правда, Гёделю она и не требовалась, в деньгах он не нуждался.
Более того, его пригласили провести следующий год в Институте передовых исследований в Принстоне. Веблен о нем не забыл.
Исследовательский институт в Принстоне финансировался из частных средств Луиса и Каролины Бамбергер – владельца крупной сети универсальных магазинов и его сестры-благотворительницы, – которые выбрали для своего щедрого дара весьма подходящий момент незадолго до великого биржевого краха 1929 года. Среди первых штатных сотрудников Института были Альберт Эйнштейн и Джон фон Нейман. Оба они были вынуждены бежать из Берлина, когда в 1933 году к власти пришли нацисты.
Глава девятая. Кружок сужается
Вена, 1930–1933. Припозднившийся Поппер оказывается философом, стоит за фальсификацию, меряется силами с кружком. Шлик держит его на расстоянии, но принимает в подарок книгу Поппера, а от книги Отто Нейрата отказывается. Нейрат грозит судом. Книга Вайсмана о Витгенштейне постоянно откладывается. Карнап уезжает в Прагу, не видит в логике морали. Витгенштейн неистовствует, поскольку считает, что Карнап крадет его идеи.
Частная революция Поппера
Карл Поппер в юности некоторое время служил подмастерьем у пожилого венского краснодеревщика, обладавшего обширной эрудицией того сорта, какая помогает решать кроссворды. Старик без ложной скромности твердил с венским акцентом: “Не стесняйся, малыш, спрашивай, что хочешь, я все на свете знаю!”
Впоследствии Поппер писал, что узнал от этого милого квазивсеведущего мастера больше о теории познания, чем от всех остальных своих учителей. “Никто из них не сделал большего, чтобы превратить меня в ученика Сократа”[317].
А Сократ, как известно, говорил: “Я знаю, что ничего не знаю”. “А иногда и этого не знаю”, – любил добавлять Поппер. Надежных знаний не бывает. Однако сам Поппер был на удивление самоуверен и упрям для человека, придерживающегося столь смиренных взглядов.
Карл Поппер родился в 1902 году и не собирался становиться краснодеревщиком. Ведь его отец числился среди самых уважаемых венских юристов, а семья жила в центре города, всего в квартале от собора Св. Штефана, в респектабельном старинном доме, перестроенном в эпоху барокко. В то время домом владел Самуил Оппенгеймер (1630–1703), банкир, финансировавший походы императора против турок – непрерывную череду побед. Расти в таком историческом месте что-то да значит.
Но когда Попперу исполнилось шестнадцать, великая Дунайская империя развалилась, и никаких побед никто уже не ждал. Молодой император Карл отказался участвовать в государственных делах и уехал из Хофбурга – старой резиденции правителей Габсбургской империи. Неподалеку, на Херренгассе, возникла временная Национальная ассамблея. Двенадцатого ноября 1918 года была провозглашена Республика; это был холодный дождливый день, и вдоль Рингштрасе дул резкий порывистый ветер.
Карл Поппер наблюдал демонстрации и беспорядки в эти серые дни, что называется, из первого ряда. Он слышал, как скандируют лозунги за углом и как свистят пули над головой. И решил бросить школу, отчасти – чтобы устроить собственную частную революцию, как он писал впоследствии, а отчасти – потому, что математику в школе изучали по-черепашьи медленно, и это было невыносимо. (Любимым предметом Карла была геометрия.) Карл записался в университет вольнослушателем.
Пройдет более семидесяти лет, и Карл Поппер напишет: “В середине зимы 1918/19 года, скорее всего в январе-феврале, я впервые ступил, робко, чуть ли не трепеща, на священную землю математического факультета Венского университета на Больцмангассе. У меня были все причины бояться”[318].
Поскольку юный Поппер не окончил школу, его записали только условно. Остальные студенты прошли Matura (экзамен на аттестат зрелости), были зачислены как полагается и уже далеко его опередили. Теперь учебная программа шла для Поппера, наоборот, слишком быстро, и он в досаде бросил университет.
Карл примкнул к молодежной коммунистической группировке, но это оказалось ненадолго. После того как на глазах у Карла во время демонстрации полиция застрелила нескольких молодых рабочих, Поппер отказался от марксистских идей. Как объяснял он впоследствии, ему не хотелось так или иначе участвовать в обострении классовой борьбы.
В 1922 году Поппер пусть и с опозданием, но все же сдал экзамен Matura. Теперь у него в университете не было ни малейших трудностей. Он пробовал курсы по всему интеллектуальному ландшафту – по истории, литературе, психологии, медицине, физике и философии. Однако его любимым предметом оставалась математика: “Только на математическом факультете предлагались по-настоящему увлекательные лекции… Но больше всего я получил от Ганса Гана, – писал он. – Его лекции достигали такой степени совершенства, какой я больше никогда не встречал. Каждая его лекция была произведением искусства: драматичной по логической структуре; не имеющей ни одного лишнего слова; совершенно ясной и рассказанной прекрасным и цивилизованным языком… Все было очень живо, но, из-за самого этого совершенства, немного отстраненно… Математика была огромным и трудным предметом, и если бы я решил когда-нибудь стать профессиональным математиком, то вскоре эта решимость иссякла бы. Но у меня не было таких амбиций”[319].
А какие были, в таком случае? Поскольку еще точно не знал, то пробовал себя в разных занятиях. Как уже упоминалось, некоторое время он даже трудился подмастерьем краснодеревщика (как и Эрнст Мах, только в значительно более солидном возрасте), а потом обратился к социальной работе с детьми – жертвами насилия в клинике психотерапевта Альфреда Адлера, заблудшей овцы из стада Фрейда. Адлер изучал компенсацию – защитный механизм, состоящий в том, что решения, принимаемые человеком на жизненном пути, представляют собой бессознательную реакцию на реальную и воображаемую депривацию: например, мужчина маленького роста возмещает недостаток физической внушительности агрессивной борьбой за положение в обществе (вероятно, стоит упомянуть, что по части физической внушительности Поппер был скорее невелик).
Через некоторое время молодой подмастерье решил пойти в учителя. Он записался в недавно открытый Венский педагогический институт. Это оказалось большой удачей, поскольку там он познакомился со студенткой Жозефиной Анной Хеннингер по прозвищу Хенни. У них возникло глубокое взаимопонимание, и вскоре они поженились. Молодые поселились у родителей Хенни в Лайнце, пригороде Вены. Денег было в обрез. Отец Поппера, как и почти весь венский средний класс, из-за гиперинфляции после войны потерял все сбережения.
Параллельно с обучением в педагогическом институте Поппер прилежно ходил на лекции в университет – по физике, математике, психологии и философии. В 1928 году он защитил диссертацию на тему “К проблеме метода в психологии мышления” (Zur Methodenfrage der Denkpsychologie) и получил докторскую степень. Научным руководителем был Карл Бюлер, который начал работать в университете одновременно с Морицем Шликом и чья Венская психологическая школа славилась во всем мире.
Как признавался сам Поппер, его диссертация “была чем-то вроде скорописи, выполненной в последнюю минуту… я на нее больше даже ни разу не взглянул”[320].
Но те, кто все же взглянул, поражались остроте критической мысли молодого автора и его боевому духу. То была борьба без правил! Буквально с первой же строчки Поппер не оставил камня на камне от представлений Морица Шлика о науке и познании. Такая безудержная атака была, конечно, весьма рискованной тактикой, особенно если учесть, что Шлик был одним из рецензентов.

Поппер с учениками в походе
Впрочем, Мориц Шлик вызова не принял. Вероятно, ему было недосуг мериться силами с безвестным студентом. Он просто согласился с высокой оценкой Бюлера и поддержал его не слишком восторженные похвалы: “Очевидно, что работа Поппера носит вторичный, литературный характер. С другой стороны, она говорит о быстроте мысли высокообразованного автора и его превосходных способностях к сопоставлению и сравнению”[321].
Так что защита состоялась. Однако на последующем Rigorosum (жестком устном экзамене по истории философии, требовавшемся для присуждения степени) Поппер показал себя настолько плохо, что не сомневался в провале. Но Шлик и Бюлер снова проявили великодушие. Поппер писал: “Я едва поверил своим ушам, когда мне сказали, что по обоим экзаменам я получил самую высокую оценку, einsimmig mit Auszeichnung[322]. Конечно, я почувствовал облегчение и счастье, но прошло еще немало времени, прежде чем я избавился от чувства, что на самом деле я заслуживал двойки”[323].
Когда Попперу пришлось писать следующую диссертацию, на сей раз для получения преподавательского диплома, он вернулся к старой любви: “Аксиомы, определения и постулаты в геометрии”. На знакомой территории у него никаких трудностей не возникло. Все прошло как по маслу.
В 1929 году Поппер начал преподавать в начальной школе – точь-в-точь как когда-то Людвиг Витгенштейн. Новоиспеченный доктор Карл Поппер учил молодую поросль в возрасте от десяти до четырнадцати лет математике и физике. Его интересы постепенно смещались с изучения субъективных процессов мышления к логике науки. Похоже, все толкало его в сторону Венского кружка.
Поппер складывает два и два
Много лет назад мастер-краснодеревщик, знавший “все на свете”, пробудил в юном подмастерье дух бесстрашного исследователя. А теперь, внезапно став философом, Карл Поппер обратил свой критический ум на самую интересную сторону человеческого познания, как ему представлялось, на ту почву, где знание изучается и оспаривается, где оно растет и развивается – то есть на науку. Каковы определяющие черты науки? Это была излюбленная тема дискуссий в кружке, и неслучайно. Каждый, кто отстаивает научное миропонимание, должен уметь отличать науку от не-науки. Поппер писал: “Только после моего экзамена на докторскую степень я сложил два и два, и все мои ранние идеи встали на свое место… Научные теории, пока их не фальсифицируют, всегда остаются гипотезами или предположениями… Это соображение привело к теории, в которой научный прогресс оказался состоящим не в накоплении наблюдений, а в опровержении менее хороших теорий и их замене лучшими теориями, в частности теориями с более богатым содержанием”[324].
Поппер стал яростным противником представления, что естественные науки основаны на актах индукции. Ему претила мысль, что индукция, то есть переход от конкретных локальных наблюдений к обобщениям огромного масштаба, способна дать надежные знания. Можно до посинения повторять наблюдения и проводить эксперименты, но это никогда не позволит нам, невзирая на все труды, с полной уверенностью сформулировать общий закон.
Естественно, не только Поппер обратил внимание на то, что логический статус у индукции ниже, чем у дедукции. Мориц Шлик, в частности, утверждал: “Индукция – это просто методичные догадки, психологический, биологический процесс, изучение которого не имеет отношения к логике”[325].
Очевидно, индукция, по мнению этих мыслителей, не может служить определяющим признаком научной методологии. На что же тогда опереться как на определяющую сущность науки? Попытки отличить науку от псевдонауки стали для Поппера любимой темой, хотя он не был готов тратить драгоценное время на опровержение общепринятых псевдонаучных глупостей вроде алхимии или астрологии. Не снисходил он и до развенчания утверждений парапсихологии, заявлений, что Земля полая и люди живут на ее внутренней поверхности, и учения, что вселенная представляет собой арену космической борьбы льда и пламени, а также тезиса, что чистоту арийской расы следует вечно оберегать от распутных посягательств унтерменшей. Между тем в бурные двадцатые кое-какие подобные диковатые учения, разумеется, собирали последователей, причем иногда довольно многочисленных. Однако Поппер черпал примеры псевдонаучной мысли не в таких очевидных случаях умопомешательства. Напротив, он, как обычно, выбирал противников в сверхтяжелом весе. В то время темой самых жарких дискуссий в Венском кружке были марксизм и психоанализ. На них-то Поппер и пошел в наступление. Он твердо решил, что ни то, ни другое – не наука, и намеревался разнести их в пух и прах. Некоторое время подозрения у Поппера вызывала даже дарвиновская теория эволюции. Он утверждал, что всякий, кто наделен хотя бы крупицей умения вести дебаты, способен защитить эти учения от любой критики, сколь угодно острой. А подобная неуязвимость и непобедимость, подчеркивал он, и не позволяет считать их настоящими научными дисциплинами.
Теория, даже самая великая, всегда лишь гипотеза и не способна обрести более высокий статус, хотя статус теории может измениться, если ее удастся опровергнуть эмпирическими наблюдениями. Поэтому, с точки зрения Поппера, гораздо надежнее проводить демаркационную линию между наукой и псевдонаукой не на основании того, применяет ли та или иная гипотеза сомнительный процесс под названием “индукция”: важно, можно ли ее проверить, точнее, фальсифицировать.
Большинство членов Венского кружка, напротив, придерживались того представления, что эмпирическая проверяемость гипотезы или ее отсутствие говорит, принадлежит ли эта гипотеза к науке или лишь к метафизике. Иначе говоря, для большинства членов кружка важность проверяемости состояла в том, что она проводит грань между осмысленными и бессмысленными высказываниями.
Поппер с презрением отвергал подобные представления. Во-первых, ему было неинтересно вести бесконечные споры о том, какие высказывания осмысленны, а какие нет. Для кого они осмысленны? А во-вторых, по его представлениям, верификация теории означает не успешное прохождение какого-то испытания, а окончательное ее подтверждение, признание ее истиной в последней инстанции, что для Поппера было несбыточной мечтой.
На самом же деле никто из членов Венского кружка никогда и не понимал слово “верификация” таким образом. Однако Поппер закусил удила и слышать не хотел объяснений о возможном недоразумении. “Никогда не ввязывайся в серьезное обсуждение слов и их смыслов”[326]. Вооружившись таким личным девизом, Карл Поппер рассчитывал вырвать философию из когтей тех, кто увлекался критикой языка. Подобные тенденции Поппер презирал и видел в них аберрации, которые только отвлекают порядочных мыслителей от размышлений над настоящими задачами.
Поппер сближается с кружком
Первым наставником юного философа был Генрих Гомперц – тот самый, кто в молодые годы проложил Эрнсту Маху путь обратно в Вену. “Время от времени он [Гомперц] приглашал меня к себе домой и давал мне выговориться”, как писал Поппер. Однако “Мы не сходились на предмет психоанализа. В то время он верил в него и даже писал для журнала Imago”[327]. Так назывался журнал Зигмунда Фрейда.
Гомперц познакомил словоохотливого молодого Поппера с Виктором Крафтом, библиотекарем в Венском университете, который много лет был членом Венского кружка. Подружился Поппер и с Фридрихом Вайсманом, библиотекарем Шлика, а первый доклад по философии сделал дома у Эдгара Цильзеля. Поппер пишет, что его одолел сильнейший страх сцены, но это не помешало ему яростно напуститься на воззрения Венского кружка. И в последующей дискуссии он показал себя с наилучшей стороны. В результате его стали приглашать на свои заседания другие кружки, образовавшие своего рода ореол вокруг Венского.
Переломным моментом для Карла Поппера стало знакомство с Гербертом Фейглем. Как он писал впоследствии, “эта встреча… стала решающей для всей моей жизни”[328]. И в самом деле, после одного интеллектуального диспута, затянувшегося до утра, Фейгль, выжатый как лимон, предложил Попперу опубликовать свои идеи в виде книги. Прежде подобная мысль не приходила тому в голову.
Однако всем остальным, кроме Фейгля, мысль о книге совсем не понравилась, а особенно – Хенни, жене Поппера, которая предпочла бы, естественно, чтобы муж проводил все свободное время с ней, катаясь на лыжах и гуляя по горам. Венский лес и окрестные горные гряды Ракс и Шнееберг как нельзя лучше подходили для подобных прогулок. “Но как только я взялся за книгу, она [Хенни] научилась печатать и перепечатывала по многу раз все то, что я написал с тех пор”[329].

Карл и Хенни Поппер, на сей раз без пишущей машинки
Более того, Попперы даже в горные походы брали с собой пишущую машинку. Стоило им расположиться на отдых в гостевом садике какой-нибудь деревенской гостиницы, как Хенни расчехляла машинку и начинала печатать.
Будущая книга Поппера должна была называться “Две основные проблемы теории познания” (Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie). Сформулировать эти проблемы было несложно: индукция и демаркация. И два основных ответа, которые давал на них Поппер, были не менее четкими и понятными: никакой индукции не существует, а демаркационную линию между научными и ненаучными теориями позволяет провести фальсифицируемость.
Как писал Поппер, “С самого начала эта книга была задумана главным образом как критическое обсуждение и исправление доктрин Венского кружка”[330]. Поппер постепенно превращался в “официальную оппозицию” Венскому кружку, по выражению Нейрата. Однако Поппер подчеркнуто держался в стороне: “Меня никто никогда не приглашал, и я никогда не искал приглашения”[331].
По другому случаю он отмечал: “Я никогда не был членом Венского кружка, однако ошибкой было бы предполагать, что меня не принимали в кружок вследствие моего оппозиционного отношения к его идеям. Это неверно. Я был бы очень рад стать членом Венского кружка. Правда в том, что Шлик ни разу не пригласил меня поучаствовать в его семинаре. А членом Венского кружка можно было стать, только получив приглашение”[332].
Не позаботиться о материализации такого приглашения было на первый взгляд большой ошибкой со стороны Морица Шлика. Ведь великие таланты Поппера уже давно, можно сказать, резали глаза. Однако Шлик опасался, что агрессивность и упрямство Поппера нарушат атмосферу доброжелательности, без которой дух Венского кружка был немыслим. Шлик своими глазами видел Поппера в действии в декабре 1932 года, на встрече кружка Гомперца, и знал, на что тот способен, когда разгорячится.
Если у Поппера и вправду в тот вечер пробудился страх сцены, это ничуть не пригасило его боевого задора. Первым делом он желчно раскритиковал идеи Витгенштейна. Опроверг его точку зрения, что утверждение может быть осмысленным, только если описывает возможный факт. Утверждение Витгенштейна, что все остальное “не выражается словами”, Поппер заклеймил как подавление свободы слова, а это он уподоблял догматизму католической церкви.
Терпение Шлика быстро истощилось, и он в ярости ушел с заседания. Он был готов выслушать любую критику в свой адрес, но не собирался пассивно сидеть и слушать беспощадные нападки на Витгенштейна.
Постоянные резкости молодого выскочки раздражали не только Шлика. Курт Гёдель, ни в коей мере не поклонник Витгенштейна, писал Карлу Менгеру: “Недавно я познакомился с неким герром Поппером (философом), который написал бесконечной длины книгу, решающую, по его словам, все философские проблемы. Он отчаянно старался заинтересовать меня. Как ты думаешь, он человек стоящий?”[333]
Но Поппер был не из тех, кого тревожат чужие сомнения. Закончив работу над своей “бесконечной длины книгой” об основных проблемах философии, он уговорил Фейгля, Карнапа, Шлика, Франка, Гана, Нейрата и Гомперца прочитать по крайней мере отдельные части из нее. А ведь этот манускрипт, не будем забывать, представлял собой разгромную критику Венского кружка! Замечания были очень неприятные, особенно в тех случаях, когда Поппер оказался прав.
Даже Герберт Фейгль, который с самого начала уговаривал Поппера облечь свои идеи в форму книги, замечал впоследствии, что “от всего этого остается противный осадок. Поппер опередил нас едва на шаг, а сам считает возможным проповедовать нам с вершин. Его бесспорно виртуозное владение словом, неукротимая энергия и неутолимая жажда спорить (которая стоила мне многих бессонных ночей) способны, словно дубинкой, насмерть забить любого честного противника. Но особенно неприемлемой, как мне помнится, была его вечная самоуверенность, страсть извлекать как можно больше пользы из каждой своей «победы», тащить ее домой, всячески лелеять и напоминать о ней при каждом удобном случае”[334].
Карнап со своим хладнокровием, как всегда, был готов выслушать любые замечания. Он писал Шлику: “Гомперц говорит, что там, где Поппер соглашается с нами, то есть с кружком, его подача становится доступнее, а там, где он критикует наши взгляды, он ближе подходит к приемам, используемым в науках. Мне представляется, что Гомперц в чем-то прав. Лично я полагаю, что нам есть чему поучиться на комментариях Поппера”[335].
“Поппер ужасно спешит”[336], – стонал Мориц Шлик. Но он хотел жить сам и давать жить другим – и даже принял книгу Поппера для публикации в серии Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffassung. Так, после радикального редакторского сокращения, которого требовал издатель, в 1934 году этот том увидел свет под названием “Логика научного исследования”. Поппер больше нигде не мог бы опубликовать свою первую книгу. Очевидно, Мориц Шлик был способен в полной мере оценить идеи Поппера, просто не выносил автора как человека. Можно отметить, что полный текст “Двух основных проблем” вышел лишь сорок четыре года спустя.
“Необычайно умная книга, – писал Шлик о «Логике научного исследования». – Но я не могу читать ее с незамутненным удовольствием, хотя и считаю, что автор почти всегда скорее прав, если воспринимать то, что он пишет, с симпатией. Однако его подача, как мне представляется, уводит не в ту сторону. Дело в том, что подсознательное стремление оригинальничать любой ценой вынуждает его брать самые незначительные примеры воззрений нашей группы (иногда речь идет просто о терминологии), искажать их ad libitum[337], а затем живописать эти воззрения, выдуманные уже скорее не нами, а им, как фатальные ошибки с нашей стороны по важнейшим принципиальным вопросам (причем он искренне убежден, что это именно фатальные ошибки). Такой искаженный подход к делу не делает чести всей системе его взглядов. Однако со временем его самооценка несколько понизится, в этом нет сомнений”[338].
Оптимизм Шлика так никогда и не оправдался.
Шлик в шоке
Если Мориц Шлик не мог читать “с незамутненным удовольствием” книгу Поппера, вскоре его ожидало еще более тяжкое испытание: он был вынужден иметь дело с рукописью о научных основаниях истории и экономики, которую представил ему Отто Нейрат. Прочитав ее, Шлик понял, что у него нет выбора: придется возражать против ее публикации во вверенной ему серии. Он поделился со своим коллегой-редактором Филиппом Франком: “Я начал читать ее с большими надеждами, но какое потрясение ожидало меня! Ее стиль настолько вульгарен, настолько противоречит нашим целям, что никто, я уверен, не воспримет текст всерьез, кроме совсем слепых последователей”[339].
Отклонить рукопись близкого коллеги – не пустяк, особенно если этого коллегу вдобавок несправедливо лишили академической карьеры. К тому же Отто Нейрат был не из тех, кто легко мирится с отказом. Вердикт Шлика возмутил его до глубины души, он потребовал письменного заключения независимого эксперта и обратился за поддержкой к Филиппу Франку, доверенному другу и товарищу еще со студенческой скамьи.
Поэтому Шлику пришлось обосновать решение. “После самого досконального изучения и самых глубоких раздумий”, – писал он Франку, он все же не может взять на себя ответственность за публикацию книги Нейрата в своей серии, и “дело не в высказанных в ней мнениях, на самом деле я по большей части согласен с мыслями автора, а в стиле, который придает книге совершенно ненаучный и несерьезный характер… Так пишут исключительно в целях пропаганды и убеждения. Это особенно очевидно по тому, что примерно половина предложений – я не преувеличиваю – кончается восклицательным знаком, и хотя эти символы легко заменить точками (и Нейрат наверняка уже так и поступил), восклицательный характер этих утверждений от этого не меняется)”[340].
“Практически каждый довод, – сетовал Шлик, – строится по одной и той же схеме: «Должно быть так-то и так-то, поскольку всякий, кто верит в единство науки, которое строится на материализме, неизбежно разделяет эту точку зрения», либо «Дела обстоят так-то и так-то, поскольку любое противоположное мнение было бы метафизикой и богословием». И когда почти на каждой странице автор победоносно восклицает, что человек прекрасно может обойтись и без Бога и ангелов, это навевает на сочувствующего читателя невероятную скуку, а читателю нерасположенному представляется крайним догматизмом – и смешит обоих”[341].
Особенно Шлика раздражало, что из-за этого тягостного труда ему пришлось отложить летний отпуск. А упрямство Нейрата стало последней каплей. Нейрат пообещал написать для серии Шлика книгу об обосновании научного миропонимания, а представил какие-то лозунги на потребу толпе. Шлик печально писал: “Неужели кто-то поверит, что так можно склонить на свою сторону противника? Если Нейрат и в самом деле питает подобные надежды, то лишь из-за присущей ему детскости и наивности. Если автор ощущает потребность выступать против метафизики на каждой странице до единой, у читателя невольно возникает вопрос, действительно ли автор в полной мере отвергает метафизику или все же остался склонен к ней где-то в глубине души”[342].
В приложенном к отзыву длинном письме Шлик изливал Франку душу:
К несчастью, когда я объявил Нейрату о своем решении в кофейне – как вы можете себе представить, все выглядело как нельзя более по-дружески, – мои доводы не встретили вовсе никакого понимания. Напротив, он сразу же заявил мне, что мою точку зрения можно объяснить пережитками буржуазных предрассудков, от которых я так и не освободился, и хотя он допустил, что намерения мои были самыми честными, но назвал меня аристократом и вдобавок надменным. Если издатель на основании моего отзыва откажется печатать книгу, сказал Нейрат, он подаст в суд и, вероятно, выпустит книгу с пометкой, что я ее отклонил. Причем все это говорилось, напоминаю, нежнейшим тоном. На следующий день, то есть вчера, он несколько часов (!) проговорил со мной по телефону, опять же самым дружеским тоном, но при этом постоянно осыпал меня грубыми обвинениями. С его точки зрения, я нарушил этикет, принятый в республике людей науки, и любая третья сторона согласится, что морально я неправ. Он говорит, что я не имею права вести себя как цензор. Еще он воспользовался случаем преподать мне несколько прописных истин. В частности, он обвинил меня в асоциальности: я только делаю вид, что сочувствую ему, а на самом деле меня все это не задевает и я начисто лишен внутренней теплоты[343].
Затем Шлик совершенно серьезно спросил Франка, не может ли он обратиться к Эйнштейну, чтобы тот вынес свое суждение по этому вопросу. Однако по здравом размышлении Шлику показалось, что и этот вариант приведет к осложнениям: “Нейрат просто скажет, что и Эйнштейн испорчен знакомством с членами Прусской академии наук или еще что-нибудь столь же обобщенное”[344].
К счастью, Филипп Франк, друживший с Нейратом еще со студенческих лет, придумал способ успокоить Нейрата и разрешить этот конфликт так, чтобы ни одна из сторон не потеряла лица. Вскоре Шлик с огромным облегчением мог сообщить Карнапу, что Нейрат “собирается представить совершенно новую рукопись, где обрисовано введение в теоретическую социологию – предмет для него настолько знакомый, что он способен написать книгу в мгновение ока”[345].
На сей раз Нейрат ставил точки вместо восклицательных знаков, и вскоре его новая книга заняла свое место в серии. (Старая, марксистский памфлет, так и остается неизданной.) Однако буря в стакане воды не прошла бесследно. Нейрат сильнее прежнего укрепился в мысли, что психика Шлика полна подавленных буржуазных наклонностей. А Шлик, со своей стороны, заключил: “Не думаю, что тактичность и хороший вкус обязаны проявлять только представители «буржуазии»”[346].
Серия без начала
Книга Нейрата “Эмпирическая социология” (Empirische Soziologie) была опубликована как том пятый, а книга Поппера “Логика научного исследования” – как том девятый серии под названием Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffassung.
Однако первого тома в этой серии не было, и эта странность объясняется отнюдь не рассеянностью. Недостающим томом должна была стать книга Фридриха Вайсмана “Логика, язык, философия” (Logik, Sprache, Philosophie). В манифесте Венского кружка от 1929 года это сочинение уже успели назвать весьма доступным изложением основных идей “Логико-философского трактата” Людвига Витгенштейна[347]. А за несколько лет до этого Шлик даже написал к ней предисловие, однако эта заметка так и пылилась себе в ящике его стола. Фридрих Вайсман был одним из тех студентов, которые когда-то создали кружок Шлика. И для студента он был явно староват.
Вайсман родился в Вене, но отец его был из России. Сначала Фридрих изучал в университете математику и физику, однако в двадцать шесть лет искренне увлекся философией, очарованный недавно назначенным профессором Шликом.
Мориц Шлик, в свою очередь, устроил Вайсмана на должность библиотекаря и “научного ассистента” – поначалу за эту работу не платили ничего, а затем стали платить, но сущие гроши. К счастью, Вайсман преподавал в венских образовательных учреждениях для взрослых и кое-как сводил концы с концами, но не более того. Его лекции славились ясностью и живостью. Более того, он прекрасно вел семинары к лекциям Шлика. Поэтому ему неофициально поручили читать регулярные курсы лекций, например “Введение в математическую философию” – эта тема ему прекрасно подходила. Но он так и не стал Dozent (лектором); более того, так и не получил докторской степени. Увы, у Фридриха Вайсмана не хватало душевных сил, чтобы написать диссертацию или сдать экзамен. Его одолевало болезненное безволие.
Как только Витгенштейн согласился познакомиться с членами Венского кружка, Фридрих Вайсман стал пленником его обаяния. Потому-то Шлик и поручил своему помощнику написать что-то вроде “Трактата для начинающих”. Вайсман идеально подходил для этой задачи, поскольку с самого начала активно участвовал во всех диспутах кружка.
Венские студенты прекрасно знали, что Вайсману есть что рассказать о представлениях Витгенштейна о логике. “Мне очень импонируют его взвешенные рассуждения и сосредоточенная манера вести дискуссии”[348], – писал молодой берлинский гость Карл Гемпель (1905–1997). В январе 1928 года Шлик доложил Карнапу: “Вайсман изложил основные идеи Витгенштейна в славном эссе”[349]. Однако три недели спустя Шлику пришлось пересмотреть свое мнение: “Увы, текст Вайсмана еще не закончен. Жаль, что ему практически не удается преодолеть препятствия, которые всегда встают у него на пути, когда ему приходится что-то писать, иначе его ясный ум был бы гораздо более плодовитым”[350].
Витгенштейн тоже высоко ценил “ясный ум” Вайсмана. Очевидно, этот студент был достоин того, чтобы с ним разговаривать, он был из тех, кто задает умные вопросы и понимает, что надо помолчать, пока великий ум мучается над ответом. Витгенштейн писал Шлику: “Он [Вайсман] с превеликим терпением ждал, пока я по капле, под давлением, выжимал из мозга объяснения”[351].
После возвращения в философию Витгенштейн преподавал в Кембриджском университете. Он получил там место и стал профессиональным философом – причем этот факт временами навевал на него ужасную тоску. Витгенштейн был готов на все, лишь бы его имя не связывали с этой братией. В частности, он никогда не читал лекции в аудиториях – только в своей квартирке в Колледже Святой Троицы. Вскоре вокруг него сложилась тесная группа последователей, точнее, верных учеников. Многих из них он убедил навсегда оставить занятия философией.
Все тридцатые годы Витгенштейн регулярно возвращался в Вену во время университетских каникул – либо в семейное имение в Хохрейте в глубине Венского леса, в часе езды от Вены на автомобиле, либо в какой-нибудь из городских домов, принадлежавших трем его сестрам. Когда он бывал в самой Вене, то дозволял Морицу Шлику и Фридриху Вайсману навещать его дома. Они рассказывали об этих аудиенциях на встречах Венского кружка, которые Витгенштейн до сих пор старательно избегал.
Молодой гость из-за океана философ Эрнест Нагель (1901–1985) писал: “Кроме нескольких избранных в Кембридже и Вене, его нынешние взгляды никому не известны… В иных кругах существование Витгенштейна оспаривают точно так же, как и историчность Христа – в других… Витгенштейн по самым разным причинам отказывается публиковаться”[352].
На самом деле Витгенштейн очень хотел опубликовать свои новые мысли, но для этого ему нужно было сначала привести хоть в какой-то порядок стремительно расширявшийся поток философских заметок. С годами в его небольшой комнате в Колледже Святой Троицы, как и в особняках его родственников, накопились тысячи страниц заметок и афоризмов. Но поскольку Витгенштейн постоянно пересматривал свои воззрения и заново упорядочивал заметки, ему никак не удавалось подвести свою работу к финалу – точно так же, как Роберту Музилю не удавалось завершить свой “роман века”, а Гансу Гану – учебник по анализу и, если уж на то пошло, Фридриху Вайсману – его запланированную книгу о Витгенштейне.
Поначалу казалось, что начинанию Вайсмана благоволит судьба. Идея была простой: подобно тому как Мориц Шлик когда-то стал провозвестником идей Эйнштейна, так и Фридриху Вайсману предстояло сыграть ту же роль для Витгенштейна. Но Витгенштейн оказался куда капризнее Эйнштейна. Каждый раз, заглянув в рукопись Вайсмана, он требовал кардинальных изменений, а потом сплошь и рядом настаивал, чтобы все вернули как было, а иначе грозился потребовать переделать весь текст с самого начала. Постепенно стало понятно, что Витгенштейн считает, что большинство принципов “Трактата” “остались в прошлом”. А значит, от них следовало отказаться! Поэтому нынешнему, новому Витгенштейну казалось абсолютно бессмысленным представлять свои старые идеи в более доступном виде, как собирался Вайсман.

Напряженное сотрудничество: Людвиг Витгенштейн и Фридрих Вайсман
Тогда Вайсман, всегда хотевший как лучше, предложил другой проект: написать книгу, где излагались бы нынешние взгляды Витгенштейна. Никто лучше самого Вайсмана не подходил на эту роль. Более того, Витгенштейну нравилось часами с ним разговаривать, а Вайсман регулярно излагал суть этих бесед на встречах кружка. Именно он первым рассказал о лозунге Витгенштейна “Смысл утверждения есть метод его верификации” и попытался его объяснить. Так витгенштейновское утверждение вскоре стало главным тезисом Венского кружка. Но со временем возник досадный вопрос: а как верифицировать этот тезис? Похоже, это невозможно. А тогда имеет ли сам тезис какой-то смысл?
Очевидно, заметки Вайсмана могли бы лечь в основу книги о новой философии Витгенштейна со всеми ее вопросами без ответов. С этим никто не спорил. Но беда в том, что Витгенштейна, как видно, не устраивали никакие варианты изложения, которые предлагал Вайсман, даже если тот представлял неопровержимые доказательства, что слово в слово записал все, что говорил Витгенштейн. Витгенштейн постоянно изумлял всех очередными поправками. Это было особенно странно, если учесть, что он писал: “Решения философских задач не должны быть неожиданными. В философии ничего нельзя открыть”. Правда, он добавил: “Однако я и сам не до конца это понимаю и много раз грешил против этого принципа”[353]. Однако от вечных канонов собственного “Трактата” отклонялся не он один.
Карнап в горячке
Рудольф Карнап готовился разменять пятый десяток. У него сложилась незаурядная международная репутация, но так и не было стабильной работы. В философских институциях немецкоговорящих стран преобладал идеализм, так что никто не ждал там автора “Мнимых проблем в философии” и “Преодоления метафизики” с распростертыми объятиями.
Однако и тут все уладил верный Филипп Франк. Он нашел способ организовать кафедру философии на факультете естественных наук в Праге, идеально подходящую для Карнапа. Обосновал он это тем, что современная квантовая механика вот-вот даст новые ответы на древние философские головоломки, касающиеся детерминизма, вероятности, витализма и свободы воли. В этих областях физикам очень пригодился бы философ. В некотором смысле назначение Карнапа можно представить себе как изящное quid pro quo[354]: полжизни назад в Вене была создана кафедра для ученого из Праги (Эрнста Маха), так что теперь, пожалуй, было бы только уместно, чтобы из Вены пообщаться с пражскими учеными приехал философ.
Карнап вступил в должность осенью 1931 года. Он покидал Вену с тяжелым сердцем, и Венский кружок так же неохотно отпустил его. “Невыносимо думать, что наши вечера по четвергам теперь будут проходить без тебя”[355], – вздыхал Шлик. А Карнап, вспоминая об этом, писал: “Моя жизнь в Праге без кружка была более одинокой, чем в Вене”[356].
Но были у этого и светлые стороны: вместе с Карнапом в Прагу поехала и Ина Штёгер. Они долго спорили, можно ли ему представлять ее словами “а это моя жена”. Ведь официально они не были женаты. Но в конце концов они решили уступить требованиям общества и связать себя узами брака. Карнап писал Шлику: “Восьмого февраля [1933 года] мы сочетались гражданским браком. Так что теперь я снова законопослушный добропорядочный гражданин. Поскольку брак никак не повлиял на нашу жизнь, церемония не имела для нас большого значения, однако было забавно, что нам и Франкам, которые были у нас свидетелями, пришлось выслушать официальную речь на чешском, не поняв ни единого слова, и еще забавнее – когда мы вынуждены были повторить несколько фраз по-чешски слово в слово”[357]. Как видно, чешский давался Карнапу труднее, чем эсперанто.
Карнап часто бывал в Вене и не терял тесных связей со своими друзьями-философами. В дневнике дни, проведенные в Праге, зачастую остаются без записей, а венские странички полны описаний встреч и оживленных диспутов.
Главным итогом пражского периода в жизни Карнапа было завершение второй большой книги – “Логический синтаксис языка” (Logische Syntax der Sprache). Этот набор идей был задуман, а затем развит под влиянием Курта Гёделя и направлен против витгенштейновского утверждения, что говорить о логической структуре утверждений невозможно. Они просто “являются”, сказал как-то Витгенштейн. Карнапа это не убедило.

Ина и Рудольф Карнап: наконец-то добропорядочная семейная пара
Переломный момент наступил, пока Карнап был еще в Вене, за несколько месяцев до переезда в Прагу. Карнап вспоминал: “После того как я несколько лет размышлял над этими проблемами, вся теория структуры языка и возможные способы применения ее в философии явились мне, словно видение, бессонной ночью в январе 1931 года, когда я был болен. Назавтра, еще в постели, в горячке, я наспех записал свои соображения на сорока четырех листах под заголовком «Опыт металогики». Эти стенографические заметки были первой версией моей книги «Логический синтаксис языка» (1934)”[358].
Под “логическим синтаксисом языка” Карнап понимал формальные правила языка независимо от значения его символов или смысла выражений. Различие между синтаксисом и семантикой, то есть между закономерностями последовательностей символов и тем, что они обозначают в реальном мире, стало определяющей чертой металогики Карнапа, которая черпала вдохновение и в представлениях Давида Гильберта о формальных выражениях как последовательностях символов, не имеющих отношения к смыслу. С такой точки зрения можно не просто проводить логические рассуждения в конкретной системе, но и переходить из системы в систему. Витгенштейн и Рассел изучали Логику и Язык с большой буквы, единственные в своем роде, а Карнап применял более общий подход логического синтаксиса, который позволял сопоставлять любое количество разных логических систем. Ни одна из них не занимает привилегированного положения, примерно как в теории относительности не бывает привилегированных систем отсчета.
Такое представление привело Карнапа к формулировке принципа толерантности – это выражение прекрасно знакомо математикам: выбор системы – это вопрос договоренности. Это как выбирать, какие аксиомы геометрии применять: вопрос прагматики и вкуса, а не абсолютной истины. “Наша задача – не устанавливать запреты, а делать выводы, – писал Карнап. – В логике нет никаких моральных принципов. Каждый волен выстроить собственную логику, то есть свою собственную разновидность языка, как пожелает. Если кто-то хочет обсуждать конкретную логику, он должен сначала декларировать свои методы; больше ничего и не требуется”[359].
В личных отношениях Карнап тоже был эталоном толерантности. Его гость Эрнест Нагель был в восторге: “Он один из тех немногих, с кем не нужно соглашаться, чтобы тебя поняли”[360].
Однако при всей своей толерантности Карнап вдребезги рассорился с абсолютно нетолерантным Витгенштейном.
Шлик доставляет почту
С точки зрения Венского кружка, любое знание должно строиться на опыте. Так, мы читаем в манифесте: “Смысл каждого научного высказывания должен быть установлен через сведение к какому-нибудь высказыванию о непосредственно данном (das Gegebene)”. Но что такое “непосредственно данное”? В этом между членами кружка не было полного согласия. Даже среди авторов манифеста.
По мнению Карнапа, непосредственно нам даны чувственные данные, играющие у него ту же роль, что ощущения у Эрнста Маха. А по мнению Отто Нейрата, это было опасное приближение к солипсическим представлениям, основанным на личном восприятии. Нейрат такого не терпел, как и всех прочих идеалистических верований. Для него непосредственно данным были факты окружающего мира, а не чувственные данные. А конкретнее, камень есть камень, даже если его не пинать.
Карнап вовсе не отказывался обсуждать эту точку зрения. Хотя он включил “реальность внешнего мира” в число мнимых проблем в философии, он был готов признать, что его подход и подход Нейрата вполне могут оказаться двумя сторонами одной медали.
Еще одной мнимой проблемой, как считал Карнап, был вопрос о том, похоже ли сознание другого человека на твое собственное. В принципе мы никогда не сможем почувствовать, к примеру, огорчение господина К. как свое собственное. Мы только можем заключить по поведению господина К., что он огорчен. Убежденность, что в глубине души господин К. чувствует то же самое, что и мы, невозможно подтвердить, а следовательно, для науки она значения не имеет. По словам Карнапа, это “когнитивно неважно”[361].

Карнап заглядывает в бездну
Мнение Карнапа Нейрату понравилось, поскольку прекрасно сочеталось с его знаменитым старым любимым коньком – единой наукой. Гуманитарным дисциплинам не требуется своего особого места. Все происходящее – часть природы, а следовательно, часть физического мира, а он вмещает в себя все сказанное и подуманное. Нравы, общества, эмоции, обычаи – все это есть результат физических законов. Карнап отмечал, что Нейрат как-то раз даже пытался перевести все понятия фрейдистского психоанализа на “язык физикалиста”, основанный на чисто бихевиористских терминах[362]. Это героическое начинание ни к чему не привело, однако оба философа изо всех сил держались за физикализм.
Но когда Карнап написал статью “Физикалистский язык как универсальный язык науки” (Die physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft), внезапно сгустились тучи. Едва заглянув в статью, Витгенштейн вскипел от ярости. Этот Карнап, которого он давным-давно прогнал с глаз долой, имеет наглость не признавать его заслуг, смеет цитировать только самого себя – причем “с незаурядной добросовестностью”[363]. Витгенштейн от злости нажаловался Морицу Шлику, тот рассказал о его недовольстве Карнапу, а Карнап ответил в свое оправдание, что в своих прежних сочинениях часто воздавал должное Витгенштейну, а здесь ему это просто не понадобилось.
Шлик передал ответ Карнапа Витгенштейну, но того это вовсе не успокоило. Особенно его задело ехидное замечание Карнапа, что сам Витгенштейн не славится щепетильными ссылками на других авторов. Хочется вспомнить о бревне и соринке.
“Чтобы писать такое, нужно быть человеком гораздо глубже Карнапа!”[364] – бушевал Витгенштейн. Более того, “физикализм”, как он отмечал, – ужасный термин. Карнап на это заметил, что понять гнев Витгенштейна способен только психоаналитик[365].
Вся эта жаркая перепалка шла туда и обратно через Морица Шлика, который в это время пытался отдохнуть в Каринтии на юге Австрии. Он не прислушался к словам своего лечащего врача, который посоветовал не указывать адреса, куда пересылать почту. И вот теперь ему ни за что не отделаться от неблагодарной роли посредника. Весь отпуск насмарку!
Шлик писал Карнапу:
В этом конверте ты найдешь два письма от Витгенштейна, которые он прислал мне с просьбой надписать на них твой адрес и переслать тебе, не вскрывая. Однако я прекрасно знаю, что в них, и играть роль посредника мне в высшей степени мучительно. Я отказался пересылать тебе письмо Витгенштейна ко мне, так что теперь он сам тебе напишет. Разумеется, тебе известно, как глубоко я уважаю вас обоих, поэтому ты легко можешь представить себе, какие страдания причиняет мне вся эта злосчастная история… Передо мной сущая загадка, с какой стороны ни взгляни! Большая удача, что ты такой спокойный и рассудительный. А я сейчас не знаю, что и думать[366].
Не оставить камня на камне
Эта “злосчастная история” принесла много страданий и Фридриху Вайсману. Витгенштейн (уж кто бы говорил!) донимал его упреками, что книга до сих пор не готова. Ведь если бы она уже вышла, это однозначно подтвердило бы приоритет Витгенштейна! А Вайсман, вместо того чтобы работать над ней, тратил время и силы на передачу воззрений Витгенштейна Венскому кружку. Скоро дойдет до того, писал Витгенштейн, что все решат, будто это он, Витгенштейн, украл все идеи у Карнапа. “Такое было бы, разумеется, крайне нежелательно для меня”[367], – едко добавил он.
Вайсмана это глубоко ранило. Потом он целых два семестра всячески старался ни словом не упоминать о Витгенштейне на встречах кружка, даже имени его не называть. Шлик тоже начал внимательнее следить за словами. Очевидно, эта самоцензура сильно повредила прежнему свободному потоку мысли в кружке. Теперь всем было ясно, что они идут по минному полю.
Но затем все внезапно изменилось к лучшему, и мир снова заиграл яркими красками. В сентябре 1933 года Шлик и Витгенштейн провели вместе несколько счастливых дней в деревеньке на побережье Адриатики. Витгенштейн открыл новый философский инструмент – метод “языковых игр”, по его выражению. Сутью метода были мысленные эксперименты, показывающие, как глубоко все наши понятия и утверждения коренятся в человеческой деятельности.
Рассмотрим несколько примеров языковых игр, каждая из которых поначалу кажется чисто словесной, но если взглянуть внимательнее, окажется, что она не может обойтись и без невербальной деятельности: “Отдавать приказы или выполнять их; Изготавливать объект по его описанию (чертежу) … Просить, благодарить, проклинать, приветствовать, молить”[368].
Толковать эту деятельность в терминах теории образов было бы искусственным. Если я говорю спасибо, тем самым я, безусловно, описываю чувства признательности и благодарности, но во многих случаях это к делу не относится. Говорить спасибо в современном обществе – инструмент, который обеспечивает более гладкое течение общественной жизни, или, по выражению самого Витгенштейна, часть нашей “формы жизни”.
Витгенштейн отвергал ошибочное, по его мнению, мнение Карнапа, что “логический анализ помогает увидеть скрытое (подобно химическому и физическому анализу). Если, например, хочешь понять, что означает слово «предмет», надо посмотреть, как он применяется на практике”[369]. Смысл слова, говорил Витгенштейн, определяется правилами его использования, подобно смыслу ладьи или слона в шахматах. То же самое относится и к логическим утверждениям: “Рассматривай предложение как инструмент, а его смысл как его применение!”[370]. Это идет вразрез с главной мантрой Венского кружка: “Смысл утверждения состоит в методе его верификации”.
Идеальный язык науки, язык того типа, к которому стремился Карнап, интересовал Витгенштейна даже меньше, чем эсперанто. Он хотел анализировать обыденный язык со всеми его подводными камнями. Цель его философии была терапевтичной: “показать мухе выход из мухоловки”[371]. Здесь снова можно найти подсказку в языке: “Философ лечит вопрос как болезнь”[372]. Витгенштейн и сам отмечал, что его собственный стиль анализа языка родственен психоанализу легендарного старого профессора Фрейда: обе методики “делают бессознательное сознательным, а следовательно, безопасным”[373].
Шлик и Витгенштейн в очередной раз решили изменить структуру книги Фридриха Вайсмана, как всегда, не спросив согласия автора. Когда он выслушал их новые требования, то с досадой пожаловался Карлу Менгеру, умевшему сочувствовать: “Теперь мне велено составить целый ряд примеров, от самых простых идей до самых сложных во всей философии: считается, что тогда решения философских задач свалятся нам под ноги, будто спелые плоды”[374].
Картина, безусловно, рисовалась заманчивая, но воплотить ее в жизнь было неподъемной задачей. Вайсман отчаянно пытался уклониться от этого титанического труда, но безуспешно. Как-то раз его затемно разбудили и велели немедленно явиться домой к Шлику. Вайсман покорно встал и побрел сквозь сумрак. Там его ждал Витгенштейн. Вайсману сообщили, что он должен по крайней мере попробовать осуществить новую концепцию. Неужели Витгенштейн многого просит? Просто попробовать! Вайсман, естественно, уступил. Однако предупредил, что если книга выйдет слишком поздно или вообще никогда, он в этом не виноват.
Все его опасения оправдались в точности. Витгенштейн продолжал генерировать идеи все более бурно и беспорядочно. Несколько раз книга была “готова к печати”, но ее отзывали в последний момент и подвергали очередному раунду радикальной правки. Да чья это книга, в самом деле?
В письме к Шлику Вайсман жаловался на “трудности совместной работы: он [Витгенштейн] постоянно следует последним капризам вдохновения, рушит все, что до этого воздвиг, так что трудно удержаться от чувства, что нет ни малейшей разницы, в каком порядке излагать свои мысли, если в итоге все равно камня на камне не остается”[375].
В какой-то момент Вайсман и Витгенштейн даже договорились, что каждый напишет свою книгу. Но вскоре от этого плана отказались, и Вайсман снова остался один на один с неподъемной задачей. А когда наконец показалось, что он достиг успеха, Витгенштейн решил переработать весь текст в последний раз за лето.
Нейрат с иронией говорил своему молодому товарищу Генриху Нейдеру: “Сошлись ли наконец слова Пророка со словами господа? Как там дела у бедняги Вайсмана? Когда господь явится ему, снизойдет к этому несчастному смертному во дни священных празднеств? Или случится так, что откровения господа будут опубликованы, и Ему больше не потребуется труд его раба?”[376]
Карнап был в курсе событий благодаря Шлику: “Книга Вайсмана и в самом деле близка к завершению, осталось внести только мелкую правку. А потом Витгенштейн, приезда которого я жду через неделю, хочет добавить несколько примечаний”[377].
Однако через несколько месяцев все виделось иначе: “Я вынужден уточнить свое последнее сообщение касательно книги Вайсмана: все, что Витгенштейн планирует на ближайший месяц – это составить развернутый план, а затем на плечи Вайсмана ляжет задача облечь этот скелет плотью. Я ему не завидую”[378].
Раз за разом в сюжете намечались неожиданные повороты. Шлик писал Карнапу: “Последние новости о книге Вайсмана состоят в том, что писать ее будет не он, а Витгенштейн самолично! Я еще не знаю, что скажет Вайсман на такое, поскольку до сих пор говорил с ним только по телефону. Прошу тебя, пока никому об этом не рассказывай, поскольку очень может быть, что это еще не последнее слово, а об этой несчастной книге и так ходит слишком много слухов”[379].
Так жертвенного агнца Фридриха Вайсмана отстранили от дела – временно. Но в конце концов стало ясно, что чутье не обмануло Шлика: это было далеко не последнее слово. Точнее и лаконичнее всех положение дел описал сам Витгенштейн: “Работать со мной – сущий ад”[380].
Глава десятая. Немного о нравственности
Вена, 1933. Австрия и Германия упраздняют демократию. Диктаторы раскрывают карты. Шлик видит, что гибель неминуема. Менгер разрабатывает этику без ценностей. Экономист Моргенштерн отрицает возможность точных прогнозов. Безработный математик открывает экономическое равновесие. Шлик утверждает, что этика – это наука, а не философия, находит смысл в жизни – это молодость. Предлагает дать счастью шанс. Шлика преследует бывший студент, грозит убийством и самоубийством.
Чрезвычайное положение
Бывший соученик Людвига Витгенштейна стал канцлером Германии и явно не собирался останавливаться на этом. На первом месте в списке неотложных дел у Гитлера стояла аннексия его родной Австрии. В январе 1933 года, сразу после прихода к власти в Берлине, он всерьез приступил к Heimfhrung Австрии – ее “возвращению домой” в Германский рейх.
Весь предшествующий год австрийское отделение национал-социалистической партии бурно разрасталось. Австрийская республика была на грани переворота: христиане-социалисты удерживались у власти с самым крошечным перевесом. Вместе с правыми фракциями Landblock и Heimatblock их парламентское большинство сохранялось благодаря одному-единственному голосу.
Два политических лидера правых, Игнац Зейпель и Йохан Шобер, умерли с промежутком меньше месяца. Новый австрийский канцлер Энгельберт Дольфус (1892–1934) был непоколебимым противником нацизма, но не то чтобы демократом до мозга костей. В конституции Дольфус нашел статью, позволяющую ему ввести чрезвычайное положение и взять власть в свои руки, избегая тем самым парламентских дебатов, которые частенько выходили из-под контроля, да так, что в воздухе мелькали чернильницы. Основанием для указа канцлера был полузабытый Акт о чрезвычайных полномочиях в условиях экономики военного времени, и ничего, что Великая война уже давно окончилась.
За несколько лет до этого Отто Нейрат осознал, какая политическая мощь скрыта в механизмах экономики военного времени, и теперь Дольфус ловко задействовал эти же механизмы, но совсем с иной целью.
В Германии тоже подрывали конституцию всевозможными Notverordnungen – так назывались акты о чрезвычайных полномочиях. Крайне удачным предлогом для подобных действий стал пожар Рейхстага в феврале 1933 года. В поджоге обвинили коммунистов, хотя пышным цветом цвели и другие теории заговоров. Так или иначе, проведенные вскоре выборы принесли Гитлеру почти сорок четыре процента голосов – меньше, чем ожидалось, но вполне достаточно. Национал-социалисты объявили вне закона всю оппозицию без разбора.
В Австрии парламентское правление тоже упразднили – примерно в то же время, хотя и другими способами. Повод предоставила череда нелепых процедурных недоразумений. Во время напряженного поименного голосования – по воле случая решалось, стоит ли преследовать в уголовном порядке забастовавших рабочих-железнодорожников – спикер палаты Карл Реннер отказался быть председателем собрания, чтобы иметь возможность тоже проголосовать. Тогда второй председатель, принадлежавший к его политическим протвникам, решив уравновесить поступок Реннера, тоже отказался вести собрание. В суматохе их примеру последовал и третий председатель. Никто не успел ничего сообразить, как в парламенте не осталось председателей, и некому стало официально закрыть сессию, отложить ее или назначить следующую. Что же делать? Растерянные депутаты в конце концов покинули зал и разошлись по домам в полном недоумении.
Канцлер Энгельберт Дольфус воспринял этот дар судьбы как знамение свыше – и он понял его и принялся действовать. Он в одностороннем порядке объявил, что австрийский парламент самораспустился, и назавтра полиция преградила депутатам вход в здание. А дальше все пошло как по маслу. Кабинет министров мгновенно учредил цензуру в прессе и запретил политические выступления. Военизированная левая парламентская группировка шуцбунд была расформирована. Социал-демократы – соци – шаг за шагом вынуждены были уступать свою территорию. Дольфус потирал руки: “Мало что бесит этих соци больше, чем тщательно рассчитанная медленная тактика”[381].
Однако наци были значительно опаснее соци – они требовали всеобщих выборов в Австрии. А этого Дольфус никак не мог допустить. Не нужно было быть демократом, чтобы бояться прихода нацистов.
Дольфус распорядился депортировать лидера австрийских национал-социалистов в Баварию. В отместку Гитлер ввел так называемый Tausend-Mark-Sperre: любой немец, чтобы поехать в Австрию, должен был выложить тысячу марок за разрешение пересечь границу. В ответ на такой грабеж средь бела дня поток гостей из Германии в Австрию мигом оскудел – смертельный удар по туристической индустрии.

Бегство из университета. 1933 год
Очень скоро в Австрии уже хозяйничали гитлеровские штурмовики, и по стране прокатилась волна терроризма. Дня не проходило, чтобы не взлетали на воздух телефонные будки и мосты, не перерезались линии электропередачи, не случалось диверсий на железных дорогах, не взрывались бомбы в кофейнях и магазинах. Воцарившийся в Европе политический хаос не оставил Дольфусу иного выхода, кроме как обратиться за помощью к главарю итальянских фашистов Бенито Муссолини. Канцлер – миниатюрный, с добрым взглядом – рядом с дуче выглядел прямо-таки трогательно хрупким. Однако никаких сомнений в том, как следует действовать, у него не было. Он быстро запретил в Австрии национал-социалистическую партию, а вместо нее объявил о создании Vaterlndische Front – Фронта Родины – с самим собой в качестве лидера; кроме того, он учредил так называемый Krckenkreuz (“крест из костылей”) в качестве австрийского аналога немецкой Hakenkreuz, свастики, организовал массовые манифестации на открытом воздухе, а по случаю религиозного праздника Katholikentag (Дня католика) в сентябре 1933 года произнес зажигательную речь, взбудоражившую толпы слушателей: “Время либерально-капиталистического экономического уклада кончилось! Время партийной политики ушло! Мы против террора и конформизма! Наша цель – построить в Австрии социальное, христианское, германское государство, основанное на корпоративных принципах и сильном авторитарном руководстве!”
Идею “корпоративных принципов” общества пропагандировал Отмар Шпанн (1878–1950), профессор экономики из Венского университета. В книге Шпанна “Истинное государство” (Der wahre Staat) утверждалось, что понять структуру общества можно, лишь разбив ее не на классы, а на профессии. Более того, читателю сообщалось, что целое – это нечто большее, чем сумма его частей, из чего следовало, что социальные группы важнее отдельных личностей.
Идеи Шпанна были с восторгом восприняты студентами, склонными к националистическим и прокатолическим взглядам. Некоторые из них принадлежали к Свободному студенческому корпусу, который регулярно затевал кровопролитные стычки с национал-социалистическими группировками, особенно по субботам, когда во внутреннем дворе университета, обрамленном арочными галереями, часто проводились ритуальные драки под названием Bummel (“ропот”). Занятия постоянно срывали, аудитории громили, на стенах коридора малевали лозунги, полные ненависти. Университет то и дело приходилось закрывать из-за беспорядков.
А Венский кружок бесстрашно продолжал свои обычные встречи вечером по четвергам. Участников впускали Менгер и Ган, у которых как у преподавателей были ключи от университетского здания, где теперь зачастую царило жутковатое запустение. Место встреч кружка было святилищем тишины и покоя, а на улицах снаружи раздавались яростные военные кличи противоборствующих сторон и зловещий грохот тяжелых сапог.
Экстренный выпуск!
Карл Менгер писал в воспоминаниях:
В 1933 году, в год, когда в Германии к власти пришел Гитлер, жизнь в Вене временами становилась непереносимой. Газеты публиковали экстренные выпуски круглые сутки, и по улицам бегали разносчики, выкрикивая последние новости. По тротуарам маршировали компании молодых людей, многие со свастиками, и выкрикивали нацистские лозунги. То и дело по широким улицам проходили парадом члены той или иной из враждующих военизированных организаций. У меня никак не получалось сосредоточиться, и каждый час я выбегал на улицу купить очередной экстренный выпуск. Однажды я встретил в трамвае доктора и фрау Шлик. “Никак не могу сосредоточиться, – сказал профессор. – С утра до ночи только и делаю, что читаю экстренные выпуски”.
А затем Менгер добавил: “Печально было наблюдать, как тихая безмятежность постепенно покидает Шлика. В одном нашем разговоре в тот страшный период он сказал, что, по его мнению, приход Гитлера означает Untergang des deutschen Volkes — упадок и падение (а точнее, гибель) немецкого народа”[382].
В Германии нацисты жгли книги. Бойкотировали еврейские магазины, увольняли евреев-чиновников. Одним из первых убежища за границей пришлось искать Альберту Эйнштейну: его вовремя предупредили, и он просто не вернулся домой из очередной поездки. В качестве наказания – Strafausbrgerung – его сразу лишили немецкого гражданства.
Так начался беспрецедентный по размаху исход ученых. Когда прусский министр просвещения спросил стареющего Давида Гильберта, не пострадал ли его факультет в Геттингене, потеряв всех “евреев и друзей евреев”, Гильберт сухо ответил: “Нет, факультет просто умер”[383].
Среди немецких профессоров, вынужденных оставить преподавание, были Ганс Рейхенбах и Рихард фон Мизес. Рейхенбах был главой Берлинского общества научной философии и вместе с Карнапом издавал журнал Erkenntnis. После изгнания из Германии он стал профессором в Стамбульском университете.