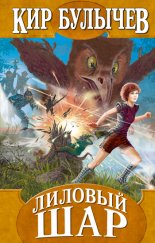Волки Лозарга Бенцони Жюльетта
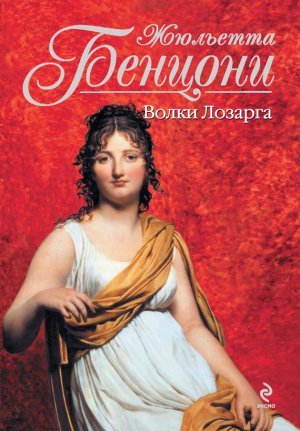
Часть I
Парижские кварталы
Глава I
Жилец
Гортензия уже и забыла, что Париж такой шумный город. Ровно в семь под звуки рожков на почтовый двор, что на бывшей улице Платриер, гремя копытами, влетел тулузский почтовый дилижанс, на который она пересела в Кагоре. Лошади были все в мыле. В Орлеане случилась задержка – потерялся мешок с почтой, его долго искали, потом лошадям задали овса, вот и пришлось до Парижа гнать во весь опор. Спрыгнув на землю, всадники разминали затекшие ноги, конюхи с попонами стали перепрягать лошадей, почтовые служащие побежали за почтой, а разные комиссионеры и носильщики накинулись на пассажиров в надежде заполучить клиентов. Поднялся невероятный гомон, все кричали, перебранивались, а тут еще зазвенели лошадиные колокольчики и ко всему добавилось скрежетание ручных тележек.
Оглушенная, с разболевшейся головой, Гортензия на не гнущихся от усталости ногах сделала шаг к выходу. Руку ей подал один из молчаливых попутчиков, не старый еще человек, лет сорока, не более. Военная выправка выдавала бывшего офицера, но офицера небогатого, видно, жил на половинное содержание отставника. Над верхней губой его красовались гусарские усы, а в петлице старого, лоснящегося на локтях редингота, как цветок, алела розетка кавалера Почетного легиона.
С тех пор как он сел в Лиможе, они с Гортензией не перемолвились и словом. Не то что двое других пассажиров, супружеская чета из Тулузы. Вот уж кто болтал без умолку! Но офицер, видимо, чтил, как святую заповедь, глубокий траур этой молодой светловолосой дамы, едва отвечавшей на вопросы попутчиков, так что в конце концов тулузцы даже перестали обращаться к ней. А он лишь приветствовал ее утром и вечером, да еще, как сейчас, подавал руку, помогая выйти из экипажа. Правда, за время долгого пути Гортензия не раз ловила его взгляд на своем лице, скрытом густой черной вуалью.
На этот раз незнакомец опять молча протянул ей руку в поношенной черной кожаной перчатке, но, когда она уже ступила на землю, он, поклонившись, вдруг отважился задать вопрос:
– Вас кто-нибудь встречает, мадам?
– Нет, никто.
– В таком случае вам, может статься, понадобятся мои услуги? Особой властью я не наделен, но, надеюсь, хоть смогу должным образом проводить до места одинокую даму…
Гортензия печально улыбнулась, про себя отметив серьезный тон и некоторую горечь в словах. Еще один ветеран Великой Армии принужден влачить жалкое существование без будущего…
– Благодарю вас, месье…
– Полковник Дюшан, к вашим услугам.
– Прекрасно! Спасибо, полковник. Буду весьма вам обязана, если соблаговолите найти для меня наемный экипаж.
– Прошу вас подождать минуту.
Он и в самом деле не задержался, и уже через минуту около молодой женщины остановился экипаж, куда принялись загружать ее нехитрый багаж.
– Куда приказать вас отвезти?
– На шоссе д'Антен. Я сама покажу дом.
Дюшан крикнул кучеру адрес и вновь поклонился:
– Ваш покорный слуга, мадам… – И, чуть помедлив, добавил с некоторой робостью в голосе: – Если когда-нибудь вам понадобится помощь или хотя бы дружеская рука… Я собираюсь обосноваться здесь поблизости, в отеле «Рона».
Его заботливость тронула Гортензию. Неужели ее глубокое отчаяние так бросалось в глаза, что даже совершенно незнакомый человек смог разглядеть его за маской траура и молчания?
Гортензия быстро приподняла вуаль, желая отблагодарить его хотя бы улыбкой, пусть и не слишком веселой.
– Отчего вы сочли, что мне может понадобиться помощь? – тихо спросила она. – Я родилась в Париже, здесь прошло мое детство.
– Сам не знаю. Просто так показалось, когда я в карете сидел против вас. Очень надеюсь, что ошибся. И простите великодушно, коли проявил нескромность.
– Вам не за что просить прощения… Всегда приятно найти друга.
– Спасибо, что приняли мою дружбу. Да сохранит вас бог, госпожа Кудер…
Прямая фигура офицера исчезла, скрывшись за дверьми отеля Мессажери. Гортензия закусила губу. Госпожа Кудер… Так звалась одна из престарелых кузин доктора Бремона, это имя ей и проставили из предосторожности в паспорте в Шод-Эг. Она еще не привыкла к новому имени и не сразу отзывалась. Одна в фиакре, она с усталым вздохом откинулась на пыльное, с запахом старой кожи сиденье и стала думать о полковнике Дюшане.
Какая неожиданная предупредительность, и когда – чуть только нога ее ступила на мостовые Парижа! Эта мысль наполнила Гортензию умиротворением, как и в тот день, когда после бешеной скачки по плохим дорогам под дождем перед ней в Шод-Эге гостеприимно распахнул двери дом доктора Бремона. С какой теплотой и добросердечием встретила ее вся его семья!
Однако ведь и трех недель не минуло с той страшной ночи в Лозарге, когда Жан, Волчий Князь – ее единственная и тайная любовь, – вырвал ее из когтей самой смерти. Сейчас ей казалось, что с тех пор прошла целая вечность и, отдаляясь от башен лозаргского замка, она попала в иную эпоху, хотя воспоминания были еще совсем свежи. Быть может, потому, что частица ее души осталась там. Нечто подобное произошло с ее матерью, когда та покидала Лозарг.
Удивительное, сложное чувство испытывала Гортензия. Она никак не могла в нем разобраться. С одной стороны, так хотелось, чтобы события последних месяцев отошли в призрачный мир дурных снов и утренняя заря прогнала бы их навсегда из ее памяти. Но так не могло случиться. Гортензия и не собиралась ничего забывать. Даже упрекала себя за бегство, как за проявление трусости. Былой страх исчез. Осталось только отчаяние, оно, как зловещий отблеск, бередило ей душу, словно бы утратившую согласие с собой.
А может быть, в ней жили две совершенно разные женщины? Одна была беглянкой, в ужасе спасавшейся от навязанной маркизом – одновременно ее дядей и свекром – постыдной сделки: ее заставляли стать его любовницей, если только она захочет видеть сына, отнятого на следующий день после рождения. Могли и убить, представив дело так, будто она умерла от грудницы. Другой женщиной была возлюбленная Жана – повелителя волков. Она представляла себя в бирюзовой комнате, где родился их сын. Там ее душа леденела от страха, пылала любовью, ее переполняли радость, надежда, гнев. Там вопреки всему осталось лучшее, что в ней было.
Конечно, Гортензия возмутилась бы, скажи ей кто-нибудь, что она любила Лозарг так же, как ее мать, и что, уезжая, она увозит с собой скорее сожаление, нежели обиду. И, однако, в Париже, где она родилась и где провела столько счастливых беззаботных лет, Гортензия чувствовала себя совсем чужой. Ее корни уже глубоко ушли в землю Оверни, не так-то легко вырвать их, все позабыть…
Кабриолет, запряженный крепкой лошаденкой, катился быстро, и вскоре они добрались до сверкающей огнями полосы бульваров. Фонарщики как раз начинали зажигать большие масляные светильники, а также не так давно установленные газовые рожки.
Тем разительнее был контраст с плохо освещенными улочками, по которым они только что проезжали. Бульвары опоясывали Париж времен Людовика XIV как бы горящим кольцом, освещавшим само небо. Огни театров и кафе, где за стеклянными широкими витринами двигались посетители, сливались с огнями широкого проспекта, запруженного снующими экипажами и верховыми лошадьми. Желтый свет падал и на листву высоких деревьев, стоящих в ряд у каменных парапетов, ограждавших царство пешеходов.
Это был час начала спектаклей, и за мерцающими стеклами ландо виднелись замысловатые женские прически, посверкивали брильянтовые серьги, мягко покачивались страусовые перья на шляпах и краснели, желтели, зеленели букетики цветов в обрамлении кружев. То и дело мимо проскакивал тильбюри с каким-нибудь франтом в подбитом шелком плаще, со шляпой, лихо сдвинутой набок, и сигарой в зубах, а некоторые даже щеголяли в каких-то немыслимых цилиндрах с кокардой.
Цвет города слетался навстречу еще одной праздничной ночи, как две капли воды похожей на вчерашнюю, да и на завтрашнюю тоже. Только Гортензия, несмотря на свое громкое имя и сказочное состояние, была им чужой.
Ее от всех этих счастливых людей отделяла не только дверца экипажа: огни бульваров слепили глаза, привыкшие к величественному темному небу, окутывавшему Овернь. Пока кабриолет катился вперед, она жаждала лишь одного: поскорее добраться до родного дома, хотя в нем, пустовавшем уже около двух лет, ее встретят лишь пыльная мебель, кресла в белых чехлах, лампы без масла и голые кровати. Но даже если никто из родных ее там не ждал, даже если предстояло встретиться со страшной пустотой заброшенного дома, лишенного души, – это был ее дом, единственное место, где она сможет вновь обрести себя, спасительная соломинка в бурном водовороте, каким казалась ей жизнь после рождения маленького Этьена. Она всей душой стремилась домой.
Экипаж поравнялся с шоссе д'Антен, но прежде, чем кучер успел завернуть за угол ресторана Нибо, Гортензия высунулась из окошка.
– Остановите у дома напротив особняка Периго! – крикнула она.
Тот обернулся.
– У особняка Гранье де Берни?
– Да…
– Так бы и сказали!
Что она себе вообразила? Разве может дом отца потерять свое имя из-за происшедшей там трагедии? Она опасалась, что кучер что-нибудь скажет в ответ, боялась какого-нибудь жестокого замечания, от которого ей станет больно.
Вдруг Гортензия позабыла обо всех своих прежних опасениях, так она была поражена. Она ожидала увидеть темные стены, запертую дверь, слепые окна. А заброшенный особняк от высокого портала, верхний ярус которого украшал треугольный фронтон с возлежащей нимфой, до боковых крыльев, выходящих на улицу, весь сиял огнями. Обе створки широко распахнутых ворот открывали вид на благородные очертания внутреннего двора с пышной зеленью апельсиновых деревьев в кадках. Откуда-то издалека доносились звуки ариетты Моцарта, а у крыльца как раз остановилось ландо, доставившее сюда неизвестную ей пару в вечерних туалетах: даму в сиреневом платье с черной эгреткой и господина в черном фраке, коротких панталонах и шелковых чулках. Встречал их лакей в пурпурной, расшитой серебром ливрее – у них в доме лакеи так не одевались.
Кучер остановил кабриолет у ворот.
– Там у них праздник, – проворчал он. – Вы уверены, что не ошиблись адресом?
На мгновение онемев от удивления, Гортензия быстро взяла себя в руки:
– Ошиблась адресом?
– Да откуда я знаю! Если приехали просить места, то заезжать нужно не с этой стороны…
Туалет пассажирки явно не внушил ему уважения. Ледяным тоном Гортензия постаралась дать ему понять, что он имеет дело отнюдь не с прислугой.
– Этот дом принадлежит мне, – сухо бросила она. – Остановитесь у самого подъезда. Надо выяснить, что все это означает.
– Ладно.
Не вполне удовлетворенный ее словами, кучер все же потихоньку стал продвигаться вперед. Но не успели они доехать до ограды, как из каморки привратника выскочил какой-то старик и буквально кинулся наперерез.
– Эй, ты! Куда правишь? Здесь вам не кабак какой-нибудь!
Но обрадованная Гортензия уже выпрыгнула из экипажа и, откинув черную вуаль, бросилась на шею привратнику.
– Може! Милый мой Може! Наконец-то встретились!
Бывший кучер Анри Гранье де Берни удивленно вскрикнул, но в его радостно загоревшихся глазах сквозило какое-то беспокойство.
– Мадемуазель Гортензия! Это вы? Неужели правда вы? Но что вы здесь…
– Что я здесь делаю? Приехала к себе домой, милый Може, собираюсь тут пожить. Только вот никак не могу понять, что происходит. Неужели кто-то посмел поселиться в доме отца?
Вмиг погрустнев, Може опустил взгляд и смущенно начал теребить шапку, сорванную с головы при виде Гортензии.
– Господин принц де Сан-Северо, председатель административного совета банка Гранье, попросил всемилостивейшего разрешения въехать сюда, чтобы жить поближе от конторы. Король соизволил дать разрешение. Чтобы дом не пустовал… Не годится же бросать так, без хозяина…
Бедняга будто силился ответить плохо выученный урок. Но печаль, застывшая в добрых глазах старого слуги, выдавала его истинные чувства.
Что тут скажешь? Но их молчание вскоре прервал нетерпеливый кучер:
– Ну что? Куда ехать? Назад, что ли?
– Об этом и речи быть не может! Везите меня к подъезду! – приказала она, садясь обратно в экипаж. – Увидимся позже, Може. А пока у меня дела…
Не слушая более невнятных объяснений старика, она сделала знак кучеру трогать и протянула монету за труды. У входа пораженный лакей, даже не подумав броситься навстречу, стоял и наблюдал, как простой наемный экипаж подъезжает к беломраморным ступеням крыльца. В окошке показалась голова Гортензии.
– Друг мой, вас так и не научили открывать дверцу? – сухо осведомилась она.
Повелительный тон вывел лакея из оцепенения, он, словно заводной, подошел и распахнул дверцу, выпуская Гортензию. Она спрыгнула на землю.
– Отнесите в дом багаж и скажите хозяину, что я хочу с ним поговорить.
– Но, мадам, – пришел в себя лакей, – это никак нельзя. Монсеньор сейчас дает званый ужин, и я не смогу…
– Сможете, если не хотите, чтобы я зашла к ним прямо в зал.
– Госпожа! Монсеньор терпеть не может, когда его беспокоят.
– А я терпеть не могу, когда кто-то без предупреждения вселяется в мой дом, и еще ненавижу, когда пытаются помешать мне войти. Идите и доложите: графиня де Лозарг. Я буду ждать в гостиной Времен года… если, конечно, она еще существует.
Лакей покачал головой, однако, смирившись, с низким поклоном растворил перед Гортензией дверь слева от главного вестибюля, выложенного черно-белой плиткой. Она прошла в очаровательную бирюзовую гостиную. Выпуклые рельефные украшения на стенах, выполненные под белый мрамор, изображали четырех нимф, олицетворявших времена года.
Как ни храбрилась Гортензия, хотя гнев и придавал ей новые силы, она все же обрадовалась, что наконец-то осталась одна – так легче справиться с накатившими чувствами. Ее мать любила эту комнату, она сама выбирала всю мебель, даже безделушки, вот, например, эти две старинные хрустальные вазы. Ей нравилось ставить в них охапки чайных роз. Дрожащей рукой Гортензия погладила серебристую обивку канапе у камина. Сколько раз Виктория Гранье де Берни возлежала тут среди пышных кружев и радужного муслина, принимая самых близких друзей! Как в те времена, на столике стоял длинный сиреневый хрустальный рог с тремя белыми розами в зеленоватых прожилках, лучшими из тех, что росли в оранжереях Берни.
Гортензия на мгновение прикрыла глаза, сдерживая подступившие слезы. Эти три цветка были последней каплей: именно такие подбирала мать к этой вазе, и, если бы, довершая картину, где-нибудь со спинки кресла свисал оброненный шарф, она, быть может, не удержалась бы и разрыдалась.
Но тут, к счастью, скрипнула дверь. Гортензия, широко раскрыв глаза, резко обернулась. Креповая вуаль взлетела кверху. На пороге, склонившись в поклоне, стоял невысокий худой человечек с пронзительными черными глазами на узком лице. Сухопарая фигура напоминала статуэтку из оливкового дерева, но руки были удивительно красивой формы, да и сам он казался безукоризненно элегантным. Бархатный фрак со стоячим воротничком, из-под которого выглядывали пышные кружева жабо, и черные шелковые панталоны сидели на нем как влитые.
Коротко поздоровавшись, принц быстрыми шагами приблизился к неподвижно стоявшей Гортензии, словно замершей при виде незваного гостя. Взгляд его упал на пальцы молодой женщины, все еще поглаживавшей лепестки розы.
– Они всегда стоят в этой вазе, – мягко заметил он. – Помнится, ваша матушка так их любила…
– Мой свекор маркиз де Лозарг действительно как-то говорил, что вы, кажется, были старым другом отца, однако я совсем не помню вас.
Тон граничил с дерзостью, но Сан-Северо только улыбнулся.
– Как может девушка, воспитывавшаяся в монастыре, знать всех, с кем общается могущественный банкир? Ваши родители, графиня, были окружены множеством друзей. Иные были им ближе, иные дальше. Наши отношения в основном оставались деловыми. Однако позвольте узнать… чему обязан столь нежданному приезду?
– Поверьте, принц, ваше присутствие здесь для меня тоже неожиданность. Я и не знала, что в особняке родителей появился новый хозяин.
– Не хозяин, а просто жилец. Для пользы дела в банке, где я председательствую в административном совете, нужно, чтобы и жилье мое было поблизости. Так по крайней мере считает премьер-министр господин Полиньяк, а также… Его Величество король Карл X. Добавлю, что маркиз де Лозарг полностью в курсе дела.
– Мне он ничего об этом не говорил… И вообще складывается такое впечатление, что меня нарочно держат вдали от всего, чем ведал отец…
– Быть может, потому, что вы хорошенькая женщина? Простите, что до сих пор не предложил вам сесть, однако не стану скрывать, ваш вид меня просто потряс. Вы поразительно похожи на вашу матушку. Я был не более чем преданным поклонником ее красоты, но, надеюсь, она со своей стороны видела во мне друга.
Он подвинул ей кресло, но сесть она отказалась.
– Благодарю. Раз я здесь не дома, то нет смысла и задерживаться.
– Не говорите так! Дом по-прежнему ваш, уверяю, и если бы вам было угодно предупредить меня заранее о своем приезде…
– Как я могла бы это сделать, если даже не подозревала о вашем присутствии здесь? К тому же и время для беседы выбрано неудачно. У вас, кажется, сегодня вечером прием?
– Просто несколько друзей к ужину, потом еще кто-то подъедет, но вас это ни в чем не стеснит. Вам, наверное, необходимо отдохнуть с дороги, я сейчас распоряжусь, чтобы приготовили самые дальние покои. Слава богу, дом достаточно просторный…
– Прошу вас, принц, – оборвала его Гортензия, – вы меня неправильно поняли. Я собиралась пожить у себя дома, но у вас не останусь ни за что. Вы заняли дом, пускай! Остается Берни, и если вы поможете мне туда добраться, считайте свой рыцарский долг по отношению к одинокой путешественнице выполненным с лихвой.
– Вы хотите… на ночь глядя ехать в Берни?
– Это не так далеко. Надеюсь, вы поймете, что мне лучше побыть одной.
Сан-Северо нервно закусил губу и, сцепив руки за спиной, медленно прошелся по большому цветастому ковру. Казалось, он был чем-то весьма смущен.
– Сударыня, – наконец вымолвил он, – по-видимому, вам действительно ничего не известно об имуществе вашего отца. Признаться, я удивлен, что господин маркиз де Лозарг держит вас в полном неведении. Разве что… вы с ним очень давно не виделись?
– Не такой уж большой срок – три недели, – ответила Гортензия, охваченная тяжелым предчувствием. Ей с трудом удавалось побороть дрожь в голосе.
– Конечно, нет. Тем больше мое удивление. Сделка состоялась вот уже полгода назад, и с полного согласия вашего свекра, действовавшего от вашего имени.
На этот раз она не удержалась и прямо-таки выкрикнула:
– Какая сделка?
– Но ведь… купчая на Берни… Боже мой, вы хоть в обморок-то не упадите…
Удар и в самом деле был настолько силен, что ноги у Гортензии подкосились. В отчаянии она ухватилась за кресло, чтобы не упасть, к глазам подступили слезы. Милый, родной Берни… продан! Чудесный белый дом у пруда. Замок детства, погожих летних дней… А оранжереи, их ведь некогда построили для матери Гортензии! Берни и его живые воды!
Взгляд ее вдруг упал на сиреневый хрустальный рог, она протянула к нему дрожащую руку.
– Если Берни продан, тогда откуда эти розы? Это редкий сорт, отец вывез его из Персии, а садовники долго выращивали, чтобы доставить удовольствие моей матери.
В голосе зазвенел гнев, прогоняя боль. Зато ответ принца прозвучал приторно, словно строки любовной поэмы.
– Зная, как я их обожаю, новый владелец – вернее, владелица, ведь речь идет о даме – иногда посылает мне их. Дорогая графиня! Искренне сочувствую вашему горю, но вы должны понять: Берни – это поистине королевские владения. Чтобы их содержать, требуется целое состояние.
– Значит, состояния больше нет? Пока был жив отец, содержать свои поместья для него не составляло большого труда.
– Я знаю, знаю… но многое изменилось с тех пор. Банк, конечно, все еще процветает, но политика очень повредила делам. У нас был большой военный долг после поражения…
– О чем вы говорите? Ведь мне известно, что отец еще при жизни выплатил большую его часть по договору с банком Лафит и с несколькими другими банками.
– Но ведь что-то и осталось. Кроме того, потом у нас был миллиард эмигрантов, война с Испанией и, наконец, после известного несчастья, потеря доверия вкладчиков. Сохранить Берни было бы безумством, банк Гранье такого бы не выдержал. Уверяю вас, содержание подобного поместья стоит целого состояния… а леди Линтон весьма богата.
– Леди Линтон? Вы продали дом моего отца англичанке? Да наяву ли это?
– Мы продали тому, кто готов был заплатить, сударыня! Англичане больше нам не враги, скорее наоборот. Сближение происходит во всех сферах, и даже осмелюсь утверждать, что сейчас во Франции английское исключительно в моде. Что до леди Элизабет… она любезнейшая и гостеприимнейшая из женщин. В конце концов, возможно, ваше намерение вернуться в Берни не так уж и неуместно. Уверен, она примет вас с радостью…
– Прошу вас, сударь, прекратите! Во всяком случае, прежде чем уехать, я хотела бы узнать кое о чем…
– Буду рад удовлетворить ваше любопытство.
– Вы мне сказали, что господин де Лозарг был поставлен в известность об этой… сделке?
– Даю вам честное слово. Впрочем, маркиз получил для вас и для вашего сына сумму, соответствующую половине продажной стоимости, а остальное хранится в банке и впоследствии, конечно, будет положено на счет вашего сына.
Уже не в силах справиться с раздражением, Гортензия, вставая, отшвырнула кресло.
– Но в конце концов, сударь, деньги принадлежат мне, и я просто поражена, что никто в банке даже не подумал об этом вспомнить. Я слишком хорошо знаю отца, чтобы предположить, что он не сделал необходимых распоряжений, обеспечивающих мою финансовую независимость. Почему не выполнили его волю?
– Насколько мне известно, все распоряжения были скрупулезно выполнены. До вашего замужества банк переводил вам пенсию на счет маркиза де Лозарга. Затем ваше приданое, сто тысяч ливров, то есть дивиденды, не считая части от продажи Берни, также регулярно переводились…
– Господину де Лозаргу? А почему не мне? Ведь я вдова, сударь.
– Я знаю, и все мы глубоко сочувствуем горю, которое вас постигло, но…
– Да я не прошу у вас сочувствия! Я хочу только вступить во владение тем, что мне принадлежит и на что маркиз де Лозарг не имеет никаких прав. Я, конечно, молода, но дееспособна и в своем уме, и нигде в кодексе Наполеона не сказано, что женщина, а тем более мать, может быть лишена своего имущества в пользу третьих лиц. Завтра я поеду в банк.
– Успокойтесь, умоляю, успокойтесь! В этом доме полно людей. Вас могут услышать…
– Это мне как раз безразлично. Пусть слышат! Они и так еще услышат обо мне!
– Но что вы собираетесь сделать?
Она с усталой улыбкой обернулась к нему:
– Прежде всего немного отдохнуть. Мне это просто необходимо.
– Ну конечно же, я ведь говорил… Прошу вас, позвольте предложить вам свое гостеприимство, по-дружески…
– Благодарю, но принять ваше предложение не смогу.
– Но почему? В конце концов, это же ваш дом!
– Вот именно «в конце концов». А кстати, вы женаты, принц?
– Увы, нет. Моя супруга вот уже почти пятнадцать лет назад покинула сей мир, и как-то сердце не лежало искать ей замену.
– Похвальные чувства, однако в таком случае вы поймете, что мне не пристало оставаться под одной крышей с одиноким мужчиной. В моем положении нужно заботиться о репутации.
– Вы считаете, что отправиться в гостиницу для вашей репутации будет лучше? – поинтересовался Сан-Северо, оскорбленный преподанным ему уроком добродетели.
– В гостиницу я тоже не поеду. Если вы будете так любезны нанять мне экипаж, я отправлюсь туда, где воспитывалась, в обитель Сердца Иисусова. Уверена, что настоятельница, мать Мадлен-Софи Бара, даст мне приют. Увидимся завтра в банке, я заеду днем.
– Ни к чему спешить. Отдохните как следует.
– Сударь, у меня не хватит средств на долгий отдых. Я намерена потребовать у кассиров отца хотя бы часть того, что мне причитается.
– Ах, дело только в этом? Тогда не беспокойтесь. Завтра же распоряжусь, чтобы вам отнесли на улицу Варенн… это ведь на улице Варенн?.. некоторую сумму на первые расходы. А затем мы вместе с вами посмотрим, как лучше обеспечить вас, не затрагивая ничьих интересов.
– А теперь, пожалуйста, вызовите мне карету.
– Ну что вы! Я скажу, чтобы запрягали. Вы отказались от крова, но хоть каретой-то, надеюсь, воспользуетесь?
Не дожидаясь ответа, Сан-Северо бросился к двери, распахнув ее с такой поспешностью, что Гортензия даже задумалась: желает ли он побыстрее вернуться к гостям или спешит от нее избавиться? Принц исчез прежде, чем она успела заметить ему, что здесь достаточно просто позвонить и незачем бежать на конюшню самому. Во времена Анри Гранье на любой звонок откликались по крайней мере два лакея, что бы ни случилось. Но, может быть, принцу просто надо было размять ноги, а заодно и потренировать слух своих людей? Гортензия чувствовала себя такой усталой, что все это на самом деле было ей безразлично. Единственное, что ей было нужно, это присутствие друга, а кто лучше ободрит, утешит, обласкает, чем мать Мадлен-Софи? А потом… в постель!
Принц появился мгновение спустя.
– Экипаж сейчас будет готов, – заявил он, потирая руки жестом, явно не свойственным знатному вельможе и потому шокировавшим Гортензию. – Завтра я сам заеду справиться о вас и привезу то, что обещал.
– Только поймите меня правильно! – холодно возразила Гортензия. – Я не милостыню прошу, а добиваюсь получить то, что мне положено по праву рождения. В мои намерения не входит всю жизнь провести в монастыре. Раз этот дом занят, мне придется искать для себя и сына подходящее жилище. Или, может быть, ваш договор о найме подходит к концу? Это было бы предпочтительней всего.
Смуглое лицо принца приобрело легкий кирпичный оттенок.
– Разве вы не собираетесь возвращаться в Овернь?
Вопрос этот явно заботил его больше всего, и Гортензия, пораженная столь грубой откровенностью, чуть не рассмеялась ему в лицо.
– Пока нет.
В этот момент лакей доложил, что карета подана, и это прервало беседу. Принц церемонно проводил свою гостью до парадного крыльца. На смену ариетте Моцарта теперь пришла песнь Шуберта, слышались голоса и звяканье бокалов. Взглянув в высокое окно в вестибюле, Гортензия увидела сразу два экипажа. В один из них слуга ставил ее багаж, а из другого, роскошного черно-желтого лакированного ландо, лакей с тысячью предосторожностей помогал выйти даме в богатом вечернем туалете.
– О, господи! Наконец-то она! – воскликнул принц. – Простите, графиня, я на минуту покину вас.
Он устремился навстречу вновь прибывшей, приветствуя ее и рассыпаясь в любезностях. Но дама того стоила. Гортензия залюбовалась широким пурпурным шелковым плащом, надетым поверх светло-серого платья. Замысловатая двухцветная шляпа роскошно сидела на черных блестящих волосах дамы, со смехом отвечающей на слишком восторженные комплименты хозяина. И не подумав извиниться за опоздание, она заявила, что задержалась в зоопарке, наблюдая, как ужинает жираф.
– Жираф! – вскричал Сан-Северо, силясь найти это забавным. – Когда же, дорогая, обожаемая графиня, вы перестанете мучить меня, своего раба?
– Когда перестанете меня приглашать. Что поделаешь, мой милый, к вам идешь, только когда ничего лучшего не остается.
Она смеялась, но Гортензия, сначала из деликатности отступившая в тень огромной античной вазы с черными ирисами и белыми лилиями, уже узнала этот голос, смех, это лицо… И, покинув свое напоенное ароматами цветов убежище, она шагнула на свет. Смех дамы резко оборвался, глаза ее округлились.
– Я не сплю? Гортензия? Здесь?
– Ну да, Фелисия, это я. А судя по всему, вы – это вы.
С одинаковым юным пылом обе бросились друг к другу в объятия под ошеломленным взором хозяина. Алое, словно кардинальская мантия, одеяние прильнуло к скромному плащу из черного сукна, и Гортензия почувствовала, как тает ее сердце вблизи давно разыскиваемой подруги. Она нашла Фелисию! Княжну Фелисию Орсини! Много лет они были врагами, а потом, в час печали, Фелисия оказалась ее самой ярой защитницей! Сколько раз, страдая от одиночества в Лозарге, Гортензия с тоской вспоминала непримиримый характер и гордую поступь южанки! А теперь, словно по мановению волшебной палочки, они встретились вновь! Гортензии даже почудилось, что в цепи ее бесконечных несчастий мелькнул, наконец, лучик надежды.
Фелисия первой перевела дух:
– Что вы здесь делаете? Я думала, вы в Оверни.
– Я только что приехала и собиралась поселиться здесь, в доме родителей. Я не знала, что им уже распорядились.
– А теперь, конечно, уезжаете? И куда?
– Хотела просить приюта у нас в монастыре.
– Я предлагал остановиться у меня… – вмешался Сан-Северо, чувствуя, что о его присутствии просто позабыли. Но вышло совсем некстати: Фелисия буквально испепелила его взглядом.
– У вас? Где нет даже женщины, что могла бы прислуживать ей? Да вы просто разума лишились, мой бедный Фернандо! Где вы воспитывались? У неаполитанских лаццарони?[1]
– Но что же вы мне прикажете делать?
– Правила галантности требуют, чтобы вы немедленно вернули госпоже… кстати, Гортензия, какая у вас теперь фамилия?
– Лозарг. Я вышла замуж за своего кузена Этьена и потеряла его почти сразу же после свадьбы. Я вдова, Фелисия!
– Правда? Как и я, – задумчиво протянула подруга. – Однако вернемся к нашему разговору. Итак, по-моему, с вашей стороны было бы очень красиво предоставить дом госпоже де Лозарг, а самому отправиться ночевать в гостиницу!
– Бог с вами, графиня! Разве вы забыли, что у меня полон дом приглашенных? И вообще нам с вами пора идти к гостям. Сейчас посажу госпожу де Лозарг в экипаж и…
– Нам с вами пора? Говорите только о себе, мой милый! Я наконец нашла свою подругу Гортензию и никуда ее не отпущу. И поскольку вы оказались не в состоянии предложить ей достойное пристанище, я увожу ее с собой! Велите подать обратно мой экипаж!
Гортензии вдруг показалось, что Сан-Северо сейчас заплачет.
– Но не уедете же вы сразу, как только приехали, ведь все вас ждут!
– Кто? Ваши любезные друзья из ведомства Полиньяка? Монбель, Герон-Ранвиль, Ла Бурдонне? Эти ничтожества? Мой дорогой Фернандо, вы должны только радоваться, что я уезжаю, ведь вам прекрасно известно, что я встречаюсь с ними лишь ради удовольствия наговорить им дерзостей! Хоть один вечер спокойно проведете!
– Но я так люблю, когда вы бываете у меня, Фелисия, дорогая…
– И напрасно!
– Это такое блаженство и так редко случается…
– Я просто оказываю вам услугу! Вы отлично знаете, что я как была, так и осталась бонапартисткой! Идемте, Гортензия, вам нужно отдохнуть!
– А как же наш вист?
– Благодарите небо, что я вас сегодня не обыграю!
В сопровождении принца, все более напоминавшего расквохтавшуюся курицу, обе дамы приблизились к карете. Но перед тем как усесться, Фелисия окинула суровым взором приготовленный для Гортензии экипаж.
– Ваш ли это экипаж, Фернандо? А где же тогда ваш кучер, где ваши гербы? Мне казалось, вы могли бы оказать больше чести госпоже де Лозарг.
– От вас ничего не укроется, дорогая графиня, – вздохнул Сан-Северо. – Если уж вам угодно все знать, мой Луиджи заболел. А экипаж этот совсем новый, к нему еще не успели прибить гербы. Целую руки, сударыни.
Он помог обеим дамам подняться в экипаж и отступил на шаг. Из окошка показалась головка Гортензии:
– Так не забудьте же свое обещание, принц. Я хотела бы как можно раньше все получить.
Он поклонился.
– Завтра же сам принесу на улицу Бабилон к графине Морозини.
– Не знаю, о чем речь, но сделайте обязательно! – крикнула Фелисия, пока экипаж отъезжал от дома. – Ох! – вздохнула она, откинувшись на обитое белым шелком сиденье, и лицо ее на белом фоне сразу стало похоже на камею. – Слава богу, я получила сегодня двойное удовольствие: встретила вас и избавилась от скучной компании.
– Зачем же туда ходить?
– Потому что, моя милая, я обожаю игру, люблю все карточные игры, а у Сан-Северо, случается, играют дьявольски рискованно.
– Вы хотите сказать, – возмутилась Гортензия, – что он превратил мой дом в притон?
– Ну, это, пожалуй, слишком сильно сказано. Там играют в своей компании, среди порядочных людей… во всяком случае, чаще всего. Лучше расскажите мне о себе. Что вы делали с тех пор, как мы виделись в последний раз?
– Это долгая и темная история, когда-нибудь я вам все расскажу. А разве в пансион после вашего возвращения не дошли об этом слухи?
– К несчастью, я так туда и не вернулась. Помните, мне срочно пришлось уехать под неясным предлогом?
– Да, действительно, припоминаю, вам срочно надо было ехать к кузине в Париж, к графине Орландо, но я считала, что ваш внезапный отъезд мог быть связан и с тем странным происшествием в день похорон моих родителей. Там был замешан один молодой человек, и мне показалось, вы его знали.
– У меня все основания полагать, что это был мой брат, Джанфранко Орсини. Если хотите, потом я подробно все вам расскажу. Знайте только, что, приехав к графине Орландо, я застала ее за письмом к матери Мадлен-Софи с просьбой о моем скорейшем возвращении.
– Это было совпадение?
– Конечно. Так случается. Но в этом случае совпадение для меня крайне неблагоприятное: отец требовал, чтобы я ехала в Рим. И едва я переступила порог, как меня посадили обратно в карету и повезли в направлении отцовского палаццо. Я так и не успела справиться о брате, хотя, наверное, к тому времени он уже был в тюрьме.
– Но к чему столь скорый отъезд? У вас в семье случилось несчастье?