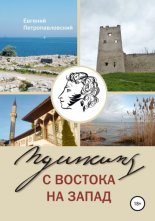Природа зла. Сырье и государство Эткинд Александр
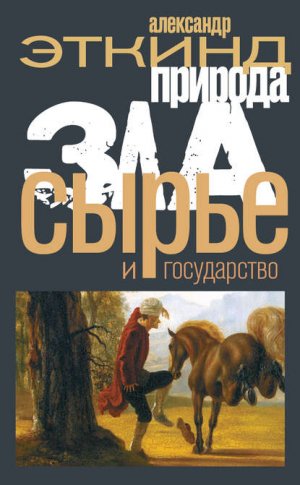
Тесть Колумба был сахарным плантатором с Мадейры; в свое второе путешествие Колумб привез тростник на остров Сан-Доминго – нынешнее Гаити. Сначала работать на плантациях заставляли местных индейцев, но те быстро вымерли, и с 1509 года начались закупки африканских рабов. Мастера с Канарских островов поставили на Сан-Доминго и Кубе водяные мельницы. Португальцы сеяли тростник в Бразилии, там на время сосредоточилось основное производство сахара для Европы. Скоро каравеллы повезли сахар через Атлантику. Обратно они везли все, что нужно было для добычи сахара, – рабов из Африки и ножи, котлы, холсты, веревки, бичи из Европы. Так, с испанских сахарных плантаций, на островах Карибского моря опять возникла треугольная схема торговли: Африка поставляла рабский труд, Америка землю, а Европа потребляла сахар, расплачиваясь готовыми товарами.
Центром вторичной переработки (рафинирования) сахара стал Антверпен, потом главная активность этой «сладкой коммерции» переместилась в Бристоль и Бордо. По мере того как истощались шахты, манившие конкистадоров, сахар стал главным источником колониальных богатств. Вырубая лес и завозя рабов, плантаторы заняли огромные территории Южной Америки, от Мексики до Парагвая. Вместе с сахаром развивался интерес к другим видам колониального сырья, которой плантации могли производить на вывоз: индиго, табак, хлопок, какао. Как и сахар, все это были предметы роскоши, которые раньше не были известны в Европе. Они воспринимались как символы современности, прогресса, богатой городской жизни, приходившей на смену феодализму и местничеству. Для обеспечения прогресса требовались многие тысячи черных рабов. Прогресс зависел от массового применения насилия, от неравенства и страданий множества невинных людей – от политического зла.
Поворотным пунктом в этой истории была колонизация Барбадоса, маленького острова Антильского архипелага, примерно в пять раз меньше современного Люксембурга. Присоединенный в 1627 году, он был заселен сначала ссыльными ирландцами и сефардами, потом черными рабами. Состояния тут создавались в течение жизни одного поколения; в 1666 году плантации острова стоили в семнадцать раз больше, чем в 1643-м. Экономический рост достигался подчинением всего хозяйства монокультуре сахара: сначала на острове были плантации табака, индиго и овощей, потом остался один сахар. Весь остров работал как ферма, поставлявшая сахар Англии в обмен на готовые товары, которые перевозились английскими кораблями. За Барбадосом последовали гораздо большая Ямайка и несколько других британских островов. Не желая отставать, Франция развивала сахарное хозяйство на Сан-Доминго, Мартинике и Гваделупе.
Производство колониального сырья в Америке зависело от его потребления в Европе, а также от доступности рабочей силы в Африке. Цены на сырье в Европе должны были окупать расходы по торговле. К началу XVII века импорт сахара уже намного превосходил импорт табака, и разница будет все увеличиваться. Причиной были не факторы предложения, но спрос: на сахар он рос еще быстрее, чем на табак. Поспевал и транспорт; в Англии верили, что коммерческий флот – школа для военных моряков, и в случае опасности перевозка колониальных товаров сопровождалась бесплатным конвоем. Первый английский корабль с грузом сахара благополучно приплыл из Марокко в 1551 году. Уже в 1675-м между Антильскими и Британскими островами плавали четыреста кораблей, в среднем со 150 тоннами сахара в трюмах. В это время импорт сахара в Англию превышал суммарный импорт всех остальных колониальных товаров. Правительство поощряло потребление сахара и его производных. В 1731 году матросы и офицеры Британского военного флота получали ежедневный рацион рома – полпинты в день; к концу века эта норма удвоилась. К 1750 году самые бедные работницы сельской Англии пили чай с сахаром. В 1775-м средний англичанин потреблял в десять раз больше сахара, чем средний француз. Даже в английских богадельнях старики и старухи получали по 23 фунта сахара в год на человека. Из редкого продукта восточной роскоши сахар превращался в объект массового потребления – лакомство пролетариата. Джон Стюарт Милль потом рассуждал, что торговля с Вест-Индией похожа не столько на внешнюю торговлю с иностранным государством, сколько на обмен между городом и деревней.
Множество видов производств, основанных на инновациях и труде, создавали и создают товары из равновесных видов сырья. Но богатство этого мира строилось и строится на наркотических видах сырья. Капитал является превращенной формой наркотических ресурсов; тем более неудачными оказываются попытки изучать его вечно растущий оборот с помощью равновесных моделей. Вместе с табаком сахар – один из первых наркотических ресурсов и самый массовый из них. Ничто так не приучило современного человека к бесконечному потреблению, как сахар и наркотики, из него производимые; по темпам роста и характеру привыкания с ними сравнится только нефть. Давая телу множество легкоусвояемых калорий, сахар и его производные – джем, ром, пирожные, цукаты и т. д. – притупляют чувство голода, замещая белковую пищу. Огромные количества сахара, импортируемого из колоний в Атлантике и прочно вошедшего в европейскую диету, создавали «призрачные акры», которые добавлялись к ограниченным землям Старого Света. Прибыли с этого сахара, а также табака, чая, какао, кофе и опиума стимулировали работорговлю, колониальные захваты и войны. Но эти же аддиктивные снадобья поощряли выход деревенских домохозяйств из «идиотизма сельской жизни», формируя узнаваемые черты современности – дисциплину времени, разделение труда, массовое потребление, бегство из села в город. Зерно создало крестьянина, текстиль создал пролетария. Буржуа был сотворен чаем с сахаром.
Век сахара был временем расцвета Вест-Индии – островных архипелагов Карибского моря, которые стали центром соперничества европейских империй. Главное значение имели британские Ямайка и Барбадос, французское Сан-Доминго и испанская Куба. Небольшие по размерам, эти острова стали глобальными центрами, где создавался капитал. К концу XVII века вся английская торговля давала годовой доход в два миллиона фунтов стерлингов, и около половины составляла торговля с Вест-Индией. Прошло столетие, и Уильям Питт оценивал годовой доход плантаций Вест-Индии в четыре миллиона, а доход со всех остальных колоний Англии – в один миллион. Далби Томас, который был губернатором Ямайки в начале XVIII века, считал, что каждый работник, белый или черный, на сахарных островах Вест-Индии производит столько стоимости, сколько 130 работников на Британских островах. До американской революции Вест-Индия обеспечивала 20 % британского импорта и получала 6 % экспорта; огромные колонии континентальной Америки давали Англии вдвое меньше импорта. До наполеоновских войн доходы с этих крошечных островов намного превышали доходы с индийского субконтинента, который к тому же требовал гораздо больших расходов. Как писал Адам Смит, «доходы с сахарных плантаций в любой из наших колоний Вест-Индии намного выше, чем доходы любого из промыслов, которые я знаю в Европе или Америке». В течение столетия на одну Ямайку было завезено более полумиллиона рабов.
Плантаторы Вест-Индии богатели в течение одного поколения; вернувшись в Англию, их дети становились членами парламента, министрами, мэрами. Островные плантации были большими, до 500 рабов на каждой, и они были устроены совсем не так, как привычные фермы. В своей блестящей книге «Сладость и власть» американский антрополог Сидней Минц доказывал, что сахарная плантация была колониальной факторией: поле и фабрика соединялись в одном хозяйстве. На каждой плантации было несколько специализированных отделов, и продукт передавался из одного в другой как на конвейере. Собранные стебли размалывались на мельнице, которая приводилась в действие водой или лошадьми; сок вываривался в котельной; патока остывала в сушильной, потом ее дистиллировали для получения рома; сахарные головы ждали отправки на складских помещениях. На полях работали сотни рабов, на переработке трудились минимум 25 человек, белых и черных; но их оборудование стоило тысячи фунтов, а работа требовала опыта и знаний. Разделение труда между ними было, хотя многие работники этой примитивной индустрии были взаимозаменяемы. Но, как и на фабрике, производство было отделено от потребления, работник не владел своими орудиями, и труд подчинялся дисциплине рабочих ритмов. Часы были редким предметом роскоши, если они и были в доме плантатора, их наверняка не было на мельнице. Рабочий график определялся природой – подверженностью урожая быстрой порче и зависимостью всех этапов переработки от погодных условий.
Для сахара оказался критически важен эффект масштаба; переход от зерна или табака к сахару сопровождался укрупнением плантаций и разорением фермеров. Малые плантации были нерентабельными; быстрая переработка требовала держать нужное число работников. Производство не подлежало специализации, как это происходило с зерновыми, где полями владел фермер, а мельницей – мельник. При передаче по наследству плантации тоже не делились. Эффект масштаба был важен и в производстве хлопка, на которое потом перешли многие сахарные плантации. Природные особенности сырья определяли не только механику и химию его первичной переработки, но и особенности институтов землевладения. Европа верила, что она развивала колониальный мир по своему образцу, распространяя, к примеру, фермерские умения в Новом Свете и в Индии. На самом деле колонии с их коммерческими факториями и рабским – очищенным от традиции и подчиненным инструментальной рациональности – трудом были «лабораториями модерна», откуда новые способы организации жизни переносились в Старый Свет.
Индустриальный этап отсутствовал в первичной переработке табака, где все операции имели обычный аграрный характер: сбор, очистка, сушка, упаковка. Пока табак возделывался мелкими фермерскими хозяйствами в Вест-Индии, там трудились не рабы, а наемные работники. Потом табак был завезен в Вирджинию; спрос рос, и в течение XVIII века популяция рабов, трудившихся на табачных плантациях континентальной Америки, увеличилась вдесятеро. Считалось, что табак требует больше заботы и умения, чем сахар. Разные партии табака имели разные названия, как разные партии вина; поставщики различались качеством табака, и от него зависела цена партии; небольшие фермы, производившие табак, успешно выживали. Наоборот, в поставках сахара разные партии смешивались. В 1750-х цены на табак рухнули, и владельцы ферм стали разоряться. Томас Джефферсон обвинял англичан в том, что они создали ему долговую ловушку, кредитуя его плантацию в Вирджинии, а потом обрушили цены. Кофе стали возделывать голландцы, завезя саженцы из Персии на Яву. В течение первой половины XVIII века европейский импорт кофе достиг сказочной величины в 66 миллионов фунтов. Чай известен в Западной Европе с начала XVII века, но его употребляли как лекарство, и рынок был небольшим. В XVIII веке чай стали пить с сахаром, и эта комбинация была, возможно, самым большим маркетинговым успехом в истории. Голландцы начали привозить чай из Индии; но настоящего размаха эта торговля достигла в 1720-x, когда европейцы сумели открыть для торговли китайский Кантон. Здесь конкурировали обе компании Восточной Индии, английская и голландская, а также французы, шведы и датчане. Цены на чай рухнули больше чем вдесятеро, но импорт все равно продолжался. За XVIII век душевое потребление чая в Англии увеличилось в 400 раз.
В островной Англии товарные потоки сахара с Западной Атлантики встречались с товарными потоками чая с Тихого океана. С подлинно имперской элегантностью встреча эта состоялась как раз на середине дальнего пути, в миллионах чашек, подававшихся британскими леди на ежедневный ритуал high tea – в такой же степени далекой имитации японской чайной церемонии, в какой сами чашки были имитациями китайского фарфора. Но чай и сахар были настоящими, так же как табак и портвейн, участвовавшие в мужской части церемонии, и хлопковые скатерти. И все же между всеми ними и чаем была важная разница: кроме чая, остальные товары дальней торговли доставлялись из британских колоний, и только за чай, который английские купцы покупали в независимом Китае, приходилось платить серебром. Пройдет столетие, и накопившийся дефицит породит неслыханные события: далекую страну будут военной силой принуждать к наркотической зависимости, лишь бы она в обмен на чай покупала британское сырье – индийский опиум.
Век Просвещения гармонически сочетался с комплексом экзотических, но быстро дешевевших снадобий, которые повышали социабельность, насыщали желудок, создавали зависимость, порождали прибыль и при всем этом не преследовались со стороны церкви. То было начало массовой культуры потребления. В Англии опиум оставался уделом немногих либертинов; чай с сахаром, щепотка табака, чашка шоколада становились доступны всем. Центром этого аддиктивного комплекса был сахар. Сейчас это трудно себе представить, но в ту сладкую эпоху назначение Америки виделось в снабжении Вест-Индии. Там, где черные рабы производили белый сахар, ничего другого не должно было расти: на островах не оставалось земли, чтобы обеспечивать их продовольствием. В 1770-м континентальные колонии поставляли на сахарные острова всю соленую рыбу, почти весь овес, зерно и муку, доски и подковы, лошадей и овец. Сахарные плантаторы платили американским фермерам, рыбакам и кузнецам своими продуктами – сахаром, ромом и патокой. В это время на островах Вест-Индии было больше кораблей, чем в американских штатах. Производя неслыханные капиталы на крошечных территориях, сахарные острова Вест-Индии финансировали развитие американских колоний, английских мануфактур и самого Британского флота. Ради сахара терпели рабство, на нем отрабатывали принципы меркантилизма, и когда Бентам объяснял, что товары собственных колоний в материнской стране ничуть не дешевле, чем если бы они подлежали свободной торговле, главным примером был сахар. Жемчужина британской короны, Вест-Индия служила образцом для других колоний. Томас Далби прямо советовал колониям американского Юга следовать примеру Вест-Индии, а не Новой Англии; для этого им надо было производить больше сахара и завозить больше рабов. Однако в континентальных колониях тростник не приживался; даже в Луизиане зимы были для него слишком холодными. На континенте институт рабовладения понадобился табачным и хлопковым плантациям, которые во многом строились по образцу сахарных. Источником рабства – зла огромных масштабов – были малые клочки земли в Карибском море, на которых особенные сочетания почвы, воды и солнца были благоприятны для сахарного тростника.
Благодаря импорту сахара росли портовые города: центрами разгрузки были Бристоль, Ливерпуль и Глазго, и здесь же строились фабрики, занимавшиеся рафинированием сахара. С 1634-го по 1785-й таможенные сборы с этого импорта увеличились в 33 раза. В Бристоле, который стал вторым городом страны, не было лавочника, который не имел бы доли в кораблях, плавающих на Антильские острова или в Вирджинию. Любовь к сахару начиналась с королевы. Нанеся визит Елизавете Английской, немецкий путешественник XVI века писал о ее обаянии, блеске глаз и плохих зубах: «Этот дефект свойствен всем англичанам, они едят слишком много сахара». Даже испанцы, которые узнали сахар раньше англичан, удивлялись тому, что последние добавляли его всюду, даже в вино и мясо.
Живя в огромных виллах, имитирующих древнеримские образцы, плантаторы Вест-Индии стремились под конец жизни вернуться в Англию, покупая дома в Лондоне или поместья у старой аристократии. Многие усадьбы Англии и Шотландии, с их классическими портиками, парадными лестницами и бальными залами, были построены владельцами сахарных плантаций. Плантаторы считались самыми богатыми из нуворишей; не любивший их всех, Адам Смит специально указывал, что сахар дает своим владельцам большие богатства, чем даже табак. Частные школы Итона и Харроу были полны детьми из Вест-Индии: на рубеже XVIII века острова посылали учиться в Англию триста детей в год. Потом эти дети – потомки пиратов или ссыльных – женились на герцогинях. Толпа знала, кому принадлежали самые роскошные кареты Лондона: плантаторам из Вест-Индии. Встретив такую карету, которая была роскошнее его выезда, король Георг III сказал своему секретарю казначейства: «Сахар, весь этот сахар… А где же пошлины, Питт, где пошлины?» В британском парламенте возникло понятие, объяснявшее самые нелепые его решения: «вест-индский интерес».
Богатые сахарозаводчики часто правили своими плантациями in absentia, живя в Англии и назначая приказчиков, которых контролировали по переписке. Одним из таких счастливцев был Уильям Бекфорд, его считали самым богатым подданным британской короны. Внук губернатора Ямайки и самый крупный землевладелец сахарных островов, Бекфорд был многолетним мэром Лондона. Другим был Джон Гладстон, шотландский купец и член британского парламента. Базируясь в Ливерпуле, его компания торговала сахаром и рабами с Вест-Индией, пенькой с Россией, хлопком с Индией и зерном с американскими колониями. На прибыли он приобрел несколько плантаций Ямайки, но продолжал жить в Ливерпуле. Потом он вернулся в Шотландию, купив огромное поместье. В 1833 году, когда после освобождения рабов правительство платило компенсации плантаторам, он получил рекордную компенсацию. Его сын стал премьер-министром Англии. Применяя сюда сказанные по другому поводу слова Монтескье, то была воистину «сладкая коммерция».
Именно сахарная торговля породила политику и практику британского меркантилизма. В соответствии с Навигационными актами, осуществлявшими эти принципы, все перевозилось только на британских судах; колонии могли торговать сырьем друг с другом, но из готовых товаров покупать только те, что были созданы в Англии. В колониях подавлялось развитие любых видов промышленности, кроме первичной обработки сырья; и вывоз сырья из колоний разрешался только в Англию, потом уже оттуда мог производиться реэкспорт. Меркантилистский режим был масштабным нововведением: он обеспечивал поставки сахара в метрополию, гарантировал рынки сбыта готовых товаров в колониях, создавал прибыли для купцов-перевозчиков и поддерживал развитие флота. Впервые проводя резкое различие между товарами и сырьем, меркантилистский режим связывал эти экономические категории с политическим различием между метрополией и колонией. Этот режим действовал в отношении всех английских и позднее британских владений – обеих Индий, обеих Америк, а также Шотландии и Ирландии вплоть до заключения союза в 1707 году (а на деле часто и позже). Голландия и Франция тоже практиковали меркантилистские режимы, но не делали это с такой жесткостью.
Накануне Семилетней войны в британском парламенте всегда было 50–60 голосов, представлявших «вест-индский интерес»; они исправно поддерживали меркантилистские законы и сахарную монополию. Уильям Питт – старший, лидер вигов и глава правительства, честно сражался за привилегии Вест-Индии. Он находился под влиянием и, как говорили недоброжелатели, на содержании у Уильяма Бекфорда, самого крупного землевладельца сахарных островов. Между тем французские колонии, такие как Сан-Доминго и Гваделупа, производили сахар меньшим числом рабов. Причины тому были многообразны. Земля французских островов была менее истощена, потому что сахарные плантации были разбиты на них позже. Французская система рабовладения, основанная на Code noire, была гуманнее и эффективнее английской. Французские плантаторы не были защищены групповой монополией, им приходилось конкурировать между собой, снижать цены и думать о продуктивности. Стоя вполовину дешевле английского, французский сахар завоевывал европейские рынки; на Британских островах, однако, продавались только товары английских колоний. Все это стало одной из причин Семилетней войны, которая закончилась победой Англии; но ее итоги были парадоксальны. Заняв французскую Гваделупу и испанскую Кубу, англичане вскоре вернули эти сахарные острова, предпочтя им французскую Канаду и испанскую Флориду. Британские дипломаты выполняли желания сахарного лобби, целью которого было сохранение монопольных цен на сахар. В истории сырьевых экономик такая ситуация повторялась снова и снова: главным для поставщиков сырья является не повышение производительности и даже не увеличение продаж, но сохранение цен, а для этого нужно заморозить рынок.
Но цены на сахар все равно падали; причиной тому была конкуренция с Бразилией и рекордный рост плантаций на Ямайке. За первые 50 лет работы плантаций на Барбадосе цены снизились вдвое и потом продолжали снижаться примерно такими же темпами. Плантаторы были первыми, кому пришлось усвоить важный урок капитализма: предметы роскоши дают прибыль, но сверхприбыль дает только массовое потребление. Из роскоши сахар становился предметом обихода. Его использовали в джемах и чае, без него не было десерта и пудинга. Потребление сахара на душу населения в Англии росло быстрее, чем потребление хлеба или мяса. В XVIII веке потребление выросло с 4 до 18 унций на человека; в 1854-м слугам выделяли по 50 унций в год; в 1901-м душевое потребление сахара в Англии составляло уже 90 унций. Миллионы людей работали теперь на фабриках, и чай с сахаром заместил для них привычные, но во многих местах запретные джин и пиво. В бедных семьях люди получали пятую часть своих энергетических калорий из сахара.
Рост потребления вел к еще большему росту производства: так бывает только с аддиктивным сырьем. Как от алкоголя, от сахара не наступает пресыщения; чем больше его ешь, тем больше хочется. Когда сахар стал доступен средним классам и даже городской бедноте, он перестал ассоциироваться с богатством и властью. Но он сохранил связь с наслаждением (в некоторых языках, например в русском, это слово связано с корнем «сладость»). Вместе с кофе, чаем и табаком, а также резко подешевевшими в XVIII веке предметами восточной роскоши – фарфоровыми чашками, хлопковыми скатертями, мягкой мебелью – сахар играл первостепенную роль в формировании нового, буржуазного образа жизни. Его основой стали социальные удовольствия, его смыслом – публичная сфера, его средой – кафе и клубы. Завтраки с кофе и десертом, чаепития и джемы, аперитивы и пудинги – все это вошло в ритуал салонов, кафе и чайных, которые стали символом городской жизни. Каждое такое заведение было сгустком глобальной торговли: кофе в нем был с Явы или из Йемена, чай из Китая, сахар и ром с Карибских островов, табак из Вирджинии или Бразилии. Первое лондонское кафе было открыто турецким купцом в 1652 году; скоро кофейные дома и чайные комнаты распространились по всей Европе. Кофе и шоколад долго оставались доступны лишь привилегированной элите. Кофе был скорее интеллектуальным продуктом; шоколад считали афродизиаком; сахар обильно добавляли в оба напитка. В XVIII веке в Лондоне вошли в моду Шоколадные клубы, это были очень дорогие заведения с закрытым членством, куда не допускали женщин. Собиравшиеся там аристократы пили шоколад, курили сигары, играли в карты и с презрением обсуждали соседние кафе – более демократические заведения, куда мог прийти каждый. То была эпоха Реставрации, и даже шоколадные клубы вызывали подозрения: Карл II пытался запретить их в 1675 году, но сладость оказалась сильнее власти.
Самым распространенным напитком оказался все же чай – конечно, с сахаром. В 1660 году была зарегистрирована английская Компания Восточной Индии; скоро подобные компании стали создавать от Голландии до Пруссии, и главным предметом их операций стал чай. В 1840 году британская Компания Восточной Индии была самым большим работодателем империи и одним из самых больших источников налогов и пошлин: она собирала чай в Индии на двух миллионах акров, и в этом деле было занято более миллиона человек. Чай с сахаром пили все, от королевской семьи до беднейших крестьян, участвовавших в хлебных бунтах. Понятно, что чем дешевле была марка чая, тем больше этот напиток был похож на горячий раствор сахара. Социальные историки считают, что в это время качество питания англичан ухудшилось; в стране возник дефицит хлеба, зарплаты не повышались десятилетиями, и миллионы людей не получали достаточно белка и калорий, ведя полуголодное существование. Потребление сахара росло быстрее снижения цен. Сосредоточенная на сахаре, Англия страдала диабетом.
Цены падали, но все же чай и сахар стоили крестьянским семьям очень много – 10 % бюджета, который семья в среднем тратила на еду. К тому же, согласно статистике XVIII века, все большую часть своего дохода крестьянские семьи тратили на крепкие напитки, а ими в то время были джин, сначала поступавший из Голландии, и ром из Вест-Индии. Большую часть рома, впрочем, гнали в Англии из патоки, которая оставалась после вторичной обработки сахара. В результате комплекса меркантилистских законов цены на хлеб повышались, а цены на сахар падали. Калория, полученная из сахара, теперь стоила дешевле, чем калория, полученная из хлеба или тем более молока. Эта разница и вынуждала людей, которые не могли больше заработать на жизнь крестьянским трудом, переселяться в город, где на зарплату они могли позволить себе чай с сахаром. В течение XIX века вклад сахара в калорийную диету среднего англичанина увеличился с 2 до 14 %, причем среди бедных этот процент был выше. Дав Англии огромное количество «призрачных акров», сахарные плантации и чайные поля обеих Индий стали кормовой базой пролетариата.
Дебаты об отмене Хлебных законов шли десятилетиями; радикалы требовали их отмены, экономисты объясняли пользу свободной торговли, но все было напрасно. На Британских островах продолжался экономический кризис, смягчавшийся массовой эмиграцией и все увеличивавшимися поставками дешевого сахара. Его в английских колониях было так много, что правительство Роберта Пиля, в нарушение меркантилистских принципов, разрешило продавать пятую его часть в Европе, чтобы поддержать цены. Но производство сахара рухнуло после запрещения рабства в 1833 году. Тогда правительство восстановило монополию сахарной торговли, которая теперь действовала как субсидия плантаторам: французский сахар был много дешевле, но его нельзя было продавать в Англии. Обогащая государство и его клиентов, меркантилистские законы вели к обнищанию масс.
Сахарное лобби в английском парламенте было способно контролировать цены на Британских островах, не допуская туда французский сахар; делать это в американских колониях оказалось труднее. Нарушая Навигационные акты, континентальные колонии стали дешево покупать у французов нужные им ром, сахар и патоку. То была новая треугольная торговля, и она не устраивала Англию. Самый маленький из сахарных островов, писал один агитатор, важнее для британской короны, чем вся Новая Англия. Сахарные плантации теперь росли и в Индии, и во Флориде. Но даже могущественная Компания Восточной Индии не могла получить те сладкие привилегии, какими пользовались плантаторы Ямайки и Барбадоса.
Получалось так, что дочерние колонии были неравны в глазах материнской страны: Индии и тринадцати американским колониям не удавалось получить тех монопольных привилегий, которыми пользовались острова Карибского моря. Недовольство колоний приобретало разные формы; одной такой формой была идея свободной торговли, другой была борьба против работорговли, третьей была независимость колоний. «Богатство народов», великая книга шотландца Адама Смита, была опубликована в том же 1776 году, когда была подписана Декларация независимости североамериканских штатов. Уравнивая права обеих Индий и подчиняя цены «невидимой руке» торгового капитализма, свободная торговля помогла сохранить империю ценой разорения сахарных плантаций.
В революционном 1793 году Иеремия Бентам не без удивления писал, что даже знаменитые богачи античного мира – Крез, Гелиобагал – не знали сахара; человек вполне может жить без него, не испытывая страданий. Но современные люди привыкли к сахару, и государства должны оцениваться по тому, как они удовлетворяют эту привычку. Крупнейший теоретик начала XVIII века, Иеремия Бентам подвергал колониальные принципы новому пересмотру. Его утилитаризм формировался в прямой полемике с меркантилизмом: смысл государства – не в славе суверена и не в золоте казны, но в благополучии граждан, которое технически определялось как разница между суммой всех удовольствий и суммой всех страданий. Связанное с сахаром понимание удовольствия было центральным в этой философии. Удовольствие не является природной константой, но формируется привычкой; так и страдание связано не только с болью, но и с переменами. Неудовольствие возникает, объяснял Бентам, когда человек лишается тех удовольствий, которые он знает и к которым привык. Нестабильность удовольствий порождает страдания. Считая британские колонии дорогими и ненужными, Бентам придумал свой знаменитый Паноптикон в далекой колонии Российской империи, работая на князя Потемкина в Кричеве, на территории нынешней Беларуси. Паноптикон должен был организовать труд преступников, пауперов, обезземеленных крестьян, чтобы они ткали, вязали или мастерили под всепроникающим взглядом власти, которая сама должна была остаться невидимой. Потом Бентам десятилетиями пытался построить Паноптикон в Англии; в статье «Паноптикон против Нового Южного Уэльса» Бентам подробно объяснял, почему организация внутренней колонии была выгоднее переселения излишнего населения в Австралию. Бентам был всецело сосредоточен на труде, производящем товары; этим он отличался от предпринимателей, которые сосредотачивались на сырье, производящем капиталы. В деталях рассказывая о внутреннем устройстве Паноптикона, Бентам не очень интересовался исходными материалами, подвозными путями и источниками энергии. Но ни король Георг III, ни британский парламент, охранявший интересы Вест-Индии, не поняли этих планов.
Идеи Бентама не устарели; он один из самых цитируемых философов классической эры. Сначала его переоткрыл Мишель Фуко, сделавший Паноптикон всеобщим образом власти; потом Питер Сингер, знаменитый австралийский философ, предложил вернуться к утилитаризму как основанию моральной философии. Бентам предлагал рассчитывать утилитарный интеграл как разницу между суммой всех человеческих благ и суммой всех человеческих страданий. Эта величина казалась ему способной к бесконечному росту, и максимизацию ее он считал долгом правителей. Возможно, этот подход и сейчас верен, но его надо расширить. В утилитарный интеграл надо включить и переживания природы – ее удовольствия и страдания, элементы роста и гибели. Речь идет не о мести Геи, но о взаимном признании природы и человека – природой и человеком.
В 1791 году началось восстание рабов на французском Гаити, одно из самых удивительных событий колониальной истории. Черные рабы и свободные мулаты объединились в своей ненависти к сахарным плантациям. Годом спустя победа рабов на Гаити была признана в революционном Париже, но скоро все изменилось. Сначала британский флот попытался подчинить себе французскую колонию, которая была самым большим конкурентом английских плантаторов; понеся потери, им пришлось отступить. Потом войска, посланные Наполеоном, должны были восстановить сахарную торговлю, но потерпели одно из своих первых поражений. После многих боев и измен в 1804 году Гаити объявило независимость. Родившийся рабом, Жан-Жак Дессалин стал Жаком I, императором Гаити. Под влиянием этого поражения Наполеон ушел из Северной Америки, согласившись на продажу Луизиан, и сосредоточился на понятной ему Европе. Вести об изумительной революции черных рабов горячо обсуждались в европейских кафе. Читая газетные новости, аккуратно приходившие с Гаити, прусский профессор Гегель сформулировал диалектику раба и господина, которая вела к революции.
Дессалин запретил рабство, но не мог отменить расизм. Он истребил несколько тысяч белых, но мулаты продолжали нещадно эксплуатировать черных. Вскоре началось новое восстание, расправившееся с Дессалином. Бывшие рабы сумели разрушить ненавистные плантации, разделив землю на мелкие владения. Производство сахара остановилось, рабы стали крестьянами. Они теперь жили лучшей жизнью, чем была жизнь раба на плантации; но их государство совсем не имело источников дохода. Бывшее самой прибыльной из французских колоний, Гаити стало одним из беднейших государств мира. Падение цен разорило и Ямайку. За первые годы XIX века 65 плантаций на острове были брошены, 32 проданы за долги. Источник самых больших богатств мира, сахарные острова стали одним из беднейших его регионов.
Между тем в Силезии и Пруссии сахар уже делали из свеклы. В 1747 году Андреас Сигизмунд Маргграф, сын берлинского фармацевта, занимавшийся металлами в духе старой алхимической традиции (он был первым, кто выделил цинк), открыл, что из свекольного сока можно выпарить сахар и что этот продукт не отличается от того, что делали из сахарного тростника. Но содержание сахара в свекле было низким, меньше 2 %. Эксперименты по селекции новых сортов свеклы поддержал Фридрих Великий, надеявшийся заткнуть дыру в бюджете. Позднее еще один берлинский химик, гугенот Франц Карл Ахард, вывел рентабельную свеклу. Потом эти опыты поддерживал сам Наполеон: Франция лишилась сахара после революции в Сан-Доминго и во время британской блокады. В 1811 году Наполеон обязал все департаменты Франции отвести землю под свеклу, открыл несколько специализированных школ для фермеров и обещал субсидии на строительство заводов. Он планировал самообеспечение и даже экспорт дешевого свекольного сахара, что привело бы к разорению Англии, но планы эти не сбылись из-за войны с Россией. Скромная свекла и правда росла почти на любом европейском поле; к тому же несколько поколений селекционеров подняли содержание сахара в свекле до тех же 20 %, что и в сахарном тростнике. После 1815 года во Франции образовалось два конкурировавших рынка сахара, колониальный и местный; по мере того как колониальная торговля двигалась от кризиса к кризису, сахарная свекла развивалась, захватывая рынки. Каждый блок, тростниковый и свекольный, держал свое лобби в парламенте и финансировал своих памфлетистов. Противодействуя колониальной реформе, будущий премьер-министр Франсуа Гизо, англофил и кальвинист, настолько симпатизировал колониям, что в 1843 году предлагал вовсе запретить посевы сахарной свеклы. Потом Наполеон III выступил на стороне свеклы и против тростника. В этих колебаниях была система: чем более националистически был настроен очередной французский лидер и чем больше он боялся Англии, тем больше он поддерживал свеклу. Вопрос рабства, отмененного на английских плантациях в 1833 году, занимал важное место в этих дебатах. Под давлением парижской общественности французские острова раскололись в этом вопросе: Гваделупа согласилась на отмену рабства при условии компенсации плантаторам, на Мартинике продолжали держать рабов. После февральской революции 1848 года, отстранившей Гизо, рабство было запрещено и на французских островах. С введением свободной торговли тростник не мог выдержать конкуренции со свеклой, и сахарным островам пришлось искать новые источники дохода.
В Англии навигационные акты были отменены только в 1849 году; они оставались в силе почти два столетия, перекачивая капитал из колоний на Британские острова. В противоположность своему отцу, зависевшему от сахарных островов, Уильям Питт-младший ставил на Индию. Когда была отменена сахарная монополия Вест-Индии, острова перестали давать сверхприбыль. А когда они перестали давать сверхприбыль, была запрещена работорговля. Без рабов жизнь там остановилась; ее не могли организовать ни наследники плантаторов, ни черные революционеры.
Потребление сахара на душу населения росло в течение всего ХХ века в развитых странах и во всем мире. Большая часть этого роста приходится на индустриальное использование сахара; все равно современные люди употребляют в пищу огромные количества сахара, в среднем около 50 килограммов в год. Сахар чрезвычайно энергоемок: ни одно растение не запасает столько энергии. Сегодня один акр (около 4000 кв. м) субтропической земли дает тростниковый сахар, содержащий восемь миллионов калорий; чтобы получить столько же калорий от картофеля, надо четыре акра земли, от пшеницы – 8–12 акров и от говядины – целых 135 акров. Возможно, увеличение объемов потребляемого сахара связано с увеличением темпа жизни: когда времени на еду не хватает, она должна быть быстрой и сытной; так появляется фастфуд, где все десерты, напитки и даже мясо полны сахара. Подобно нефти, которая позволяет перемещаться все быстрее и жить все интенсивнее, сахар позволяет быстро есть, сразу получать удовлетворение и не задумываться над выбором. Из роскоши, любимой элитой, сахар стал утешением низших классов.
Млечный сок, вытекающий из незрелых коробочек мака, – один из многих видов сырья, связь которых с людьми случайна и не поддается эволюционному объяснению. Сок содержит алкалоиды, которые действуют на нервную систему человека, подавляя одни центры и возбуждая другие. Он дает наслаждение и создает зависимость: по мере употребления человеку нужно все больше этого наркотика. Наслаждение опиумом имеет социальный характер: человек получает больше удовольствия, потребляя это вещество вместе с другими людьми, которые получают сходное удовольствие. Поэтому опиум быстро распространяется, порождая нечто вроде эпидемии. Употребление растущих доз опиума ведет к потере аппетита, лени и деградации; человек перестает интересоваться чем-либо другим. Во всем этом опиум сходен с другими аддиктивными веществами, от сахара до кофе, но на единицу массы гораздо сильнее их.
Ничто в жизненных циклах обоих организмов, мака и человека, не способствовало их взаимодействию. Оба этих биологических вида прошли длинную эволюцию, никак не встречаясь друг с другом. Природа создала прекрасные цветы мака, белые и красные, для того чтобы их опыляли пчелы, способствуя размножению и распространению мака. Тот, кто верит в творение, может думать, что и пчелы были созданы для того, чтобы опылять мак: цветы для пчел, пчелы для цветов, в этом и состоит божественный расчет. Если бы Вольтер читал Дарвина, его Панглос в этом месте воскликнул бы: «Я же говорил, все к лучшему»; но разочарованный Кандид нашел бы множество контрпримеров, говорящих об изощренной случайности зла. Никак нельзя поверить в то, что сок незрелых коробочек мака был создан для того, чтобы человек получал от него свое удовольствие, а человек был создан для того, чтобы распространять мак по миру. Но случайная связь между маком и человеком глубоко изменила их, дав маку необыкновенные возможности размножения и причинив гигантское зло человеку. Исторический прототип Панглоса, немецкий философ Лейбниц учил, что реальный мир предопределен божественным замыслом и потому лучше любого мыслимого мира; заведенные раз и навсегда, все сущности неизбежно вступают в задуманные Богом связи. Опиум опровергает теодицею сразу в нескольких ее основаниях, как будто он и правда был для этого создан. Мак сделал в человеческом мире столько зла, что из-за этого трудно верить в добрую силу божественного промысла. Но из-за его случайной связи с человеком трудно поверить и в предсказательную способность этого промысла. Нельзя представить себе такой высший разум, который предвидел бы встречу человека разумного с незрелыми коробочками и то, что за этим последует.
Если маковый сок высушить, он хранится долго, не теряя своих качеств; его можно перевозить и продавать. Люди это делали в таких масштабах, что в XIX веке – самом имперском из веков – объем мировой торговли опиумом в денежном выражении превышал объем торговли любым другим видом сырья и товаров. Снотворный мак растет во многих местах мира – в Южной Европе, Африке, Азии. Люди возделывают его начиная с бронзового века; это одно из самых неприхотливых растений, культивируемых человеком, и оно легко дичает, сохраняя свою красоту и наркотические качества. Искусственный отбор, так сильно изменивший злаки, повысил концентрацию алкалоидов, не повлияв на жизненный цикл растения. Но культурная история мака полна загадок. Ученым неясно, почему в XVII–XIX веках опиум в огромных количествах и за очень большие деньги поставлялся из Индии в Китай, хотя природные условия не мешали возделывать его в Китае, что в конце этого периода и произошло. Непонятно и то, почему китайцы оказались более подвержены опиумной зависимости, чем индусы. В Индии мак не порождал особых проблем – возможно, потому, что тут был долгий опыт контакта со снадобьем, которое привычно потребляли в малых дозах, не вызывавших зависимости. В Китае, наоборот, опиум вызвал эпидемию, погубив десятки миллионов и едва не уничтожив само государство. Возможно, ученые еще найдут объяснение в культурных привычках людей или в каких-то забытых природных условиях. Каковы бы ни были ее причины, основой торговли была географическая неравномерность – универсальный источник экономического роста и политического зла: предложение было неограниченным, таким же оказался и спрос, но они были разделены многими месяцами морского пути. Получателями выгоды были купцы-перевозчики, которыми оказались сначала голландцы, потом англичане.
Продажи опиума в Китае начала Голландская компания Восточной Индии. Покупая товар в Индии, голландцы платили за него серебром. Монополизировав этот промысел в 1760-х годах, Британская компания Восточной Индии конфисковала порты и склады, обязав индийцев сдавать туда опиум по установленным ею ценам. Британские либералы критиковали компанию; Эдмунд Бёрк обвинял ее в насилии над крестьянами и равнодушии к морали. Глава компании Уоррен Хастингс, которого позже судили за коррупцию, отвергал эти обвинения. В начале XIX века опиум был вторым, после земельного налога, источником доходов Британской Индии, самой большой статьей ее экспорта и самой большой статьей китайского импорта.
Европейцы тоже были подвержены этой зависимости, хотя такой эпидемии, как в Китае, тут не возникло. В викторианской Англии опиум был одним из распространенных лекарств. Его принимали растворенным в алкоголе и верили, что он помогает от болей, лихорадки и меланхолии. Смесь, содержавшая 10 % опия, называлась «лауданум»; это название ей дал сам Парацельс. Вплоть до XX века лауданум продавался в английских аптеках без рецепта. Если зависимость становилась проблемой, в ней винили слабость воли и моральную распущенность. Китайской особенностью считали курение опиума; в других культурах его потребляли иначе – вдыхали пары или ели в разных смесях. В Европе XIX века курение опиума быстро распространилось, но продолжало считаться восточной роскошью.
Компания Восточной Индии скупала урожай на корню, оплачивая его за год вперед. При этом компания держала монополию, боясь обрушить цены; без контракта с компанией никто не мог сажать мак. Но и сокращать маковые поля не разрешалось даже в годы массового голода. Индийские крестьяне неохотно сеяли мак, предпочитая традиционные злаки; лондонские либералы критиковали компанию, читая отчеты о прямом насилии и подозревая наличие нового рабства. Имея полную власть в Индии, компания манипулировала ценами и рентами, вынуждая крестьян сокращать натуральные хозяйства ради товарного производства опиума. «Мы не ставим себе задачей увеличить потребление опиума, но скорее хотели бы уменьшить его злоупотребление, и потому – а также заботясь о государственных доходах – мы будем держать цену столь высокой, как только возможно», – объясняли директора компании генерал-губернатору Индии в 1817 году. Они писали, что если бы они сократили производство до лекарственных нужд, конкуренты перехватили бы продажи. Конкуренция действительно угрожала компании: на китайском рынке был опиум из Турции, который доставляли американские суда; но еще больше директоров компании беспокоило начинавшееся производство в самом Китае. Компания лишала крестьян традиционного дохода от хлопка, способствуя моноресурсному упрощению индийской экономики. В 1700 году британский парламент запретил импорт индийских тканей с цветным рисунком, так называемых калико. В 1750 году Индия производила четверть мирового объема этого промышленного продукта, а в 1900м – только 2 %. Для Лондона смысл индийской деиндустриализации состоял не только в охране текстильной индустрии в имперском центре, но еще и в стимулировании производства более выгодных видов сырья – опиума и чая.
Британские власти были озабочены сальдо торгового баланса – высшей ценности меркантилистской эпохи. Столетиями баланс Запада в торговле с Азией оставался отрицательным. Покрывать его приходилось испанским серебром из американских колоний; до половины этого серебра оказалось в Китае. Из осмысления этой ситуации и появились принципы меркантилизма. Благодаря бурному распространению чая в XVIII веке европейский импорт из Китая достиг новых высот; если его не покрывать, золото и серебро продолжали уходить в Азию. С точки зрения Британской империи, сахар счастливо производили ее колонии, не ухудшая торгового баланса; но чай приходилось покупать в независимом Китае, рассчитываясь за него серебром. Главный продукт британского экспорта, шерсть, в Китае был не нужен. Сахар, табак и другие колониальные товары находили в Китае ограниченный спрос, и доставлять их было дорого. Индийский экспорт необработанного хлопка в Китай упал в начале XIX века, вероятно, из-за конкуренции с американским хлопком.
Зато опиум из Британской Индии имел отличный спрос в Китае. Сначала индийский опиум оставался редким предметом местной роскоши; дорогое экзотическое снадобье было доступно только самым богатым. Но потребление расширялось, охватывая портовые и шахтерские города. Защищаясь, китайские власти стали препятствовать потреблению опиума. В 1799 году Пекин издал первый указ, объявлявший опиум мировым злом и обязывавший бюрократию бороться с ним. Это имело мало эффекта; чиновники с трудом боролись с собственной зависимостью, а британская Компания Восточной Индии завозила опиум из все новых регионов Индии, удешевляя продукт.
Масштаб бизнеса был огромен: полмиллиона индийских крестьян возделывали мак на территории в полмиллиона гектаров. В течение XIX века количество наркоманов в Китае увеличилось до десяти миллионов; другие оценки еще выше, они доходят до 10 % населения, или 40 миллионов. Города заполнились опиумными притонами, которые, подобно кафе эпохи Просвещения или шоколадным клубам Реставрации, становились центрами местной культуры; там делились новостями, заключали сделки, искали связи. Но опиум не кофе и не шоколад; он лишает человека энергии, хотя и необязательно притупляет его потребность в общении. Полуподпольный, неформальный и гедонистический характер этих лож и клубов противопоставлял их конфуцианскому государству. То был китайский вариант гражданского общества.
Крестьяне-кули, жившие своим рисом, не могли потреблять опиум: для этой зависимости нужна наличность. Наркотик потребляли те, кто имел денежные доходы, – ремесленники, шахтеры, садовники и, конечно, чиновники. Распространяясь среди богатых, опиум создавал новую бедность, разоряя людей и отвлекая их от прибыльных занятий. Он создавал и новую преступность, неизвестную традиционному обществу, и новые богатства. Регулируемая англичанами, которые поставляли товар на своих кораблях, опиумная торговля опиралась на китайских предпринимателей, которые быстро обогащались. Усиливая неравенство с невиданной быстротой, опиум разрушал китайскую элиту и традиционные институты, создавая всеобщее отчуждение и беспомощность. То был порочной круг, характерный для всех аддиктивных эпидемий, но в случае опиума особенно очевидный: потоки сырья усиливают неравенство, что вызывает еще большую аномию, увеличивающую спрос на наркотик. Такова природа зла.
Для конфуцианского государства, основанного на рациональности и особого рода меритократии, опиум действительно был абсолютным злом. Патриоты видели в нем враждебное нашествие и высшее возмездие: люди гибли, государство разлагалось, традиционные институты исчезали. Наркотическое состояние стало ассоциироваться с грамотностью. Протестные идеи аскетизма и опрощения вели к размножению тайных обществ и сект. Из-за импорта опиума серебро стало уходить из Китая, и это еще больше тревожило власти. Начался валютный кризис, денег в обороте стало не хватать, и роль опиума как средства оплаты еще больше увеличилась. В 1839 году китайский император велел уничтожать опиум в портах и складах; в тот раз удалось найти и сжечь больше тысячи тонн продукта. Тогда британцы, возмущенные нарушением свободы торговли, объявили войну. Войска, посланные из Индии, принудили Китай выплатить компенсацию за уничтоженный опиум и объявить свободу опийной торговли. Для беспошлинной торговли Англия получила Гонконг и еще пять портов. Резко подешевев, потребление опиума спускалось вниз по социальной лестнице, как в Европе это делало потребление сахара. Впервые стало расти и производство китайского товара. Его считали низшим по качеству, и цена на него была вдвое ниже индийского опиума; но рынок оказался перенасыщен. Дешевея, опиум становился доступен все более широким массам все более бедных людей.
В ответ в прибрежных областях Китая началось Восстание тайпинов (1850–1864). То были христиане-реформаторы, которые боролись с силами зла; глава этой крестьянской войны, Хун Сюцюань, называл себя младшим братом Христа. Он был неудачливым чиновником, который четыре раза провалил экзамены: отсутствие мобильности было массовой причиной недовольства, и в этом элита сошлась с крестьянами. Тайпины практиковали аскетизм; на своих землях они запретили опиум, алкоголь и проституцию. Но у них было мало оружия и совсем не было доходов; восстание было подавлено в кровопролитных боях. Западные державы предоставили китайской армии артиллерию и боевых офицеров. Восстание тайпинов было гигантской катастрофой; вместе с восстанием мусульман-дунганов на северо-западе Китая это была гражданская война, охватившая большую часть государства. Многие миллионы погибли от голода или в боях; другие миллионы эмигрировали, заселяя Юго-Восточную Азию.
В самой Англии опиумные войны стали предметом парламентских дебатов. Премьер-министр Генри Палмерстон был их горячим сторонником. Ричард Кобден, глава Манчестерских либералов, и Джон Гладстон, ставший премьером в 1868 году, возражали против обеих опиумных войн. Сестра Гладстона, Эллен, была опиумной наркоманкой. Ее неконтролируемое поведение угрожало политической карьере Гладстона; он долго боролся за ее исцеление и понимал характер опиумной зависимости. Колониальные власти увеличивали производство чая, видя в нем источник дохода, альтернативный опиуму. С 1854 года власти Британской Индии бесплатно давали огромные участки земли (до 3000 гектаров) любому европейскому фермеру, который хотел культивировать чай на экспорт. Когда к подножию Гималаев пришла железная дорога, экспорт индийского чая в Европу стал приближаться к китайскому.Но в 1856 году началась Вторая опиумная война: соединенные силы англичан и французов оккупировали китайские порты и склады, освобождая их для опиумной торговли. Государство, подорванное опиумом и тайпинами, проигрывало битву за битвой. После взятия Пекина западные державы и Китай подписали мир при посредничестве российского посланника, графа Николая Игнатьева. Опиум был легализован. Британская империя получила новые порты для свободной торговли. Франция получила контрибуцию. Российская империя получила незамерзающую бухту, в которой был построен Владивосток. Объявленная свобода вероисповедания не помешала полностью расправиться с тайпинами.
Ирония состояла в том, что местные предприниматели теперь вытесняли британцев и индусов с опиумных рынков. Противостоять этому было невозможно: товар производили в основном внутренние провинции, а британцы контролировали только прибрежные территории. Огромные области, жившие самообеспечением, переходили на товарный обмен; китайцы использовали опиум в качестве денег и строили дороги, по которым его перевозили. Товарные культуры, опиум и чай, вытесняли злаки; потом это станет одной из причин массового голода. Но появились и новые методы: мак стали сажать вперемежку с табаком или в севообороте с картофелем. Опиум открывал внутренние провинции для торговли; по территории Китая перемещалось больше метрических тонн опиума, чем соли или риса, ведь большая часть последних потреблялась на месте. Цены падали, спрос рос, росло и внутреннее производство. К концу XIX века Китай уже производил в девять раз больше опиума, чем Индия. В отличие от последней, весь китайский товар потреблялся внутри страны. То был китайский вариант Великой трансформации: крестьяне работали на полях, производя товарный опиум, ради оплаты тем же опиумом. Сахар открыл рынки для глобальной торговли, опиум закрыл их. В начале ХХ века опиум стал внутренним делом Китая: страна потребляла 95 % мирового производства опиума, и почти весь он был своим.
Лишаясь доходов, британцы открывали новые рынки, сочетая дипломатию со взятками и угрозами. Теперь опиум продавали по всей Юго-Восточной Азии. На двух океанах британцы создавали порты свободной торговли, перегружавшие опиум; таким портом издавна был Кантон, так возник Сингапур. В 1840-х главным портом перевалки стал Гонконг. Торговля опиумом стала главным занятием новых государств Юго-Восточной Азии, куда переехали торговые фирмы Британской Индии. Опиуму противостояла одна Япония, которая с начала переговоров с европейцами в 1854 году делала запрет опиумной торговли условием для частичного открытия своих рынков.
Катастрофическая история китайского моноресурса поучительна так же, как и последовавшие десятилетия гражданских войн и революций. В начале ХХ века те же государства, которые заработали на опиумной торговле, стали сокращать ее. В 1906 году Китай заключил соглашение с Великобританией, обязывавшее обе стороны уменьшать производство опиума. Пекин провел несколько конфискаций; но в 1912 году рухнула династия Цин и с ней – конфуцианское государство. В 1909 году британские власти запретили опиумную торговлю в Сингапуре и островных колониях Юго-Восточной Азии. Но прошли десятилетия, пока в 1943-м опиумная торговля не была запрещена по всей Британской империи и на зависимых территориях, и сделано это было только тогда, когда почти вся империя к востоку от Бенгала контролировалась Японией. Удивительно, что английское общество не реагировало на зло, причинявшееся китайским опиумом, так, как оно реагировало на зло от работорговли и хлопковых плантаций; идеи и предрассудки ориентализма, так тесно связанные с опиумом, играли тут свою роль. Тем, кто считал опиум восточным злом или природным пороком желтой расы, не казалось особенно дурным делом зарабатывать на нем деньги. В тяжелый период между двумя мировыми войнами оба китайских государства, коммунистические повстанцы и режим гоминьдана, активно торговали опиумом. После 1950 года тоталитарный Китай устранил мак с полей и опиум из быта своих подданных. Все равно опиум остается крупной долей глобальной торговли. В конце ХХ века доля наркотиков в обороте мировой торговли составляла 8 % – больше доли железа. И большая часть этой торговли состояла из опиума и его производных.
Интенсификация сельского труда вела к его совмещению с городским трудом и, значит, к разрушению крестьянского образа жизни – его «моральной экономики» вместе с пресловутой «ленью». Уже в середине XVIII века в Англии не было крестьян, какие были везде в континентальной Европе, то есть людей, которые полностью специализировались на аграрном труде. Текстильная промышленность Англии, распределенная по деревенским коттеджам, была столь эффективной, что вела к коллапсу более зрелой промышленности итальянских городов – Венеции, Флоренции, Болоньи. Важный вопрос ресурсной истории в том, что именно вывело сельские домохозяйства Англии, а потом и всей Европы из гомеостазиса моральной экономики? Что повернуло их на магистральный путь преиндустриального капитализма?
У этого сложного процесса было много причин; одной из них классик британской социальной истории Эрик Хобсбаум считал появление в деревенских домохозяйствах таких товаров, как сахар, табак, кофе и чай. Американский антрополог Маршалл Салинс характеризовал эти колониальные товары как «мягкие наркотики» (soft drugs). Вызывая подобиe наркотической зависимости, эти продукты повышали мотивацию к зарабатыванию денег сверх уровня выживания. Они быстро дешевели и именно поэтому играли растущую роль в семейных бюджетах среднего класса, а потом и бедноты. Речь идет о массовом явлении: после окончания наполеоновских войн и потом в течение десятилетий доля этих товаров составляла четверть всего британского импорта, вызывая дефицит торгового баланса. Потребление сахара на душу английского населения увеличивалось впятеро каждые сто лет.
Русский экономист Петр Струве объяснял лучшее положение крепостных крестьян по сравнению с черными рабами особенностями зерна в сравнении с сахаром. Если зерно не вывезено на рынки, оно остается в складах, идет на семена, люди и скот потребляют его в пищу. «Если бы на Вест-Индских островах вместо сахара возделывали хлеб и к тому же сбыт его представлял бы трудности, то я не могу себе представить, чтобы… рабы подвергались ужасным мучениям и в то же время не кормились бы досыта». Сахар был более легким, дорогим и сухим товаром; но зерно обладало большими возможностями применения. Сахарные и потом хлопковые плантации создавались как коммерческие предприятия; помещичьи хозяйства Восточной Европы, наоборот, существовали задолго до того, как сумели превратить свое зерно в товар. Одной из причин того, что русская деревня так долго оставалась в натуральном состоянии «моральной экономии», была возможность гнать «вино» из зерна или картофеля. Если крестьянин гнал самогон, он мог обойтись без колониальной лавки; правда, у крестьянки могло быть по этому поводу другое мнение.
В растущей зависимости от колониальных товаров проявились гендерные различия, которые стали играть экономическую роль. Немецкий социолог Вернер Зомбарт полагал, что развитие капитализма было связано с любовью к восточной роскоши, возникшей после Крестовых походов, и выросшей ролью женщин в элитном, а потом и в массовом потреблении. Сахар был здесь важнейшим ингредиентом; Зомбарт писал, что связь между женщинами и сахаром «имела величайшее значение в истории экономического развития». В отличие от алкоголя, который традиционно считался мужским удовольствием, кофе с сахаром и чай с пирожными стали преимущественно женскими радостями. Потребление таких продуктов ведет к привыканию, а привыкание ведет к большему потреблению. Этим эффектам подвержены все – мужчины и женщины, молодые и старые, богатые и бедные, хотя пол и возраст могут играть ведущую роль в выборе любимого продукта потребления. Таможенные пошлины на такие товары давали простой и удобный доход казне; пути этих массовых видов сырья было легко контролировать на море, и контрабанда не играла здесь большой роли. Обсуждая падение цен на сырье и положение плантаторов Вест-Индии, которые взывали о помощи, британские парламентарии утешали себя: то, что государство потеряет в налогах с плантаторов, оно с лихвой возместит пошлинами с увеличивающегося ввоза. Они были правы: доля пошлин в английском бюджете росла вплоть до наполеоновских войн.
Согласно блестящей книге Эрика Уильямса, сама Промышленная революция была оплачена капиталом, заработанным рабским трудом на сахарных плантациях; действительно, богатейшие инвесторы того времени имели плантации на сахарных островах. Уильямс был потомком рабов, который стал премьер-министром Тринидада и Тобаго. Защитив свою диссертацию в Оксфорде в 1938 году, он сравнивал мировой кризис, который начался с восстания на Гаити и кончился освобождением американских рабов, с мировой войной. И как тот давний кризис был порожден тектоническим сдвигом от сахара к хлопку, так и Вторая мировая война сопровождала изменение ресурсной парадигмы от угля к нефти. Ресурсные переходы не являются ни единственной, ни даже главной причиной столь больших событий; у них множество причин, общих и частных. Но смены сырьевой парадигмы одновременны и сомасштабны этим великим и трагическим эпохам.
Новая буржуазия нормализовала предметы ориентальной роскоши – экзотические сласти и горячительные напитки, цветные одежды и фарфоровую посуду, лаковую мебель и постельное белье. Восток был в моде несмотря на страшную дороговизну своих изделий; им подражали мануфактуры по всей Европе. То был особенный, обратный ориентализм. За первую половину XVII века голландские суда завезли в Европу три миллиона изделий из китайского фарфора; они были очень дороги, но расходились среди элиты. Потом заводы в Делфте и в английском Стаффордшире стали производить имитации этого фарфора; отличить их от китайских образцов могли только знатоки, а стоили эти европейские изделия во много раз дешевле. Продукция этих заводов удваивалась с каждым десятилетием. Бумажные обои подражали шелковым панелям так же, как набивные хлопковые ткани воспроизводили шелковые образцы или как печатные книги массово воспроизводили древние рукописи. Западная цивилизация не могла предложить странам Востока ничего, что бы их интересовало, и расплачивалась серебром; торговый дефицит Западной Европы в ее восточной торговле был огромным. Нормализация восточной роскоши работала в том же направлении, что и другие средства восходящей динамики, эстетические и наркотические: она давала новой буржуазии незнакомое ей ранее чувство уверенности, безопасности, равенства с прежними хозяевами – чувство, которое в других условиях, менее обеспеченных сластями и пряностями, вело буржуазию к революции.
Включение сахара, табака и чая в общедоступную диету вело к зависимости крестьянских семей от привозных товаров, к открытию натуральных хозяйств внешним оборотам товаров, к включению моральной экономики в глобальную торговлю и в конечном итоге к новым механизмам мотивации труда, разрушавшим крестьянское хозяйство. Если домохозяйство с каждым годом потребляло все больше сахара, чая или шоколада – это значило, что хозяину, его жене и детям с каждым годом приходилось больше работать и зарабатывать. Спускаясь вниз по социальной лестнице, бывшие предметы роскоши – сахар и другие колониальные товары – подрывали старую модель натурального, гомеостатического хозяйства, члены которого работают для достижения неизменного уровня потребления. Аддиктивный характер потребления сахара, чая, кофе, шоколада и алкоголя вел к нехватке денег, к необходимости работать больше, искать подработки на стороне, включать в процесс зарабатывания женщин и детей. Последнее было только справедливо, женщины и дети участвовали в потреблении сахара, чая и шоколада на равных с мужчинами. Сахар и другие социальные наркотики подготовили развитие капитализма, освободив для него крестьянские руки, которые ранее были заперты в моральной экономике выживания.
Сахар, джемы и кремы, шоколад и другие сласти вместе с чаем составили новый, ритуализованный комплекс потребления, у которого было узнаваемо женское лицо; колониальное происхождение постепенно забывалось, эти товары больше не воспринимались как экзотические. Параллелью было мужское потребление сладкого колониального алкоголя – рома, джина, портвейна – и табака. Рост торговли всеми этими благами был колоссален. В 1750 году британские суда ввозили в шесть раз больше табака из американских колоний, чем сто лет назад, в двенадцать раз больше джина (который в Голландии перегоняли из того же сахара) и бесконечно больше китайского чая, рома и кофе. Соответственно, цены на все эти колониальные товары падали несмотря на инфляцию, поднимавшую цены на зерно и местные товары; например, фунт чая на лондонском рынке в 1650 году стоил десять фунтов, а в 1700-м – двенадцать шиллингов, то есть в десятки раз меньше. Из предметов роскоши эти колониальные товары становились заурядными предметами ежедневного потребления среднего класса. Женская занятость играла ключевая роль в этих процессах. На рубеже XVIII века в центрах Западной Европы впервые появилась городская жизнь в современном ее понимании – кафе и чайные, театры, отели и магазины. Местные товары продавались на городских рынках, магазины занимались торговлей колониальными товарами. В английских деревнях появились почты, пабы и дилижансы. Все это стало возможным благодаря взаимодействию новой колониальной экономики со старыми видами сырья, которые тоже становились общедоступными – льном (скатерти, простыни, занавеси), оловом и серебряными сплавами (посуда), деревом (мебель), бумагой (газеты) и т. д. Многие поколения растущего среднего класса создавали, обживали и развивали эту новую материальную среду. Чувство прогресса, которое стало как никогда живо, означало освоение средним классом тех высот потребления, которые раньше были доступны только аристократии. Восходящая динамика повседневной жизни мотивировала вчерашнего крестьянина включиться в гонку капиталистического производства. Отцы и деды были крестьянами, которые жили натуральным хозяйством с его моральной экономикой. Новая буржуазия жила в гостиной с обоями, имитирующими недоступный шелк; придя из театра, пила чай с сахаром или кофе с ромом, что раньше было привилегией королей; и, куря трубку, читала газеты, которых раньше просто не было. Для буржуа растущее потребление и было прогрессом. Субъективный его смысл заключался не в количественном росте потребления, а в подъеме по социальной лестнице, который осуществляли люди, покончившие с деревенской жизнью.
Бесконечные удовольствия, полученные от наркотических средств в Северном полушарии, были обеспечены неисчислимым количеством страданий и труда на плантациях Южного полушария; вряд ли Бентам мог бы свести эту динамику в одно утилитарное уравнение. К концу XIX века бесконтрольная эксплуатация рабочих на далеких плантациях стала вызывать интерес, а потом и возмущение европейцев; важнейшую роль здесь играли писатели, например голландский романист Макс Хавелаар. С его книги «Мультатули» (1860), рассказывавшей о диких порядках на кофейных плантациях голландской Ост-Индии, началось общественное движение потребителей, приведшее к глобальной практике «Справедливой торговли» (Fair Trade): в условиях торгово-промышленного капитализма власть потребителя является высшей властью.
Глава 5.
Переплетения волокон
В отличие от металлов, волокна производны от органической жизни. Части тел некоторых животных и растений представляют собой длинные, прочные нити. Потом их механически обрабатывают – очищают, вытягивают, скручивают, переплетают с такими же волокнами – и создают тонкие, гибкие ткани. Эти операции не меняют индивидуального волокна, но соединяют его с мириадами таких же волокон. Поэтому обработка волокон – прядение, ткачество, крой – требует повторения множества одинаковых, последовательных движений. В давней истории создание и обработка волокон были преимущественно женским делом. В новой истории этим занялись механические машины, которые быстрее и точнее повторяют мелкие движения, создавая великое разнообразие нитей и тканей. Со времен Шелкового пути и до появления нефти и пластика торгово-промышленный капитализм большей частью состоял в изготовлении волокон и торговле тканями.
Многие технологии были общими для всех волокон. Носителей надо вырастить, волокно собрать; для этого нужны земля, время и труд. Физическими воздействиями – расчесыванием, вытягиванием, мойкой, сушкой – собранное сырье очищали, отделяли от него воду, размягчали и спрямляли. То была тяжелая работа, веками не поддававшаяся механизации. Задачей было превратить грязное, влажное сырье в товар – относительно сухой, легкий материал, доступный хранению и перевозке. Потом сырье подвергалось новой обработке. Короткие волокна надо было скрутить в длинную нить, смотать эту нить и соткать из нее ткань. Ее вновь отправляли мастерам, которые делали из ткани одежду, постельное белье, паруса, канаты или мешки. Во времена Великого шелкового пути стоимость транспортировки составляла львиную долю стоимости товара. Морские перевозки снизили долю торговых издержек; но даже во времена Промышленной революции хлопок в Вирджинии стоил на 20 % дешевле, чем в портах назначения.
Военно-налоговые государства XVIII века были волоконными государствами; более всего они зависели от шерсти и хлопка, по-разному осуществляя арбитраж между ними, но их судьбы определялись также коноплей, льном и шелком. В отличие от зерна, которое трудно вырастить, но легко обработать, волокна ставят две разные задачи – производство сырья (которое включает его первичную переработку) и глубокую вторичную переработку. Для производства сырья нужно много земли, воды, солнца и неквалифицированного, монотонного труда; для переработки нужно, наоборот, мало земли и много труда и знаний. Поэтому сочетать производство и переработку волокон в одном месте невыгодно. Решением этой проблемы стали меркантилистские империи, использовавшие землю далеких колоний для производства волокна и труд своей метрополии для его обработки. Межконтинентальный транспорт был задачей имперских флотов, торговых и военных, которые тоже зависели от волокон. Зерно и мясо производились и потреблялись на месте, в натуральных хозяйствах или на городских рынках; волокна перевозились через океаны, став главным материалом дальней торговли и колониальной политики.
Волокна показывают случайность человеческих нужд в отношении великого разнообразия природы. Живые существа состоят из клеток; ничтожно малое их число представляют собой длинную клетку, вытянутую в волокно. Но эти волокна еще должны сцепляться друг с другом, что совсем не входит в их природные функции. Волокно хлопка – это одна длинная клетка, развивающаяся из семени хлопчатника. Клетка свивается в микроскопическую трубку, которая внутри остается полой, и это объясняет ее низкую теплопроводность. Но этого мало: те же физические свойства клеточных стенок, которые позволяют им свиваться в полую трубку, позволяют им и свиваться друг с другом. Соединившись в длину, эти микротрубки образуют гибкую и прочную нить, в которой отдельные волокна неразличимы – их сопряжения так же прочны, как и сами волокна. Дальше эти нити можно вновь свивать или переплетать друг с другом, и так образуется ткань. Эту ткань можно покрасить, что является сложным химическим процессом, требующим отдельного сырья – натуральных красителей. Полые микротрубки хлопка впитывают эти красители лучше любых других волокон, кроме шелка. Но и сами эти красители – фиолетовый пурпур, синий индиго, красный кашинель – являются редкими созданиями природы, которая готовила их совсем для других целей.
Чтобы получить всего 200 граммов шелковой нити (этого, наверно, хватит на одну рубашку), люди должны вырастить больше тысячи червей-шелкопрядов, скормив им 36 килограммов листьев дерева-шелковицы, а потом часами вытягивать волокна из коконов, мыть и сушить их, трепать и чесать, чтобы потом скрутить нить, спрясть ткань и, наконец, сшить рубашку. Сначала люди собирали готовые коконы в лесу. Но их надо обрабатывать до того, как из кокона вылетел мотылек, потому что этот процесс изменяет химический состав кокона, укорачивая его волокна. Поэтому коконы лучше было держать ближе к дому; около 1600 года до нашей эры люди стали сажать шелковицу и выращивать шелкопрядов в своих садах. Так развился тройной симбиоз человека, дерева и мотылька. Тутовое дерево имеет природные механизмы защиты от всех червей и насекомых кроме шелкопряда с его сложным жизненным циклом: гусеницы питаются листьями шелковицы, а бабочки опыляют ее цветы, которые потом превращаются в сладкие плоды, которые ест человек, распространяя ее семена. Так человек получил природную машину для производства необычно тонких, прочных и длинных волокон, которые защитили его кожу от зноя, влаги и насекомых, а со временем стали неиссякаемым источником красоты, богатства и власти. В обмен шелк требовал труда, тепла и доверия, развивая оседлую жизнь, частную собственность и мирную торговлю.
Способность шелкопряда преодолевать химическую защиту шелковицы и способность человека расчищать землю для этого дерева открыли перед всеми ними – человеком, мотыльком и деревом – новые экологические ниши. Но дерево и насекомое оказались более чувствительными к климату, чем человек. За пределами отдельных местностей Китая, Японии, Средней Азии, Персии и, уже в Новое время, Южной Европы, шелк оказалось очень трудно произвести. Поэтому шелковые изделия в течение почти всей долгой истории оказывались монополией далеких и экзотических мест. Легкий, не впитывающий влагу, не доступный гниению и чрезвычайно дорогой, шелк оказался идеальным товаром для дальней торговли.
Первые шелкопрядные фермы появились вокруг современного Пекина задолго до нашей эры. Право носить шелковые одежды принадлежало исключительно высшим сословиям; крестьянин за ношение шелка мог поплатиться жизнью. Шелк использовался как валюта; рулонами из шелка начисляли зарплату государственным служащим, а потом и солдатам; шелком платили налоги. Облагая китайского императора данью, дикие кочевники принимали дары шелком. Несмотря на высокие транспортные расходы или благодаря им шелковые изделия стали образцовым предметом роскоши по всему цивилизованному миру. Региональная монополия позволяла поддерживать цены, которые создавали сверхприбыль даже при относительно низких физических объемах. Мало что повлияло на глобальный мир больше, чем продукты экскреции этих личинок странного насекомого, гнездящегося на шелковичном дереве.
Согласно легенде, европейцы познакомились с шелком во время походов Александра Македонского; возможно, из-за шелка он и хотел завоевать Индию. Рулоны шелка двигались с востока; навстречу им шли мешки серебра и тюки шерсти. Нагруженные верблюды месяцами шли по горам и пустыням, преодолевая около 10 000 километров. В горах тюки перевьючивали на лошадей. Животных и людей надо было кормить в пути, предоставлять ночлег, защищать от кочевников. Для верблюдов и купцов то чаще всего был путь в одну сторону: многие умирали в дороге. Но для тех, кто наследовал прибыль, она могла быть колоссальной.
О Великом шелковом пути написаны десятки книг; но есть и исследователи, которые сомневаются в самом его существовании. До Промышленной революции Азия была более емким рынком, чем Европа. Идя на Запад, караваны часто заканчивали свой путь в Хорезме или Багдаде. Шелк и другие восточные товары, например фарфор, торговались на всем этом пространстве, но эта торговля не была похожа на плавание корабля, пересекающего океан без захода в порты. Скорее это была медленная, иногда длившаяся десятилетиями, диффузия товаров от одного транзитного пункта к другому; то, что купцы не могли продать на месте, они посылали дальше на запад. Археологические находки, однако, твердо говорят о том, что китайский шелк на рубеже нашей эры использовали в Риме, а серебряные монеты и шерстяные изделия с греческими символами имели хождение от Афганистана до Китая.
Шелк был популярен в Древнем Риме начиная с эпохи Августа – как раз тогда, когда суровые римляне начали обретать вкус к роскоши. «Можно ли назвать одеждами то, чем нельзя защитить ни тела, ни чувства стыдливости… их достают за огромные деньги, чтобы наши матроны показывали себя всем в таком же виде, как любовникам в собственной спальне», – возмущался Сенека. Используя этот легкий и приятный на ощупь материал для всевозможных туник и плащей, римляне не знали секрета его изготовления; то была оккультная тайна, которую пытались разгадать путешественники, ученые и миссионеры. Ценившийся на вес золота, шелк стал образцовым предметом роскоши. К тому же теплый мех и водоотталкивающий шелк часто носили вместе. Римской традицией было носить шелковые плащи, которые изнутри утеплялись мехом; во времена Ренессанса появилась иная мода – носить шубы, подбитые шелковой подкладкой, мехом наружу. Контраст между грубыми, колючими кожами или шерстью – одеждой крестьян и бедняков и тонким, облегающим тело шелком, похожим на саму кожу, создал представление о теле, характерное для западного человека. И наоборот, аскетические традиции отказывались от шелка и меха в пользу шерсти; францисканские монахи носят шерстяную рясу, подпоясанную белой веревкой, тоже сделанной из шерсти. В Средней Азии считали, что Коран запрещает мусульманину носить чистый шелк; там носили ткани, мешавшие шелк с хлопком, а чистый шелк весь шел на экспорт.
Позднее шелком стали украшать стены роскошных комнат: дом приравнивался к телу и нес те же знаки классовых различий. Шелком отделывали кареты и гондолы, им украшали флаги и штандарты – символические тела западных государств. Ориентальные ассоциации шелка не мешали использовать его в этой функции. Наоборот, трудно себе представить флаг, сделанный из варварского меха или простонародной шерсти. Верблюжьи караваны, идущие Шелковым путем, начали глобальную торговлю, которая следовала новым маршрутам, неизвестным римлянам. Во времена Ренессанса глобальный спрос на восточный шелк все еще был так велик, что Европа постоянно оставалась в торговом дефиците по отношению к Китаю и Японии: шелк и другие восточные товары были в моде, и Европа платила все возраставшими поставками серебра с испанских шахт в Мексике. В этой глобальной торговле один ресурс менялся на другой, шелк на серебро; но пропорция оплаченного труда в шелке была выше, чем в серебре, и потому Китай процветал, а Европа оставалась сырьевым посредником.
Производство шелка оставалось китайским секретом, пока два христианских монаха не вывезли яйца шелкопряда вместе с семенами шелковицы; по дороге в Константинополь они прятали их в стебле бамбука, как Прометей прятал огонь, – так говорит легенда. Во всяком случае, в XIII веке производство шелка расцвело в портовых городах Италии и особенно в Венеции. На фермах начался бум тутового дерева, в Венето, Тоскане и Ломбардии его сажали вперемежку с виноградниками. Но в северной Италии весенние заморозки мешали коконам шелкопряда созревать на листьях деревьев, как они делали это в Китае и Персии. Личинки приходилось забирать в дом, раскладывать на специальных столах, кормить их размельченными листьями шелковицы и держать при комнатной температуре; еще надо было стимулировать созревание, принося в дом определенные цветы. Столетия селекции привели к тому, что коконы увеличились в размерах и стали давать больше нити, но шелкопряд перестал быть способным к самостоятельному существованию. Важно не пропустить момент созревания и вовремя размотать кокон: как только мотылек начинает вылупляться, качество нити резко ухудшается. Перед разматыванием коконы надо размочить в теплой воде. Все эти процессы требуют поддерживать почти лабораторную чистоту, температурный режим, точность во времени – качества, нехарактерные для крестьянского труда.
Домашняя часть этой работы, требовавшая точности и тепла, доставалась женщинам. Весной, когда распускались листья тутового дерева, они собирали яйца шелкопряда в особые мешочки и носили их на груди. От тепла человеческого тела яйца оживлялись, из них выходили личинки. В Самарканде верили, что стоит мужчине посмотреть на эти личинки, как они перестанут заворачиваться в кокон. Давая занятость и преуспевание, шелк оказался спасением для многих регионов Средней Азии и Южной Европы: его можно было производить почти на каждой ферме, и он дополнял традиционные виды занятости, не создавая новых неравенств. Как шелковица не мешала винограду или оливковым деревьям, но дополняла традиционный ландшафт, так и шелководство благодаря сезонному характеру работ и их гендерной специализации дополняло сложившиеся сектора крестьянского хозяйства.
Производство шелка устроено таким образом, что после размотки коконов не остается личинок и мотыльков, которых можно использовать как семена для воспроизводства процесса в следующем году. Поддержание культуры шелкопряда и сопутствующая ему селекция – особый процесс, отдельный от изготовления продукта. Поставка отборных личинок на фермы требовала инвестиций и доверия. В Италии этим делом занималась отдельная группа предпринимателей, которые предоставляли личинки, размещали заказы на переработку и потом направляли товар конечному потребителю. Эти кураторы владели групповой монополией на всю индустрию; без их заказов, предзакупок и личинок крестьянские хозяйства не могли бы поддерживать этот бизнес. Не очень ясно, почему было так необходимо, чтобы воспроизводство шелкопряда было отделено от производства шелка – иными словами, почему фермеры не могли сами откладывать и потом «оживлять» малую часть коконов, ведь они это всегда делали с семенами. Но если бы предприниматели лишились контроля над яйцами шелкопряда, они лишились бы контроля и над всем шелковым бизнесом. В Венеции эти предприниматели доминировали в шелковой гильдии, так же как коммерсанты, занимавшиеся трансатлантической торговлей, доминировали в производстве табака, – и это несмотря на близость производителей и потребителей шелка, которые могли жить в нескольких милях друг от друга.
Вся многоступенчатая переработка шелковой нити сосредотачивалась в городах, и там же оставалась прибыль. Верона обсаживала тенистыми шелковицами древние, ненужные теперь рвы и стены. Более дорогие сорта пряли в Венеции, Флоренции и Пизе, массовые сорта производились в Болонье. В 1461 году около трети населения Флоренции зависело от производства шелка. В городах северной Италии появились сотни семейных мастерских, которые шили готовую одежду из местного или привозного шелка. Первые гидравлические машины на шелковых фабриках Болоньи появились уже в начале XVI века; количество ручных прядильных станков исчислялось тысячами. Техническому прогрессу помогало патентное право; в Венеции изобретения охранялись законом уже с XV века. За качеством производства и подготовкой мастеров следили гильдии; они же инициировали меркантилистские ограничения этой торговли. В 1410 году Шелковая гильдия добилась полного запрета на ввоз в Венецию обработанного шелка; зато импорт сырца для переработки всячески поощрялся. То была ранняя версия меркантилизма: колонии существуют для производства сырья, его переработка должна сосредоточиться в метрополии. Венеция имела монополию на импорт сырого шелка из Персии и Сирии; после переработки в городе готовый товар экспортировался с огромными прибылями. Доставку качественного сырья осуществляли еврейские и армянские купцы на своих кораблях; для «левантийских евреев» Венеция создала гетто. В XVI веке этот прибыльный бизнес рухнул из-за турецких войн и европейской конкуренции; зато, наладив переработку шелка, страны Северной Европы взвинтили цены на сырой шелк из Италии. Поэтому он оставался распределенным сырьем с высокой себестоимостью, составлявшей больше половины цены готового товара. Собственное производство первичного сырья было распределено по тысячам домовладений в деревнях «твердой земли» к северу от Венецианской лагуны; город также получал сырой шелк с Балкан и из Испании. Монополизации обработки способствовала высокая цена входа в этот бизнес: инвестируя в капиталоемкие станки и фабрики, шелковые магнаты получали прибыль с продаж. Масштабы экспорта были огромны: в XVI веке итальянский шелк составлял около трети всего импорта Франции и Голландии. Около 1830 года, в разгар промышленной революции в Англии, экспорт итальянского шелка был по своей стоимости равен половине всего хлопкового экспорта Великобритании. Итальянские мастера позднее налаживали шелковое производство в Испании и на американском Юге. Как это происходило с люксовыми видами сырья, например сахаром, потребление шелка постепенно демократизировалось. Платья, чулки и шляпы, сделанные из шелка, становились рутинной одеждой докторов, нотариусов, проституток. Этому способствовало ослабление регуляций, запрещавших смешивать шелк разных сортов; шелк теперь мешали с шерстью или хлопком, создавая дешевые и теплые ткани. На этих смесях специализировались целые города Фландрии и итальянского Юга. Но попытки наладить сбор коконов к северу от Альп успеха не имели.
В XVIII веке в Японии знатоки скрестили местных шелкопрядов с китайскими, удвоив их производительность и приспособив их к жизни в более холодных условиях. В середине века, однако, тяжелая эпидемия «перечной болезни», вызываемой паразитом личинки, погубила шелкопрядов по всей Европе и Средней Азии; делом занимался сам Пастер, но ученые оказались бессильны. Одной из причин болезни считают инбридинг, связанный с излишним стремлением селекционеров создать гомогенную культуру шелкопряда. Между тем японские гибриды не поддавались этой болезни; накануне японской индустриализации шелк оказался главным экспортным сырьем этой страны.
В XVIII и начале XIХ века Российская империя попыталась начать шелководство в Крыму и на Кавказе. Этим занимался, к примеру, в своих южных имениях князь Потемкин; особого успеха это его мероприятие не имело. В советское время производство шелка удалось освоить в Узбекистане и Крыму. Его производили на экспорт и для военных нужд – для парашютов. Технологии шелководства мало отличались от средневековых. Участница процесса рассказывает тонкости этого процесса, которые ускользают в письменной истории: «В селе были пустующие дома, в них и устраивали семейные тутовые „фермы“. Заботились, чтобы не было сквозняков и чтобы температура в помещении была 25–27 градусов, иначе нежные червячки могли погибнуть. Неподалеку росли целые плантации шелковицы. Ветки обрезли и несли большими охапками на корм личинкам. Те грызли листву с таким хрустом, что казалось: в помещении находятся лошади, а не насекомые. Когда они вырастали до десяти сантиметров в длину, то переставали есть и впадали в спячку. В это время мы заполняли всю комнату срезанным в степи кураем – это растение еще называют „перекати-поле“. После спячки гусеницы становились прозрачно-желтыми, превращаясь в куколок. Они заползали на курай и начинали „колдовать“, будто кружились в каком-то танце, закручиваясь в кокон».
Лен и конопля неприхотливы и могут расти везде, кроме пустынь и тропиков. Их требования к солнцу, воде и почве не больше чем у сорняков; конопля быстро дичает, продолжая расти без ухода. Дикая конопля и сейчас растет в канавах и по обочинам дорог большей части Евразии. Лен сеяли везде, где сводили лес или осушали болота. Из льна или конопли делали парусину, канаты и рыболовецкие сети. Морская форма во многих странах мира остается льняной, а из конопли в свое время делали даже доспехи. Варили из нее и бумагу. Холст из конопли желтоват и более груб, чем льняной; льняное полотно имеет такую же прочность, как хлопковая ткань. Эти ткани плохо воспринимают красители. Они отлично служили для утилитарных целей, но декоративные свойства хлопковых или шелковых тканей были гораздо выше.
Насколько просто посеять и собрать стебли льна или конопли, настолько трудоемка их обработка; она длительнее и сложнее, чем молочение пшеницы, и требует больше операций и навыков, чем производство шерсти или хлопка. Лен выдергивают руками, чтобы сохранить стебли до самых корней; его сушат, очищают, прочесывают гребнями разной частоты, молотят, сортируют, потом размачивают, снова сушат, мнут и треплют, наконец, вытягивают нить и прядут ее. С более грубой коноплей примерно те же циклы – сушка, размачивание, сортировка, рубка, очистка – повторяются несколько раз. Мужские и женские растения конопли имеют разные свойства; волокно из мужских растений тоньше, так что сортировка растений требовала особых навыков. Красивые трепала – резные доски, которыми били волокна, держа в руке на весу или кладя на деревянную основу, – и деревянные гребни сегодня составляют предмет коллекционирования. Но обработка льна и особенно конопли была трудной и грязной работой, связанной с перемещением больших масс сырья с поля в амбар, а оттуда на реку и обратно.
Все это необычно для добывания сырья; заготовка пеньки больше похожа на работу квалифицированного ремесленника, например кузнеца. Сырью нужно постоянное внимание, но работа не является непрерывной; в ней возникают длинные паузы, которые могут длиться неделями или месяцами. Пока волокно сохнет или, наоборот, мокнет, крестьянин занимается другими промыслами. Такие процессы способствуют не разделению труда, а, наоборот, совмещению разных крестьянских занятий. Поскольку в обработке участвуют химические процессы, ее нельзя ускорить или интенсифицировать.
Обитатели суши, оба растения фундаментально важны для морских цивилизаций. Из конопли делается пенька, а из нее – веревки, мешки, канаты. Пенька – самое крепкое из натуральных волокон; ее уникальное свойство в том, что пенька не страдает от морской воды. Это одна из множества природных случайностей, которые лежат в основе сырьевой экономики: растение, которое в природе никогда не соприкасается с морской водой, оказалось уникально приспособлено для работы в этой агрессивной среде. Всем морским империям, от Римской до Британской, требовались огромные количества конопли, и заменить ее было нечем. Но католические империи – Португальская, Испанская, Французская – и православная Россия справлялись с самообеспечением конопляным волокном лучше, чем протестантские и пуританские.
После своей революции Североамериканские Штаты полностью зависели от русской конопли и льна. Альфред Кросби, знаменитый американский историк и автор «Экологического империализма», первую свою книгу написал о ресурсной зависимости республиканской Америки от царской России. Сотни американских кораблей – больших торговых и малых каботажных, рыболовных и военных – бороздили Атлантику и Великие озера. На каждом были паруса, тросы и бечевки, и почти все это делалось из европейских, большей частью русских, конопли и льна; в самих Штатах выращивалось лишь 2 % пеньки, которая шла на такелаж. К примеру, на трехмачтовом, 44-пушечном фрегате «Конституция», который сошел с бостонского стапеля в 1794 году и плавает до сих пор, – около ста тонн такелажа; все делалось из импортной пеньки. Такому фрегату нужно два комплекта парусов, в каждом около акра льняной парусины, и она тоже поставлялась из портов Северной Европы. Каждые несколько лет весь такелаж и паруса приходилось менять.
Конопля и лен могли расти в любом из американских штатов; но дело было в качестве. Русская конопля считалась самой прочной и надежной. Силезский лен был тоньше русского, и это качество ценилось в белье и одежде. Но паруса из русского льна ценились выше всех, как и канаты из русской конопли. Секрет заключался в длительном, трудоемком процессе первичной обработки конопли. Ее волокна соединяются вязкой смолой, которую надо отделить, прежде чем начать их расщепление и очистку. Американцы делали это проветриванием. После сбора стебли конопли оставляли лежать на земле около месяца, иногда переворачивая. Это удаляет ненужную смолу, но портит сами волокна; они грубеют и отчасти теряют свою способность к скручиванию. Такие волокна годились на мешки, но канаты из них получались низкого качества; американский флот отказывался от них, несмотря на дешевизну. Русский способ обработки начинался с просушивания в снопах, а потом стебли рассыпались в воде, лучше проточной, и прижимались сверху деревянными рамами. Чем чище была вода, тем лучше становилось волокно. В зависимости от предназначения коноплю вымачивали от двух недель до трех лет; в некоторых случаях воду иногда нагревали. Потом волокна высушивали и только после этого «трепали» и прочесывали. В итоге товарная пенька, годная для такелажа, обычно шла на продажу только через два года после того, как конопля была срезана в поле. Этот процесс обработки никогда, даже в недавние времена, не поддавался механизации; е использовался в нем и рабский труд. Это производство требовало не только физического труда, но и знаний, опыта и терпения. В отличие от заготовки зерна, в котором мужские и женские роли были отделены друг от друга, в производстве пеньки не было ясных гендерных ролей. Но роль женщин, а вероятно и детей, на разных стадиях этого процесса была велика.
В Венеции была Конопляная гильдия, которая контролировала качество производимой конопли и торговавших ею посредников. Создавая флот и секуляризуя монастырские земли, в 1533 году король Генрих VIII обязал каждого фермера отвести землю под коноплю. Елизавета I увеличила этот конопляный налог и усилила наказание за его неуплату. В 1611 году Лондон просил колонистов Джеймстауна сажать не только табак, но и коноплю. Послушные депутаты колониальных ассамблей Вирджинии, а потом Мериленда и Пенсильвании дублировали эти решения. Британское правительство, а потом десять из тринадцати американских колоний предлагали субсидию на каждый акр посеянной конопли. В Вирджинии, если домохозяйство не справлялось с нормой поставки конопли, оно платило штраф в тысячу фунтов табака. Но, как и в английской метрополии, где фермеры предпочитали коммерчески выгодную, предназначенную для массового потребления шерсть государственно нужной конопле, американские колонии предпочитали табак. Потом такая же ситуация повторится с хлопком: все – коммерсанты в метрополии и крестьяне в колониях – предпочитали хлопок, цены которого определял массовый спрос, а не коноплю, которая нужна была адмиралтейству. Тогда и появился миф о том, что климат Англии не способствует росту конопли. В 1808 году Лондон просил теперь уже Компанию Восточной Индии наладить производство пеньки в Индии. Конопли и продуктов ее переработки все время не хватало империи, и дело было не в природных или климатических условиях: конопля растет везде, растет она и в Англии. Вместо того чтобы повышать цены на пеньку, британский кабинет рассылал инструкции. Ничего похожего не было с другими коммерческими видами сырья – ни с зерном, ни с шерстью, ни с хлопком; если их не хватало, цена на них росла, повышалось и производство. Ясно, что фермеры предпочитали необходимое им зерно и выгодную шерсть; но морскому государству нужна была конопля. Цены на нее росли, но изготовление ее было, видимо, настолько трудоемким делом, что эти цены не оправдывали расходов. Главную роль в истории конопли играла ее необычная обработка, которая требовала компетентного, честного и длительного – в большой степени женского – труда. Потому коноплей, в отличие от табака или хлопка, никогда не заставляли заниматься рабов.
Главным покупателем русских льна и конопли была Англия; из них делали канаты, паруса, рыболовные сети, белье и скатерти, легкую и дешевую одежду низших классов. Адмиралтейство и правительство налаживали производство холста и пеньки в Шотландии и Ирландии, но британский флот продолжал зависеть от поставок из враждебных стран. В 1790 году в Англии производилось вдвое больше шерсти, чем во Франции, и вдвое меньше холста. Шерсть тогда была главной статьей британского экспорта, а лен – главной статьей импорта; но больше всего Англия зависела от конопли. Цены на пеньку и холст все время росли, особенно во время войн, тем более что Семилетняя война прекратила поставки из Силезии, а наполеоновские войны остановили российский экспорт. Но производство этих волокон в Англии все равно сокращалось. Парадокс меркантилизма состоял в том, что британская экономика с выгодой перерабатывала американский хлопок, который в конечном итоге использовался в декоративных целях; но стратегически важные пеньку и холст британский флот получал из континентальной Европы и далекой России.
В континентальной Европе конопля и лен росли почти везде, а британский климат им не благоприятствует. В это верили в парламенте и адмиралтействе, но это было не так. Объяснение надо искать в биологических свойствах этих растений, физико-химических процессах их обработки и социально-экономических институтах, которые обеспечивали эти процессы. Длительная, многоступенчатая обработка стеблей льна и конопли способствует не профессиональному разделению труда, а, наоборот, совмещению разных его видов одним работником-универсалом. Это противоположно индустриальному процессу, когда обработка сырья разделяется на мелкие операции, которые работник выполняет быстро и эффективно, как машина, и в конечном итоге заменяется машиной. Массовое производство льна и конопли было возможно в бретонских, силезских и русских поместьях – в условиях недавно отмененного или вовсе не отмененного крепостничества. В отличие от американских плантаций, делавших из раба машину, смысл крепостного права состоял в поддержании традиционного образа жизни помещика и крестьянина. Более автономная, чем труд раба, крестьянская работа строилась на длительных процессах, параллельных и последовательных, сочетавших многие промыслы, навыки и импровизации, не допускавшие разделения труда. Но лучшая пенька изготовлялась на тех землях северной России, которые вовсе не знали крепостного права.
Русская пенька стоила много дороже американской; воды и солнца в Кентукки и Коннектикуте, где заготовлялась конопля, тоже было достаточно, так что речь идет о рыночном сбое редкого масштаба. В своей отличной книге Кросби теряется в догадках, почему американские производители конопли не использовали простые, всем известные русские секреты. Его объяснение состоит в том, что низкокачественная американская пенька шла на веревки, которыми перевязывались тюки с хлопком, и спрос на нее рос по той же экспоненте, что и спрос на хлопок: в перевязанных тюках, в которых хлопок перевозили через океан, вес пеньки составлял 5 % от веса хлопка. Флотский спрос на такелаж рос медленнее, и переключаться на него не стоило.
Невидимая рука рынка отлично работала для шелка, шерсти и хлопка, но в отношении конопли коммерческих стимулов постоянно не хватало. Возможно, этот рыночный сбой требует внеэкономических объяснений. Наркотические свойства конопли известны со времен Геродота: скифы делали из стеблей одежду, а конопляное семя использовали в банях, бросая его на раскаленные камни, вдыхая пары и устраивая оргии. Историки и этнографы знают множество случаев употребления семян конопли шаманами, жрецами и просто любителями удовольствий. Есть гипотеза, что древние евреи использовали эти семена при изготовлении елея. Гашиш – измельченные и прессованные листья и соцветия конопли, богатые наркотической смолой, – имел хождение в Китае и на арабском Востоке. Но курение гашиша стало известно в Европе только после египетского похода Наполеона. Нет сомнений, что земледельцы Русского Севера, жившие среди конопляных джунглей, обильно использовали необычные свойства семян и смолы этого растения. Семена конопли употреблялись в пищу, из них варили каши, растирали муку и давили масло. Русские лечебники рекомендовали конопляное семя как обезболивающее, успокаивающее, мочегонное и даже противозачаточное средство. Сегодня техническая конопля, используемая для производства волокон, почти не содержит наркотической смолы; но это продукт научной селекции, произошедшей в ХХ веке. До этого всякая конопля содержала наркотические вещества; соблазн был доступен каждому, кто имел конопляное поле. Сочетание утилитарных свойств со столь же необычными психоактивными определило позднейшую судьбу конопли. Ее производство то вводили королевскими декретами, то запрещали парламентскими постановлениями. Считая любую коноплю источником наркотика, в 1937 году Конгресс США ввел запретительный налог, подорвав ее производство; его пришлось спешно восстанавливать во время войны, когда флоту не хватало канатов. Неприятие конопли в протестантских и пуританских странах в XVII–XVIII веках могло быть связано с ее наркотическими свойствами: протестанты не хотели разводить такой источник легкого удовольствия у себя на полях, поэтому их государствам приходилось закупать готовый продукт у других стран. Неясно, впрочем, почему эта логика не мешала англосаксам и голландцам возделывать сахар, хмель и табак.
Испанская и Португальская империи снаряжали суда в Южную Атлантику и Индийский океан. Англия занялась Севером. В конце XV века венецианский мореплаватель Себастьян Кабот, базировавшийся в Бристоле, стал искать северный путь в Китай. Плывя на запад, он открыл для британской короны Ньюфаундленд с его рыбными богатствами; потом стал плавать под испанским флагом и, следуя южными морями, дошел до Японии. В старости этот удачливый мореплаватель вернулся в Англию, по-прежнему думая о северном проходе в Китай. В 1551 году его интересы совпали с мечтами другого знаменитого первопроходца – алхимика и астролога Джона Ди. Составлявший гороскопы для королевских домов Европы и карты для Московской компании, Ди первый сформулировал понятие Британской империи; он утверждал ее право на все северные земли, большие и маленькие, от Гренландии до владений «Герцога Московии». Это право английской короны, по мнению Ди, шло от короля Артура, легендарного основателя английской монархии. Королева интересовалась этими сведениями, обсуждала их с Ди и заказала ему работу над книгой «Пределы Британской империи». С разрешения Елизаветы Кабот организовал в 1555 году «Мистерию и Компанию купцов-перевозчиков для открытия неизвестных земель, мест и островов»; вскоре она была переименована в Московскую компанию. То было первое акционерное общество, зарегистрированное в Англии. Так, с русской торговли, началось преобразование гильдий в акционерные общества. Гильдиями была испанская Места (Honrado Concejo de la Mesta) и ранняя Компания купцов-перевозчиков Лондона (1407), но Московская компания имела директора и акционеров, суда и склады.
То было время путешествий без карт, поспешной колонизации дальних земель и продуманных «союзов» с ближними, похожих на аннексию. В 1553 году англичане на трех кораблях отправились искать новый путь в Китай через северные моря. Корабли замерзли во льдах Белого моря; одного из капитанов, Ричарда Ченслера, спасли рыбаки-поморы. Он сумел добраться до Москвы, провел успешные переговоры с Иваном Грозным, получил в подарок меха и с ними вернулся в Англию. Царь дал ему монополию на торговлю в Белом море. Через год Ченслер поплыл обратно с королевскими подарками царю Ивану. На обратном пути он утонул, но англичане сравнивали его открытие России с испанским открытием Америки. Еще один героический англичанин, Энтони Дженкинсон, четырежды плавал к Белому морю и дважды добирался оттуда до Персии. Все равно найти новый путь в Индию не удалось; дойдя до Хорезма, он понял, что находится на знакомом Шелковом пути. Но Дженкинсон нравился Ивану Грозному и вел с ним успешные переговоры. Согласно легенде, одна из его дочерей была невестой Шекспира. Царь Иван дал англичанам право свободно и беспошлинно, оптом и в розницу торговать на Белом море и по всей России; они могли теперь торговать и с третьими странами, например с Персией. Они получили монополию на торговлю в Белом море; другим иностранцам, например голландцам, высадка на берега Северной Двины или на острова Белого моря была воспрещена. Англичане получили и другие необычайные привилегии: они не подлежали русскому суду и за преступление, совершенное на этой земле, отвечали только перед своей компанией. Они могли чеканить английскую монету на русских печатных дворах. Еще они получили в подарок дом в Москве и право открывать фактории на Севере. Главная фактория появилась в Холмогорах; там англичане создали мануфактуру, делавшую канаты из местной пеньки. Таможенники и воеводы не имели права вмешиваться в торговые дела Московской компании. Враги называли Ивана английским царем.
Ведя бесконечные войны, царь Иван нуждался в союзниках и деньгах. Он знал, что на старинный источник финансирования московской казны, соболиный мех, полагаться было нечего: царские агенты в Сибири с трудом находили качественные меха. Неожиданное появление англичан в устье Двины, их интерес к пеньке и соснам чудесным образом решали государственные проблемы. Английская торговля дала толчок беломорским землям как раз тогда, когда русские войска проиграли войну за выход к Балтийскому морю. В 1584 году был укреплен Архангельск, и туда переехал центр торговой активности: тяжелые английские суда не могли дойти до Холмогор. Строя крепость и мануфактуры в Вологде, царь Иван основал там столицу опричнины. В 1565 году царь начал создавать свою внутреннюю страну с бассейна Двины, потом присоединил к ней Мезень и огромный бассейн Свири и Онеги. Опричная земля контролировала верхнее течение Волги, к которой проявляли интерес англичане, и солевые месторождения Камы. Все земли, присоединенные к опричнине за 15 лет ее существования, лежали вдоль берегов Белого моря.
Пытаясь понять этот проект царя Ивана, историки видели в нем попытку уничтожить зерновые хозяйства Центральной России, лишив их путей сообщения по русским рекам. Но карта опричных приобретений в 1565–1771 годах больше похожа на учреждение собственной сырьевой монополии. Опричное хозяйство царя Ивана было обращено широкой стороной к Белому морю, открывая удобные пути доставки. Судоходные реки, впадающие в него, обеспечивали вывоз пеньки и других ресурсов – льна, древесины, воска, соли – в Англию. Плодородные земли южной части этой колонии – Вологды, Костромы, Белозерья – позволяли кормить население северных берегов. Столица этой внутренней колонии, Вологда, была начальным пунктом речного пути по Сухони и Двине к Белому морю, и она же была стартовой площадкой для сухопутного путешествия в Сибирь; отсюда можно было контролировать враждебные опричнине Москву и Новгород. В Вологде было начато строительство нового Кремля, заложены верфь и канатная мануфактура.
Ресурсной основой опричного проекта была конопля. Такое понимание, вполне доступное Ивану, так же как и его врагам, придает смысл невероятной истории опричнины. То была глубокая реформа московского царства – проект, порожденный отчаянием, корыстью и расчетом. Земля разделялась на два домена с разными политэкономическими режимами – экспортно-ориентированную опричнину, обращенную к Белому морю, и прикрывавшую ее с юга земщину, обреченную на натуральное хозяйство. Политически этот проект вызвал сопротивление всех, кого царь лишил выхода в большой мир; экономически он был продуман и выгоден Ивану. Он работал над реформой своего царства одновременно с переговорами о военном и брачном союзе с английской короной. Отгораживая опричнину, он создавал себе сырьевую колонию, внутреннюю Индию, которая бы продавала свои ресурсы Англии, субсидируя царя и опричников. Очаг развития, эта привилегированная зона стала бы примером для страны и мира. И наоборот, зерновая земщина, изолированная от моря и рек, должна была довольствоваться собственным хозяйством, которое все равно не приносило выгоды короне. Таков был опричный вариант меркантильного насоса.
В 1571 году опричнина была разрушена самим Иваном, что объясняют трудностями военного времени. Этому предшествовало глубокое охлаждение в отношениях Ивана с Англией. Октябрем 1570 года датировано его письмо Елизавете I, полное жалоб на английских купцов – их высокие цены, дурные бумаги и ложные вести. Из письма ясно, что Иван в этот момент понял несбыточность своего проекта династического брака – а ранее он в него верил – и упрекал королеву в вероломстве. Тогда же англичан лишили права свободной торговли по Волге и коммерции с восточными странами. Вопреки просьбам англичан Москва открывала беломорские гавани голландским купцам. Охлаждение длилось 10 лет, после чего Иван вернулся к идее военного союза с Англией. Все это время беломорская торговля продолжала расти, но голландцы оттесняли англичан с конопляного рынка.
Наблюдая эти реформы со стороны и обсуждая их с царскими послами, Московская компания имела свои интересы. Северный путь в Китай найти не удалось, но через Двину и Волгу открывался северный путь в Персию. Ввозя сукно, хлопковые ткани и оружие, англичане надеялись получить северные меха и персидский шелк. Многое из этого не получилось. Мехов в товарных количествах вокруг Белого моря уже не было. Вывозить шелк из Каспия по Волге и потом волоком до Двины было слишком далеко. Компания занялась китобойным промыслом у Шпицбергена; дивиденды ее оставались высокими, хотя и неровными.
Раз послать караваны шелка северным путем не удалось, главным бизнесом Московской компании стала конопля. Она обильно росла на полях по берегам северных рек; полюбив английские товары, поморы обеспечивали дешевую и качественную переработку. Помещиков тут не было, что облегчало все операции. Пользуясь своей монополией, англичане напрямую имели дело с местными заготовителями. Как обычно, англичане распределяли заказы по крестьянским домохозяйствам, собирали готовую продукцию, проверяли ее качество и доставляли заказчику, оставляя себе львиную долю ренты. Торговля была далекой, но простой: летом британские корабли заходили в Двину, загружая свои трюмы пенькой и расплачиваясь мануфактурными товарами – сукном, скобяным товаром и оружием, имевшими стабильный спрос на Русском Севере. Московская компания получила от британской короны привилегию на изготовление канатов; это производство тоже удалось наладить на берегах Белого моря. Русская торговля на Белом море давала большие стимулы к развитию, чем польская торговля на Балтике: конопля способствовала равномерному развитию северных домохозяйств, а зерно вело к обогащению знати и крепостничеству. В отличие от злаков, конопля росла всюду, и права собственности были менее важны в ее производстве, чем живой труд. В отличие от зернового хозяйства, производство конопли не способствовало разделению труда и внедрению машин. Оно оставляло крестьянину свободное время для других занятий, и конопля не становилась моноресурсом. Наряду с неизменными пенькой и канатами, в трюмы загружалось сало, кожи, деготь, воск и ворвань – продукты сезонных промыслов. Глубинной причиной разницы между судьбами Беломорья и Балтики была большая доля местного труда в стоимости конопли и большая доля земли в стоимости зерна.
Не знавший крепостничества и крестьянской общины, Русский Север жил большими домами со сложной демографией, разноресурсной экономикой и совмещением труда. Переключение этих крестьянских хозяйств на промысловые начала прошло без особого сопротивления; этому способствовали рыбацкие традиции поморов, которые отличали их образ жизни от крестьянских хозяйств. Северные фермеры чередовали разные виды ресурсов – рыба, зерно, конопля, древесина – в соответствии с сезоном и традицией, не забывая о коммерческом интересе. Встроившись в эти циклы, английские и голландские купцы монетизировали торговлю, включив в нее современные товары, такие как сукно и металлические изделия. Изменив ресурсную экологию домохозяйств, они подняли уровень жизни крестьян, не сломав их моральную экономику. Еще одной причиной мирного вхождения поморских домохозяйств в глобальную торговлю было совпадение годовых циклов сельского хозяйства и морской торговли. Порты Двинской губы замерзали на много месяцев в году; работы на море прекращалась так же, как и работы на земле. Но обработка пеньки продолжалась весь год. В поморских деревнях развивались и домашние промыслы; но они не приобрели рыночного масштаба. Англичане покупали одно сырье, делая исключение только для канатов; местные рынки были недостаточными. Но благодаря конопле, водным путям и свободной торговле, уровень жизни крестьян Поморья был выше, чем в самых плодородных губерниях крепостной России.
Преемник Елизаветы, король Яков I, был умелым строителем империи: он присоединил Шотландию, заселил протестантами север Ирландии и колонизовал Вирджинию. Потребность английского флота в конопле и неспособность наладить собственное производство заставили Якова начать колонизацию Белого моря. Зимой 1612/13 года король Яков обсуждал с Московской компанией возможность «протектората» в составе Архангельска, Двинской губы и Соловецкого монастыря. Новая колония должна была присоединиться к заключенному тогда пробному Союзу Англии и Шотландии (1603). В это время Яков пытался реформировать и английскую торговлю шерстью.
В России шла гражданская война, известная как Смутное время; среди многих причин к ней вели несбывшиеся реформы Ивана Грозного. Англичане были озабочены вмешательством шведов, которые заняли Новгород; шведы были соперниками, способными контролировать беломорскую торговлю. Летом 1612 года в Архангельске высадилась группа наемников под командованием прусского офицера Адриана фон Флодорфа. Он предъявил бумагу, подписанную английским королем Яковом. Вступив в контакт с князем Дмитрием Пожарским, он предложил ему помощь; князь отвечал уклончиво. Часть отряда оставалась в Москве, часть в Архангельске. Зимой 1613 года глава английской Московской компании и посол в России Джон Меррик пообещал Якову финансировать военную кампанию по присоединению Белого моря; он беседовал об этой операции и со своими русскими союзниками.
В апреле 1613 года Яков принял решение в отношении русского протектората. Понимая сложность задачи, он решил послать на Белое море от 10 до 12 тысяч солдат. То была большая военная сила – вдвое больше, чем было опричников у Ивана Грозного, и в двадцать раз больше, чем было колонистов в Вирджинии. Англичане должны были захватить Соловецкий монастырь, используя его как базу вторжения, взять Архангельск, двигаться вверх по Двине и занять земли до верхней Волги. Географически русский протекторат короля Якова очень напоминал опричнину царя Ивана, и его экономическое предназначение тоже было сходным. Создание британского протектората мыслилось по типу «ирландских плантаций», где английские переселенцы меняли порядок землепользования и присваивали землю, создавая огромные поместья; король Яков только что, в 1609-м, официально учредил самую большую «плантацию» в Ольстере. Но статус беломорской территории был выше; Яков собирался послать туда наместником своего младшего сына, Чарльза. Он станет наследником британского престола, Карлом I, и будет казнен на эшафоте; возможно, на Русском Севере его ждала бы лучшая участь.
К этому времени Московская компания признала несбыточность своих планов персидской торговли через Белое море. Ее доходы были прочно связаны с коноплей. В июне 1613 года Джон Меррик снова приплыл в Архангельск, где услышал о короновании Михаила Романова. Узнав об английских планах, новый царь начал тайное расследование. Приняв Меррика, он просил его посредничать в переговорах со шведами; тот, действительно, помог при заключении Столбовского мира. Заключенный мир успокоил англичан: теперь шведы не могли блокировать их торговлю на Белом море. В итоге Яков отказался от своей идеи колонизации Русского Севера, положившись на способность нового царя установить порядок в своем царстве. Монополии на торговлю англичане больше не получили.
По разным оценкам, Московская компания на рубеже XVII века обеспечивала от трети до половины потребностей английского флота в такелаже. Но в Двину все чаще заходили голландские корабли, которые забирали себе большую долю рынка; они торговали в пользу своих германских или испанских клиентов. Голландцы были гибче и платили серебром (англичане предпочитали бартер). В итоге голландцы были так успешны в беломорской торговле, что скупали пеньку у поморов, чтобы потом продавать ее в Англии.
Все это изменилось, когда Петр I осуществил вековую мечту русских самодержцев, открыв балтийские порты для русской торговли. Беломорские промыслы пришли в упадок из-за конкуренции с балтийскими портами и из-за запретительных пошлин, которыми их обкладывали ради развития Петербурга. Торговля зерном через Нарву и Ригу, как и позже через Одессу, вела к социальному расслоению по польскому и среднерусскому образцу.
Британский импорт пеньки увеличивался на протяжении всего XVIII века, а российская доля в нем стабильно оставалась более 90 %. В 1759 году Британская империя покупала в России 25 тысяч тонн, что давало северной стране около полумиллиона фунтов в год. Надежда адмиралтейства на пеньку из американских колоний осталась тщетной. Основание Петербурга привело к быстрому снижению объемов беломорской торговли. Список «заповедных товаров», на вывоз которых была объявлена государственная монополия, при Петре вырос во много раз: то были пенька, льняное семя, кожи, поташ, деготь, сало, икра и т. д. Частные лица должны были сдавать их государству по фиксированным ценам; потом казна перепродавала сырье иностранцам по рыночный цене. В 1719 году Петр отменил этот указ, «милосердствуя к купечеству». Но, движимый британским спросом, экспорт пеньки рос при любых обстоятельствах; к середине XVIII века он достиг 37 тысяч тонн в год, а к концу века почти удвоился. На рубеже XVIII века пенька занимала первое место в российском экспорте, лен второе, железо третье, потом шло сало. Вывоз волокон шел через порты Петербурга и Риги; пенька и лен поступали туда из балтийских и волжских губерний, даже из Малороссии. Отдельно считались холст и парусина, то есть ткани из льна и конопли; они занимали пятое и шестое места в российском экспорте. Лишь после этого шло зерно, которое вывозили через Ригу и Таганрог. Все это вывозилось на судах покупателя; торгового флота у России не было. Только 7 % экспорта шло сухопутным путем, включая вывоз в Китай через Кяхту. Первое место среди покупателей занимала Англия, второе – США. За всю первую половину XIX века вывоз пеньки и льна составлял треть российского экспорта, не уменьшаясь даже во время Крымской войны. К началу ХХ века значение волокон резко упало, теперь они составляли меньше десятой части российского вывоза; доминирующую роль в нем играл хлеб.
История Романовых полна безуспешных попыток национализировать экспорт сырья. В 1704 году Петр отдал все рыболовные и китобойные промыслы Беломорья в торговую компанию своего фаворита Александра Меншикова; она существовала до 1721 года, и вскоре началось расследование масштабной коррупции в хозяйстве фельдмаршала. В 1724 году Петр коронным указом учредил монопольную экспортно-импортную компанию с долями пайщиков «с примеру остиндской компании», которую помнил со времен своего голландского тура. «Я бы желала, чтобы мой народ сделался промышленником», – говорила Екатерина Великая в 1764 году. Но старания побудить русских купцов вывозить пеньку, зерно и другие русские товары на своих кораблях провалились. Екатерина отказалась от государственного контроля над ценами и объемами поставок. «Дешевизна родится только от великого числа продавцов и от вольного умножения товара», писала императрица. Читательница Адама Смита, она отказывалась «на всякие времена» от колониальных планов за океаном и от поддержки компаний-монополистов: «в начале моего царствования я нашла всю Россию по частям розданной подобным компаниям, и хотя я 19 лет стараюсь сей корень истребить, но вижу, что не успеваю».
Производство и экспорт льна долго оставались делом домашних производств. В 1805 году в России было 285 полотняных фабрик, но американский гость Архангельска писал о том, что лучшая ткань производилась «сельскими людьми» на домашних станках. В конце XVIII века балтийские порты Российской империи ежегодно вывозили 60 000 тонн пеньки, которая приносила баснословные 100 миллионов рублей в год. Хотя экспорт зерна через Одессу и другие черноморские порты более известен, пенька и лен давали большую прибыль российским дворянам и казне. Баланс торговли был в пользу России, добыча и вывоз сырья росли. Эрмитаж скупал сокровища со всей Европы. Армия и гвардия платили жалованье наемникам всех рангов. Русский помещик носил сюртуки из английского сукна, пил французские вина из богемских бокалов, нюхал вирджинский табак и вытирал нос платком, покрашенным индиго. Между этими занятиями он читал Вольтера, Руссо или даже антиколониального аббата де Рейналя. Самые богатые помещики, как Демидовы или Чертковы, вкладывали свои состояния в итальянские или британские поместья или даже, как Герцен, в облигации американских штатов. Все это финансировалось средствами, полученными от продажи за границу главных видов русского сырья.
В ходе наполеоновских войн Россия поставляла британскому военному флоту почти весь его такелаж, держа Лондон в стратегической зависимости. Вступив в союз с Наполеоном, российский император Павел I конфисковал британскую собственность в России, включая 200 кораблей в портах, и прекратил торговлю на Балтике. Это было тяжелым ударом по русской и польской знати; остановка снабжения была неприемлема и для британского флота. В апреле 1801 года флотилия адмирала Нельсона сожгла Копенгаген, расчистив английским кораблям торговый путь в балтийские порты. Более результативным оказался дворцовый переворот в Петербурге. В заговоре против Павла объединились британские дипломаты, балтийские бароны и русские помещики. Сразу после его убийства торговля пенькой и зерном с Англией возобновилась. Потом по Тильзитскому миру Россия вновь стала союзником Франции. Наполеон ввел Континентальную систему, которая опять оставила британский флот без русского такелажа, а российскую столицу без серебра и сахара. В 1808 году британский импорт пеньки уменьшился втрое, ее цена в Лондоне подскочила вдвое. Флот делал отчаянные попытки сажать коноплю в Индии или делать канаты из редких деревьев на тропических островах. Обычно северные порты Российской империи разгружали 4–5 тысяч кораблей в год; в 1808 году их было меньше тысячи. В потреблении русского сырья Франция не могла заменить Британию: континентальная держава, она сама производила пеньку, зерно и кожи. Французский флот нуждался в мачтовом лесе, но Балтийское море было блокировано британским флотом; попытка завозить плоты по мелководью, недоступному английским кораблям, не удалась. Зато Франция поставляла в Россию по суше, через германские княжества, шелк и предметы роскоши. Это изменило платежный баланс Российской империи, обычно положительный. Русский рубль обесценивался, и стране приходилось выбирать между экономической катастрофой и сменой союзника.
Отказавшись в 1805 году от вторжения в Англию, Наполеон требовал соблюдения Континентальной системы. Брешь в блокаде делали американские суда; они грузились русской пенькой и продавали ее Англии. К началу XIX века американские суда доминировали на российском рынке, но во время войны получили новую роль: они могли легально торговать русскими товарами. Американцы постоянно нарушали нейтралитет; к тому же многие британские суда теперь плавали под американским флагом, обманывая Континентальную систему.
Союзник Наполеона, император Александр не забывал о гибели своего отца и деда – оба стали жертвами знати, обнищавшей в результате неудачной войны и торгового кризиса. В 1811 году российский кабинет запретил импорт по суше и разрешил экспорт по воде; это значило отказ от французского импорта, поступавшего через польскую границу, и поворот к торговле с Англией. Серебряный рубль на европейских биржах сразу вырос на 40 %. Теперь сахара и хлопка в Петербург поступало так много, что их реэкспортировали в Вену. В тот год в порты Петербурга и Архангельска вошло больше 200 американских кораблей, и они вывезли рекордный тоннаж конопли. Так Континентальная система была разрушена российско-американскими усилиями. Довольны были все, кроме императора французов. У Наполеона были деньги, в 1803 году он продал американцам Луизиану за 11 миллионов долларов; эта сумма покрыла бы много лет российского экспорта, оставив британский флот без парусов и канатов. Наполеон просчитался, надеясь сохранить союзника даром.
Знаменитые овцы-мериносы были мигрантами из Северной Африки. Их селекция создала белый и тонкий волос, который задал стандарт шерстяной одежды во всем цивилизованном мире. Они появились на испанском полуострове еще до Большой чумы. Сохранялась и местная порода овец – чурра. Более крупные, в основном ценимые за мясо и сыр, эти овцы содержались на стационарных пастбищах; их грубая, теплая шерсть веками использовалась в местных промыслах для изготовления плащей, ковров и одеял. Пряжа мериносов была тоньше, приятней и дороже. Многие пастухи в Испании были берберами; приведя на полуостров мериносов, они научили испанцев содержать их своим уникальным способом, водя на сезонные кочевья по холмам Кастилии и Арагона. Отсюда пошло вековое разделение труда, связанное с разными породами животных: тонкорунные мериносы стали кочевой породой, которая меняла пастбища, ежегодно проходя огромными стадами через испанский полуостров; грубошерстные чурра паслись на стационарных пастбищах вокруг городов. Тонкая белая шерсть мериносов и их дальние кочевья казались мистически связанными; пастухи верили, что сезонные миграции держат овец в форме, улучшают качество шерсти и вообще необходимы мериносам. Современные экологи считают, что дело было не в процессе кочевья, а в кормовой базе: только так можно было прокормить огромные стада при малых осадках и скудных почвах. Другим европейским центром овцеводства была Англия. Там продолжали содержать разные породы овец, которые были приведены сюда еще римлянами; всех их держали на стационарных пастбищах. Но английские породы с трудом конкурировали с завозимой сюда шерстью мериносов.
Реконкиста XIII века присоединила большие территории юга к христианской Испании. Увеличение пастбищ повлекло увеличение стад, которые теперь проводили зимы на пустынных южных пастбищах. Для их охраны использовали военно-монашеские ордена, в которых нашли работу рыцари, помнившие Крестовые походы. Вместе с кочевыми стадами они силой занимали нужные им территории, вытесняя оттуда арабов с их оседлыми овцами. На пике шерстяного промысла, в XVI веке, в Испании было около трех миллионов мериносов, которые принадлежали частным владельцам; по кочевьям их водили пастухи, объединенные в особого рода сообщество, находившееся под покровительством короны, и их шерсть экспортировалась казенными институтами. Овец чурра было в несколько раз больше; они паслись на стационарных пастбищах, а их мясо, молоко и шерсть потреблялись на месте. Редко где разница между местным сырьем и ресурсом для дальней торговли была более демонстративной.
Мериносов определенно считали созданиями иной и высшей природы, чем чурра. Покровителем мериносов было само государство, имевшее монополию на вывоз их шерсти за границу; чуррой занимались крестьяне, продававшие мясо, сыр и шерсть в городах. Мериносов не забивали и почти не ели, скрещивать их с чуррой было запрещено, а вывоз их за границу карался смертной казнью. В кочевом содержании мериносов и их контрасте с оседлыми, крестьянскими овцами чурра было что-то аристократическое, как будто тут работала память о кочевой, иноземной природе европейского дворянства. В любом случае никто не пытался сделать стада испанских мериносов оседлыми; наоборот, империя одно время старалась экспортировать мериносов в Мексику, но их кочевой образ жизни там не прижился. Зато чурра распространилась по всей Америке; индейцы вывели из этой испанской овцы свою породу, знаменитую своей жизнестойкостью, она называется навахо-чурра. Потом в Англии мериносов пасли, как всех овец, на стационарных пастбищах. В XVII веке их так пасли и в Испании.
Империя Габсбургов охраняла свою экономику, покоившуюся на мериносах; за счет пошлин с вывоза их шерсти империя покупала множество сухих товаров – лен, бумагу и даже продовольствие. Выходя в октябре из Леона, Сеговии и других обжитых мест, мериносы путешествовали от ста до пятисот миль на юг; эту дорогу они делали примерно за месяц. У земли был владелец, она отчуждалась на время прохода стада. На случай конфликтов пастухов сопровождали вооруженные охранники и специальные чиновники. Пастухам запрещено было проходить только через огороженную и культивированную землю – поля, сады, виноградники. В 1320-х были опубликованы королевские указы, запрещавшие огораживать общинную землю. Переход огромных стад овец по бурым холмам Кастилии представлял впечатляющее зрелище. Для набожных жителей внутренних областей Испании то было живое свидетельство величия их пасторального королевства.
Кочевая жизнь мериносов ставила испанскую монархию перед уникальными трудностями. На стационарных пастбищах паслись стада овец-чурра. Два раза в год через них проходили стада мериносов. Надо было создать службу, которая взяла бы на себя решение конфликтов и ответственность за чистоту стада. Для всего этого существовало «Пастушье братство», или Места, – первое сельскохозяйственное объединение в европейской истории. Места не имела овец и не платила пастухам; она была гильдией, а не акционерной компанией.
Места ставила на мериносов клейма и учитывала их в особых книгах. Овец стригли под ее контролем; шерсть промывали и доставляли в порты, откуда она уходила во Фландрию и Англию. Непроданная шерсть помещалась на склады, дожидаясь новых кораблей; самый большой такой склад был в Сеговии. Употреблять мериносов в пищу было запрещено; только пастухи Месты могли использовать падших в дороге овец, то была одна из их привилегий. Все эти операции соединяли древние кочевнические практики со сложной логистикой, доступной только новому государству. С конца XV века глава Месты состоял обычно членом Королевского совета, испанского кабинета министров. То было царствование Фердинанда и Изабеллы, расцвет Испанской империи. Усилиями Месты распашка пастбищ была объявлена преступлением. Этот запрет сдерживал рост населения, но поощрял увеличение стад. Таким был испанский меркантилизм.
Хотя Места включала аристократов, владевших многими тысячами овец, большинство ее членов были овцеводами, которые сами вели свои стада в несколько сотен голов в сезонные кочевья. Это была представительная ассоциация среднего класса. Но в ее правлении сидели самые могущественные люди империи – личные телохранители короля и члены Королевского совета. Благодаря им пастухи Месты стали привилегированным сословием; они были освобождены от военной службы и могли не являться в суд, если их вызывали как свидетелей. В местных конфликтах их защищали должностные лица Месты; в конце XV века к ним прибавились еще и судьи инквизиции. Консульство в Бургосе собирало шерсть с местных рынков, загружало ей корабли и отправляло в заграничные фактории. По образу шерстяной монополии в 1503 году был создан Торговый дом в Севилье, который курировал всю коммерцию Испанской Америки, и прежде всего поставки серебра.
Около 1492 года, как раз накануне открытия Америки, империя оказалась в долговом кризисе и искала новые источники дохода. Изгнание евреев было одним таким проектом; давление на Месту было другим. Повышая налоги, последние Габсбурги просили у Месты кредитов или прямых субсидий; число мериносов уменьшалось, а поборы с них увеличивались. Карл I, король Испании и император Священной Римской империи, вовлек в эти транзакции Якоба Фуггера (см. главу 6); после 1545 года дом Фуггера распоряжался финансами Месты. Как раз в это время начался бурный рост цен на шерсть и другие местные товары, вызванный притоком серебра из Америки.
Большая часть шерсти теперь отправлялась на переработку в испанскую Фландрию; центром переработки был Брюгге. Все испанские корабли, перевозившие шерсть, должны были сопровождаться конвоем – иначе они доставались пиратам. Риск был велик, велики и транспортные издержки: в середине XVI века мешок испанской шерсти в Брюгге стоил втрое больше, чем в Бургосе. Испанская зависимость от сырьевого экспорта сформировалась задолго до разработки американского серебра. Оно усугубило проблемы: с ввозом серебра цена импортного сырья увеличилась впятеро, а цена шерсти всего лишь удвоилась. Объемы экспорта шли вниз, и с приходом Бурбонов старые истины подверглись ревизии. Просвещенный экономист Педро Кампоманес, который стал главой правительства в 1788 году, сократил привилегии Месты, считая их тормозом на пути развития. Кампоманес убеждал Карла III, что пахотная земля дает больше налогов, чем пастбища; что оседлые пастбища выгоднее кочевых; и что на северном побережье, где не было Месты, плотность населения была выше. Он написал два больших тома о вреде Месты, организовав для этого полевые исследования. Подобно его современнику Адаму Смиту, он считал, что землевладельцы лучше решат, как им использовать землю, чем государственные чиновники.
В XVIII и начале XIX века цена зерна росла, a цена шерсти падала. Мериносы теперь паслись по всему миру. Дело шло к войне, и правительству нужны были строевые лошади, а землю для них надо было отобрать у Месты. Кампоманес отменил самые необычные из ее привилегий; например, в 1799 году королевский указ запретил овцам пастись в виноградниках и оливковых рощах в любое время года (по традиции, после сбора урожая никто не мог им в этом помешать). В 1813 году испанские города впервые получили право огораживать общинные земли. То был ранний пример либеральных реформ: число чиновников и их доходы уменьшались, наделы и права простых людей увеличивались, а оправданием была эффективность и обороноспособность государства. Либеральные юристы объявили Месту «врагом городов»; к концу XVII века организация была на грани банкротства. Неожиданно оказалось, что в природе мериносов не было ничего такого, что препятствовало их содержанию в оседлости; а значит, государства в этом деле было не нужно, достаточно крестьян. Последний удар нанесла торговля: в 1720 году стадо мериносов продали в Швецию, потом они появились в Пруссии и Франции. Джозеф Банкс, участник первой экспедиции Кука и президент Королевского общества, вывез мериносов в Англию. В Северную Америку мериносов привез сам Джефферсон; будущий президент любил аграрные эксперименты, в его поместье в Вирджинии росли пьемонтский рис и редкие сорта винограда. В 1836 году новое правительство Испании запретило использовать слово «Места». И везде мериносов содержали теперь на стационарных пастбищах.
В Средние века Англия вывозила шерсть во Фландрию, где сформировался центр ее переработки. Потом английские законы стали препятствовать экспорту сырой шерсти, разрешая лишь вывоз готовых изделий из нее; так поощрялась переработка на месте. Спикер парламента сидел на мешке шерсти, утверждая ее значение в сборе налогов, а за контрабандный вывоз сырой шерсти отрубали левую руку. Внутренний рынок для шерстяных изделий был огромен; он формировал «коттеджную индустрию» – прядение и вязание шерстяных изделий на дому. Эти занятия дополняли земледелие, не требуя вложений капитала, и давали занятость женщинам. Как и в Испании, меркантилистская система отрабатывалась на шерсти и изделиях из нее.
В XV–XVI веках английские землевладельцы при поддержке парламента занялись огораживаниями земель. Смысл их был противоположен испанским огораживаниям: там они защищали крестьянскую землю от овец, в Англии они забирали землю у крестьян и отдавали ее овцам. Пшеничные поля и общинные выпасы крупного скота производили еду, которую крестьяне потребляли на месте, в натуральных хозяйствах. Теперь лорды забирали эту землю, огораживая участки для пастбищ, где овцы «превращали песок в золото». Проводя «улучшения», помещики получили право перекраивать участки, укрупнять поля и выселять арендаторов. Парламент увидел свою роль не в том, чтобы защищать лордов от королевских налогов, но в том, чтобы увеличить богатство лордов и доходы казны за счет крестьян. Товарные доходы увеличивались за счет уменьшения внутреннего потребления.
Переход от зерна и мяса, годных только для местных рынков, к товарной шерсти вызвал быстрый рост государственных доходов. Интересы лордов, купцов и короны наконец совпали. Производимая в английских хозяйствах или импортируемая из Испании, шерсть стала моносырьем – основой государственной экономики, главным источником доходов и предметом забот. Опережая камерализм, английская бюрократия эпохи Тюдоров поклонялась науке, собирала статистику, приглашала иностранных мастеров и презирала традиционное право. Но крестьяне, лишенные земель и выпасов, бунтовали; самым известным стало восстание Роберта Кетта в Норфолке (1549), подавленное военной силой. Три тысячи вооруженных крестьян были убиты, Кетт повешен в Норвиче. Испуганные власти стали ограничивать огораживания; но те еще продолжались десятилетиями. Выбор, который был сделан в пользу огораживаний, отражал философию, ставшую известной как меркантилизм: задачей государства были не слава суверена и не благополучие народа, но рост казны.
Лишившись земли, крестьяне сосредоточились на переработке шерсти. «Коттеджная индустрия» компенсировала обнищание домохозяйств, повышала роль женщин, которые становились добытчиками наличных денег, и создавала рынок. Готовые шерстяные изделия надолго стали главным предметом английского экспорта; потом к ним добавились похожие изделия из хлопка. То была долговременная победа меркантилистского режима, действующего подобно насосу, перекачивающему энергию крестьянской семьи из «сырой» сферы натурального хозяйства в «сухую» сферу товарообмена.
Между тем глобальные рынки сырья менялись. Шерсть вытеснила из оборота русскую белку, став легким и дешевым материалом для одеял и одежды. Рухнул могущественный Ганзейский союз. Поток серебра из испанской Америки привел к росту цен, от чего страдали европейские потребители, но выиграли производители местного сырья – шерсти, древесины, льна. В середине XVI века английское правительство ввело запретительные пошлины на вывоз шерсти, почти не обременяя вывоз готовых тканей и одежды. Английским аналогом испанской Месты стала Компания купцов-перевозчиков, которая на правах гильдии контролировала внешнюю торговлю шерстью; теперь она перешла на экспорт шерстяных тканей, которые англичане оставляли некрашеными. Сделанные в тысячах коттеджей из местной шерсти, ткани вывозились в Антверпен, где их красили и кроили, продавая готовые изделия по всей Европе. К концу века восстание голландских провинций против испанской короны, которое поддержал британский флот, нарушило эту торговлю. В Восточную Англию мигрировали сотни голландских прядильщиков, бежавших от религиозных преследований.
То было время присоединения Шотландии, шекспировского театра и падавших цен на сахар; казна остро нуждалась в деньгах. Разбив испанскую армаду на море, король Яков I хотел нанести соперничавшей империи решающее поражение в торговой войне. Его орудием стала политика меркантилизма, поощрявшая переработку моносырья и ограничивавшая его вывоз. В 1614 году мэр Лондона Уильям Кокэйн предложил запретить экспорт некрашеных шерстяных тканей, как раньше был запрещен экспорт сырой шерсти. Распустив гильдию шерстянщиков, король отдал Кокэйну монополию на окраску шерсти и ее экспорт. Не слушая фламандских беженцев, которые располагали нужной экспертизой, Кокэйн не сумел наладить производство: еще один сырьевой проект шел к катастрофе. Экспорт шерсти рухнул, лондонские купцы разорились, в деревнях начались восстания. В 1617 году король вернул шерстяную монополию Компании купцов-перевозчиков. Овцы продолжали переделывать песок в золото несмотря на падение цен. В этом еще одно отличие сырьевой экономики от товарной: первая продолжает работать, даже когда цены на сырье падают ниже себестоимости. Лорды давно инвестировали в землю, за нее больше не надо было платить, и любая прибыль была лучше, чем ничего. Но парламент отказал Якову в новых налогах; события вели к Славной революции, которая только усилила влияние торговцев шерстью. Меркантильный насос работал в полную силу. Впереди был переход от шерсти к хлопку, для которого крестьянский труд на британской земле был вовсе не нужен.
В руках человека волокна растительного и животного происхождения тысячелетиями конкурировали между собой. Животные стоят в пищевой цепочке выше растений, поэтому растительное волокно всегда дешевле животного: в расчете на единицу земли хлопчатник производит в двенадцать раз больше волокна, чем овца – шерсти. Менее прочный, чем пенька, но более удобный в обработке, хлопок дешевле шелка и прочнее, легче и тоньше шерсти. Для человека важным свойством оказалась способность волокон взаимодействовать с естественными красителями. Шелковые и хлопковые ткани отлично впитывают природные красители; шерсть красится гораздо хуже, а ткани из льна и конопли почти не впитывают естественные красители. Льняные ткани ценились белыми, хлопчатые ткани – цветными, и это различие определило их судьбы. От северных видов сырья хлопок более всего отличается тем, что он вызревает несколько раз в сезон, что обусловило непрерывный характер работы на плантациях. Как и сахар, хлопок требовал интенсивного, механического труда рабов, который сильно отличался от разнообразной, «ленивой» работы крестьянина. Хлопок был сырьем, более всего выигравшим от изобретения механических машин, а потом и парового двигателя – и от массового обнищания крестьянства, которое из-за хлопка переселялось в города, становясь пролетариатом.
Человек подвергал хлопковые растения искусственному отбору, оставляя на размножение семена с лучших растений – тех, которые наиболее соответствовали его нуждам в прочном и тонком волокне. Хлопок известен со времен Древнего Рима; ткань, сделанную из волокон этого белого пушистого цветка, привозили из Индии. В Средние века индийские ткани на верблюдах доставляли в Персию, оттуда в Византию и даже в Эфиопию. В отличие от Европы, в Африке пользовались спросом полосатые ткани с симметричным рисунком; тут большая часть хлопка шла на одежду, а не на обивку стен. В Китае XIV века налоги собирали шелком и хлопком; крестьян обязывали возделывать хлопок особыми эдиктами. С XVI века португальские корабли меняли индийские ткани на серебро и возили хлопок в Европу. Но там долго не знали, как растет хлопок; его воспринимали по аналогии с шерстью. Путешествовавший в Индию в XIV веке Джон Мандевиль писал о растении, на ветках которого, как плоды, висят овцы.
В начале XVII века хлопок рос на полудиких полях Южной Азии и Центральной Америки; сидя на низких стульях, женщины пряли нить и сматывали ее, пользуясь деревянным колесом на оси. Цветные индийские ткани, не имевшие европейских названий, – муслины, чиндзе и калико – доставлялись на каравеллах в порты Англии или Южной Европы, где продавались наравне с шелком. Кое-где в европейской глубинке тоже начинали прясть хлопок, но красить его не умели; некрашеный хлопок не мог конкурировать со льном, обращаться с которым европейцы умели гораздо лучше. Потом хлопок стали возделывать в венецианских колониях Средиземноморья. Лишенные собственных ресурсов, венецианцы были отцами экологического империализма: они обязывали колонии платить подати моносырьем – в одних случаях это была древесина, в других зерно, для Кипра это был хлопок. Хлопковые ткани с растительным или ориентальным орнаментом использовались для украшения интерьеров вместо шелковых панелей и шпалер. Искусство красить хлопок или печатать на нем рисунок долго оставалось монополией Индии.
В европейской одежде хлопок часто использовали в смеси с шерстью или льном. Этот материал назывался «фустиан»; предшественник джинсов, он был прочен и относительно дешев. Теплые цветные одежды, какие мы видим на зимних полотнах Брейгелей, были скроены из этого забытого материала; все это делалось дома, часто на простых станках. В Южной Европе рос спрос на одежду из крашеного хлопка; она вытесняла шелк. Индия не справлялась со спросом, и цена на ткани постоянно росла, удвоившись в течение XVIII века. Для торговли хлопком и другими восточными товарами были созданы акционерные компании; главными вкладчиками в них были суверены. Британская компания Восточной Индии специализировалась на вывозе хлопка в Европу, а Голландская компания зарабатывала на торговле между азиатскими державами.
Шелковые панели украшали спальни королей и алтари церквей. Мебель, стены и окна, обитые или занавешенные хлопковыми тканями, постепенно становились чертой жизни средних классов. В 1791 году толпа англикан громила дом Джозефа Пристли в Бирмингеме; он был радикальным протестантом и выдающимся химиком, первооткрывателем кислорода. От погрома Пристли и его семья спаслись бегством, а потом Пристли потребовал компенсацию от графства. Среди его потерь была супружеская кровать с хлопковым балдахином и комплектом белья. Пристли оценил ее в 25 фунтов; то была четверть его годового дохода.
Импорт сахара с островов Атлантики и хлопка из Индии сыграл решающую роль в становлении политической экономии меркантилизма. Но увеличение торговли хлопком подрывало традиционные интересы производителей шерсти – множества британских помещиков и арендаторов, которые получали доход с овец и прядильщиц. Технологии «коттеджной индустрии», выработанные для шерсти, легко переходили на хлопок. Но шерсть перерабатывалась на дому, а хлопок стал первым видом сырья, большая часть которого перерабатывалась на мануфактурах. Британское правительство запретило только ввоз готовых индийских тканей-калико, но Франция, Испания и Пруссия вообще запретили импорт хлопка. Тогда в Индии и началось обнищание; огромные области лишились своих привычных доходов.
Потом в дело вошли американские плантации. Путь из Америки в Англию был ближе, чем из Азии; меркантилистская система поощряла завоз сырья из колоний и ограничивала импорт готовых тканей. В течение XVIII века британский ввоз хлопка-сырца вырос в три раза, а вывоз готовых хлопковых товаров – в 15 раз. В 1780 году на Британских островах производилось шерстяных тканей в 10 раз больше, чем хлопковых. Через 30 лет их соотношение было примерно равным, а в 1850-м хлопковых тканей производилось в 6 раз больше, чем шерстяных. К этому времени, для того чтобы заменить шерстяными тканями продукцию британских хлопковых фабрик, понадобилось бы 168 миллионов овец, которые паслись бы на 50 миллионах акров луговых земель, что больше чем вдвое превышает всю площадь сельскохозяйственных угодий на Британских островах. Интенсивное земледелие американских плантаций дало Англии десятки миллионов «призрачных акров». Первая Промышленная революция была ответом на ресурсный переход от шерсти к хлопку.
В отличие от испанских колоний, доход которых зависел от труда американских индейцев, британские колонии не преуспели в их использовании; негры считались послушнее и выносливее, и они лучше переносили европейские болезни. Сахар, табак и хлопок – все три вида растительного сырья требовали больших плантаций и дешевого, механически повторявшегося труда. Тут работала экономия масштаба: чем больше хозяйство, тем дешевле обходилось производство и, соответственно, тем большей была прибыль. Хозяйства площадью менее четырехсот акров становились неконкурентоспособны. За два десятилетия середины XVII века капиталы землевладельцев на крохотном Барбадосе увеличились в семнадцать раз. Капиталы, сделанные на сахаре и роме, инвестировались в хлопок. Один англичанин в колониях создавал работу десятку своих рабов и еще четырем белым, работавшим на Британских островах. В 1698 году торговля людьми была признана правом любого джентльмена; при этом губернаторы английских островов Вест-Индии еще и получали бонусы за каждого завезенного раба. Риски были неслыханными. На трансатлантическом переходе пропадал один корабль из пяти; но в Ливерпуле считали, что даже если с грузом приходил один корабль из двух, владелец был в выигрыше. Знаменитый банк Barklаys был основан семьей квакеров, которые занимались работорговлей в Вест-Индии; Дэвид Барклейз владел огромной плантацией на Ямайке, но он сам освободил своих рабов. Страховое общество Ллойдс начало со страхования сделок с рабами и сахаром. Джеймс Уатт, который изобрел паровую машину, получал финансирование от банка, зарабатывавшего торговлей с Вест-Индией. Аббат Рейналь в «Истории двух Индий» писал, что труд рабов на островах Атлантики – это «главная причина того быстрого движения, которое захватывает мир». Прошли века, и новейшие названия этого движения колеблются между «экологическим империализмом» (Алфред Кросби) и «военным капитализмом» (Свен Беккерт).
Подобно сахарному тростнику, хлопчатник быстро истощал землю; но он менее требователен к температуре воздуха. В отличие от островов Вест-Индии, земля Луизианы казалась неограниченной. В дефиците был труд; плантации продолжали расти. В мире происходили войны и революции, а объемы торговли удваивались почти каждое десятилетие. Взрывной характер этого развития имел мало равных в истории; до того только сахар, потом только нефть росли подобными темпами. В Америке хлопковый бум стал причиной окончательного обезлесения континента. Новые плантации Луизианы требовали каналов, которые осушали болотистую почву. По ним же плантации получали снабжение – рабов, зерно, сушеную или соленую рыбу, льняные рубахи для рабов, конопляные веревки для тюков – и предметы роскоши для плантаторов.
Во имя эффективности плантации специализировались на монокультуре; они не производили ничего, кроме хлопка. Плантации не занимались переработкой; она противоречила британским законам и унаследованной культуре, которой жили джентльмены-плантаторы. Собранный хлопок надо было очистить, спрессовать в тюки и доставить в порт. Узким местом был процесс очистки: хлопковые волокна – элементы цветка, и каждое прочно сцеплено с семенем. Оторвать каждое волокно и выбрать семена было трудоемким делом. Изобретя зубчатый механизм, который повысил продуктивность очистки в 50 раз, Эли Уитни сделал возможным бурное процветание хлопковых плантаций американского Юга. Уитни запатентовал свое изобретение, но так и не смог добиться выплат; после многих судебных разочарований ему пришлось зарабатывать деньги усовершенствованием мушкетов.
Работа на полях шла круглый год; в декабре хлопок собирали третий раз в году, и его еще надо было очистить и спрессовать. Жизнь раба была совсем не похожа на жизнь крестьянина с его сложным хозяйством и периодами творческого безделья. Ориентированная только на прибыль, хлопковая плантация становилась первым капиталистическим предприятием, а рабы – первыми индустриальными рабочими. Не зря тех потом сравнивали с рабами.
На другом берегу океана, в Англии, росла коттеджная индустрия; то были домашние мастерские, которые использовали прядильные колеса и ткацкие машины, приводившиеся в движение человеческой рукой. Они помещались на чердаках жилых домов или ферм, и работа на них не требовала специальной подготовки, сочетаясь с другими видами сельского труда. В свое время эту особенную организацию производства назвали «протоиндустрией». Хлопковая протоиндустрия выросла из шерстяной, но масштабы были на порядок больше. Географически она была гораздо шире распределена, чем последовавшая за ней текстильная индустрия, которая тяготела к концентрации в одном или нескольких мегаполисах. Даже в 1833 году большая часть шерсти и хлопка в Англии перерабатывалась вручную, в деревенских мастерских. Но переработка хлопка полностью зависела от поставщиков и посредников. Они доставляли в деревни тюки сырца, забирали рулоны хлопкового полотна и доставляли их на швейные производства. Как всегда бывало, сырьевые посредники получали большую часть прибыли. Раздавая заказы в своей или соседних деревнях, они оплачивали их собственными деньгами; их бизнес был прост, риск огромен, а прибыли велики. Теперь прядильщицы, вязальщицы, ткачихи зарабатывали на свободном рынке труда, не выходя из дома. Пока они вязали или пряли, их мужчины работали на земле, поддерживая натуральное хозяйство. Но именно эта индустрия выводила деревню из натурального хозяйства на трудную дорогу товарного оборота и самоцельного роста. Получая наличность, крестьянские семьи могли тратить ее на сахар и чай, ром и джин, лошадей и упряжь и, наконец, на серебро и украшения. Многие, хотя и не все, из ввозимых в деревню товаров были колониального происхождения; самые массовые из них, от сахара и табака до модного ситца, порождали привычку и зависимость. Так происходило «разложение крестьянства», о котором потом писал Ленин, мечтавший о распространении подобных процессов в России. Действительно, это был прогресс. Развитие протоиндустрии в отдельных частях мира, вовлеченных в глобальную торговлю, – в Англии, Индии, Новой Англии, на беломорском побережье России – играло ключевую роль в изменении гендерных отношений, становлении массового потребления и переходе на новую модель семьи. Потом предприниматели коттеджной индустрии стали инвесторами Промышленной революции.
В английских деревнях развивалась окраска хлопка, которая зависела от далеких поставок экзотических и очень дорогих красителей из Азии – та самая окраска, которую под королевские гарантии не смог организовать Кокэйн. К середине XVIII века опыт художников-граверов позволил наладить печатание рисунка: краситель наносился на деревянные или медные пластины, а по ним прокатывали ткань. Имитируя индийские калико, которые теперь были под запретом, процесс печатания увеличил прибыли; в сравнении с индийскими технологиями продуктивность возросла в 80 раз. Требуя редких материалов, сложных машин и дальней логистики, все эти процессы становились очень капиталоемкими. Потом в дело включились химики; они подобрали краситель, который сделал ненужной очень дорогую кошениль.
Протоиндустрия налаживала посредничество между сырьевыми колониями, английскими крестьянами и городскими рынками – между рабским трудом за океаном, натуральными хозяйствами в деревне и капиталистическими рынками в городах и портах. Источник сырья, например шелка в Италии или хлопка в Англии, был далек и концентрирован; но система его переработки основывалась на распределении этого сырья по десяткам соседских деревень и тысячам работниц. Концентрация стоимости ведет к неравенству и агрессии; ее дисперсия ведет к занятости, конкуренции и творчеству. Промышленная революция сочетала оба этих начала, разнося их по разным континентам. Промышленная революция зависела от точечных ресурсов, таких как сахар, хлопок и серебро, и от диффузных ресурсов, таких как зерно, шерсть, уголь и конопля. Но точечная концентрация сырья и труда, несшая самое большое зло, происходила за океаном, в работорговых племенах Африки и рабовладельческих плантациях Америки; а добыча распределенных ресурсов и использование массового труда, сулившие равенство и дававшие развитие, происходили в Англии и континентальной Европе.
Как писал один из самых осведомленных деятелей революционной Америки, Александр Гамильтон, в природе хлопка есть что-то такое, что делает его необычайно приспособленным для применения машин. Шерстяные, льняные и шелковые фабрики стояли на водяных мельницах, но только на хлопковых фабриках работали паровые машины. Машины механизировали только повторяющиеся, однотипные операции, которые должны были сформироваться еще до появления машин.
Как ни рос ввоз хлопка, вывоз тканей рос еще быстрее. Сверхприбыль получал тот, кто мог отнять производство у коттеджей и собрать его под одной крышей, создав мануфактуру. В 1841 году в Манчестере уже работали 128 хлопковых фабрик – «сатанинских мельниц». Тут производили более половины всех британских тканей. Торговля хлопковыми изделиями составляла половину британского экспорта. В десятки раз упало число домашних мастерских, занятых хлопком и шерстью; они не могли выдержать конкуренцию с машинами. Никогда в истории человечества столь большая стоимость не производилась на столь ограниченной территории.
Историк Карл Поланьи считал Промышленную революцию «самым экстремистским преображением, к которому когда-либо стремились самые радикальные из сектантов». Новая вера была материалистической. Согласно Поланьи, она состояла в том, что «все человеческие проблемы могут быть решены при наличии неограниченного количества материальных ресурсов». Новые фабрики удивляли современников своими размерами, но они соответствовали природе перерабатываемого сырья: в 1835 году в Англии, на средней хлопковой фабрике работало 175 человек, а на шерстяной – 44. Сложные и дорогие машины почти все работали на хлопковых фабриках; паровые машины дополняли водяные колеса. Более прочная, хлопковая нить легче переносила напряжения и вибрации, связанные с работой паровой машины; более дорогая ткань быстрее окупала издержки. Прядильные машины заменили женскую руку; но преемственности с примитивными станками, которые работали в коттеджной индустрии, почти не было. Изобретателями новых машин были часовых дел мастера. Эти машины были дороги, и цена входа в этот новый бизнес была высока; в XVIII веке прядильные машины бурно внедрялись в Англии, но не прижились в Индии, где уровень заработков и накоплений был ниже. Так разрешился давний спор о том, какие заработки лучше для технического прогресса, высокие или низкие. Технологические прорывы происходят только в дорогих странах с высокими зарплатами и ценами. Где труд стоит дешево, его нет смысла заменять дорогими машинами. Внедрение новых идей зависело и от охраны интеллектуальной собственности: патенты обещали заработок изобретателям-одиночкам, на которых опирался технический прогресс.
Все больше разных машин – прядильные, очистительные и, наконец, ткацкие – использовали энергию падающей воды для разных операций по переработке хлопка. Ричард Оркрайт был первым, кто поставил на хлопковой фабрике паровую машину; ее запускали при спаде воды, чтобы поднять ее выше мельничного колеса. Он изобрел и «водяную раму», которая непрерывно ткала хлопковое или льняное полотно и поддавалась перенастройке. Эта система была внедрена в шотландской деревне Нью-Ланарк, которая в начале XIX века стала центром утопических экспериментов Роберта Оуэна, ученика Бентама и основателя социалистического движения в Англии. Оуэн предлагал ограничить работы 10-часовым рабочим днем, не брать на работу детей младше 12 лет и требовать от работников знание таблицы умножения. Этим правилам следовал Роберт Пиль, владелец двух водяных мельниц в Ланкастере; его сын стал премьер-министром Англии. Большие ткацкие машины, которые были поставлены на водяных мельницах, требовали для обработки той же массы сырого хлопка вдесятеро меньше людей, чем примитивные станки коттеджной индустрии. И это были другие работники: труд состоял из простых повторяющихся операций, и на новых фабриках трудились от звонка до звонка, рядом строили общежития. Окруженный скандалами, Оркрайт стал богат, что нечасто случалось с изобретателями. Оуэн потерял контроль над Ланарком в 1825-м; зато он прославился, основав Новую Гармонию, одну из самых успешных утопических общин Америки.
Крестьянские домохозяйства быстро беднели, избыточное население стягивалось в города. Узкий и нестабильный сектор новой промышленности, текстиль стал настоящей колыбелью пролетариата. Прядильные и ткацкие машины были очень далеки от роботов; их работа требовала непрерывного участия людей. На нижних уровнях эти люди сами должны были работать как машины – надежно исполнять свои обязанности, производя тысячи одинаковых движений и не делая ничего лишнего. Монотонный характер этого труда поражал и отталкивал крестьян; тут преуспевали дети, не имевшие опыта сельской жизни. В большей степени, чем корабли или шахты, фабрики формировали безличную массу человеческих тел, которым нечего было терять, кроме своего труда – отчужденную рабочую силу, подчинявшуюся ритму машины. Водяные мельницы привязывали переработку хлопка к немногим удобным плотинам, сохраняя сельский характер этой индустрии. Они стояли далеко от портов, обычно в предгорьях; плотины можно было ставить только там, где течение было быстрым, а берега надежными. С внедрением паровых машин эта индустрия стала городской. Фабрики, работавшие на угле, ставили в тех же прибрежных агломерациях, которые веками развивались благодаря дальней торговле. Промышленная революция вела к новой концентрации труда и капитала и, соответственно, к опустошению внутренних районов – до нее они жили распределенной коттеджной индустрией, следовавшей за аграрным расселением и за водяными мельницами, подчинявшимися причудам природы. Прибрежная урбанизация развивалась невиданными темпами; за ней следовало неравенство. Товарообмен между городом и деревней умножал силу меркантильного насоса: портовые и столичные города вбирали все – людей, сырье и капиталы.
Наполеоновские войны резко повысили спрос на все виды волокон; все они были нужны для нужд войны – для канатов, парусов, пороха, униформы, одеял и палаток. После войны спрос резко упал, рухнули и цены. Корабли с американским хлопком месяцами не разгружались в британских портах. Русские землевладельцы, вернувшиеся на пеньковый рынок в 1814 году, вновь лишились дохода. По сравнению с военными временами, зарплаты ткачей на английских фабриках уменьшились втрое. В Ланкашире, где сосредоточилась текстильная промышленность, начался голод. В августе 1819 года произошел знаменитый погром на поле Святого Петра в Манчестере, иронически названный Петерлоо по аналогии с Ватерлоо. Демонстрация текстильщиков – 10 000 человек, одетых по-праздничному, – требовала хлеба, работы и реформ. Толпа была рассеяна полком конных гусар, которые оставили на поле 15 убитых обоего пола.
1840-е годы были кризисным временем во всей Европе. Британская промышленность меняла сырьевую парадигму. Потребление хлопковых изделий в колониях перестало расти. Новая программа развития – металл, уголь и железные дороги – только формировалась. С тех пор она сменилась еще и еще раз, но мир продолжает производить и потреблять огромные количества хлопка – 123 миллиона тюков[1] в 2013 году. Если перестать производить этот хлопок, то вместо него придется развести семь миллиардов овец, для которых понадобится земля всей Европы, от Атлантики до Урала. «Великое расхождение», позволившее динамичному Западу обогнать инертный Восток, произошло благодаря одному из традиционных продуктов Востока, который столетиями вызывал восторг и подражание Запада – хлопку.
Благодаря таможенному тарифу 1822 года, который сознательно следовал меркантилистским принципам, на российских мануфактурах стало выгодно обрабатывать американский хлопок. Ситец шел на внутреннее потребление, и рынок был огромным. Хлопковые мануфактуры росли там, где уже существовала протоиндустрия, специализировавшаяся на льне. Подмосковные полотняные фабрики, работавшие на водных колесах, переделывали свои станки под хлопок. Село Иваново было давним центром старообрядчества; вокруг него формировались новые династии фабрикантов-текстильщиков – Грачевых, Гарелиных, Коноваловых; большинство из них были беспоповцами. Из 130 фабрик, бывших в 1844 году в Иваново, почти половина принадлежала крестьянам. Многие фабрики имели право на собственных крепостных, число которых доходило до тысяч. Наемный труд был дешев. Станки покупались за границей, как и хлопок; в 1832 году в Иваново появилась английская паровая машина. Бюрократов удивлял рост этого села, которое не было даже уездным центром; оно все принадлежало графу Шереметеву. Но экономический рост этих мест, когда-то беднейших, был феноменальным. Когда советские власти в 1929 году сделали Иваново областным центром, эта область стала третьей в СССР областью по стоимости выпущенной продукции.
В России не работал известный тезис, согласно которому капиталоемкие машины появлялись только в странах с высокой стоимостью труда. Согласно Дэвиду Аллену, если цена труда была низкой, как это было в Индии или Польше, работодателям было выгоднее нанять лишних работников и развивать коттеджные производства, чем тратиться на машины. Но в России протоиндустрия была недостаточно развита, спрос велик, труд дешев; но капиталы, накопленные преследуемыми религиозными общинами, особенно старообрядцами, были большими. За десятилетие перед Крымской войной число прядильных веретен утроилось. Американский хлопок-сырец дополнялся и постепенно замещался туркестанским. Благодаря азиатскому привозу цены на хлопок стояли на месте несмотря на всеобщее подорожание, связанное с Крымской войной. Потом они вчетверо поднялись во время Гражданской войны в Америке, которая среди прочих своих последствий дала толчок вывозу хлопка из Средней Азии в Центральную Россию.
Присоединенный к Российской империи в середине XIX века, Туркестан стал ее последней и самой прибыльной колонией. Россия шла в эти земли в надежде найти там металлы, но моноресурсом Туркестана стал хлопок. Качество бухарского хлопка поднялось, а поставки стали более надежными, чем из-за океана. После поражения в Крыму противостояние продолжилось в Туркестане: правительство хотело противостоять английскому влиянию, кто-то надеялся найти золото, а кто-то думал о том, что узбекские ханы тоже могут ввести протекционистские пошлины. После занятия Бухары и Ферганы хлопок оказался единственным видом местного сырья, который можно было довезти до России. Его вывоз увеличился в десятки раз, давая работу миллионам местных крестьян, тысячам рабочих Центральной России и еще множеству извозчиков, бурлаков и грузчиков, занятых на перевозке хлопка через полЕвразии. Из Ферганы тюки на верблюдах и по рекам доставляли к Каспийскому морю, а оттуда поднимали по Волге. Уже в 1865 году хлопок и текстиль давали 15 % торгового оборота Нижегородской ярмарки.
Переработка хлопка и в этом случае развивалась в тысячах километров от его произрастания. Гамильтон писал, что природа хлопка приспособила его для примеения машин; он мог добавить с еще большим удивлением, что природа создала хлопок для очень дальних перевозок. В Российской империи, в отличие от Британской, между центрами добычи и переработки хлопка не было океана – только огромные, малозаселенные степи и болота. Железная дорога от Самарканда до Каспия была закончена только в 1888 году, но даже и по ней путь до русских центров переработки все равно занимал полтора месяца.
Русские власти вели в Туркестане образцово-меркантилистскую политику, поощряя вывоз сырья, препятствуя его обработке на месте и сдерживая местное потребление. Этому помогала традиционная жизнь узбекских крестьян и непрямое правление, которое российские власти установили на большей части Туркестана. К концу века появилась, однако, новая угроза: крестьяне Центральной России стали массово мигрировать в Среднюю Азию, стремясь в ее оазисы, засеянные хлопком. Боясь перенаселения и этнических конфликтов, Петербург сдерживал эту миграцию. Генерал-губернатором края стал Константин Кауфман, прославившийся как покоритель Польши и Ферганы. Против ожиданий, он стал защищать местное население от русских колонистов, которые теперь играли роль сырьевых кураторов. Покупка туземных земель была запрещена; правительство ограничивало инвестиции и запрещало переселение в хлопководческие районы. Кауфман видел, что переход хлопководческих полей в русские руки стал бы кровавым и очень затратным предприятием. Гражданская война в Туркестане подняла бы российские цены на хлопок больше, чем Гражданская война в Америке. Охрана туземного населения от потока колонистов была редким моментом колониальной истории; она сравнима только с некоторыми действиями испанской короны в Южной Америке. Все равно русские банки эффективно лишали узбекских крестьян их земли; к 1914 году из-за долгов осталась без земли четверть хлопководческих хозяйств. За этим последовали крестьянские восстания, опередившие революцию в столице.
Цены на текстильные изделия росли в России вместе с ценами на хлеб, опережая все остальное. В 1900 году правительство вновь повысило тариф на ввозимый хлопок. Внутренние цены превысили международные; все равно российские столицы и порты увеличивали импорт дорогого европейского текстиля. При этом рост производства среднеазиатского хлопка и подмосковного текстиля зависел от внутреннего потребления в российских деревнях. Но меркантильный насос тут не работал. Уровень жизни в деревнях рос медленно. Распространение свекольного сахара повысило уровень крестьянского потребления, но вновь отделило дальнюю торговлю от крестьянских домохозяйств. Разделение труда происходило на путях отходничества. Попав в город, крестьяне быстро осваивали новые навыки; но они отказывались воспроизводить их, когда возвращались в деревню. То был мир, описанный Чаяновым в его модели моральной экономики, – мир, не нуждавшийся в росте. В отношении крестьян у государства XVIII века был кнут и пряник. У государства ХХ века остался только кнут.
Левиафан, занявшийся индустриализацией, имел один способ вмешаться в моральную экономию деревни: прямое насилие. Объясняя свои задачи летом 1928 года, Сталин говорил, что в капиталистических странах индустриализация происходила за счет ограбления колоний или побежденных стран. Большевики собирались провести ее за счет «внутреннего накопления», иначе говоря, путем ограбления деревни. Государство конфисковало немногие запасы, накопленные в крестьянских хозяйствах, переводя средства в развитие шахт и заводов. Крестьянство платило налоги, прямые и косвенные, и еще переплачивало согласно знаменитым «ножницам», покупая промышленные товары по завышенным ценам. «Это есть добавочный налог на крестьянство в интересах подъема индустрии… Это есть нечто вроде „дани“… этот добавочный налог, эти „ножницы“ между городом и деревней. Дело это, что и говорить, неприятное», – признавался Сталин. Он не соглашался с оппозицией, которая предлагала помочь крестьянам через «смычку между городом и деревней», что означало увеличение поставок текстиля в обмен на продовольствие. «Мы даем крестьянству не только ситец. Мы даем еще машины всякого рода, семена, плуги, удобрение и т. д… Смычка имеет, таким образом, своей основой не только текстиль, но и металл». Он продолжал довольно развернуто: «Чем отличается смычка по текстилю от смычки по металлу? Тем, прежде всего, что смычка по текстилю касается главным образом личных потребностей крестьянства», а смычка по металлу значила переделку крестьянства в соответствии с потребностями государства. «Как вообще можно переработать, переделать крестьянина, его психологию, его производство?» – спрашивал Сталин. Для этого планировались «машинизация земледелия, коллективный труд крестьянина, электрификация страны». Чтобы переделать русского крестьянина в пролетариат, сахар был не нужен, а ситца было мало. Для коллективизации и урбанизации – для советских огораживаний и обезземеливаний – нужен был металл.
Глава 6.
Череда металлов
Металлы интересно увидеть в их противоположности волокнам. Металлы имеют неорганическую природу, волокна – органическую. Металлы добывают под землей, волокна на земле. Металлы перерабатывают химическим путем, изменяющим их внутреннее качество; волокна – физическим путем, который соединяет их вместе. Переработка металлических руд требует особых, трудно достижимых условий, например высокой температуры. Вы можете расплести ткань до составляющих ее нитей; вы не можете разъединить элементы, из которых состоит сплав. При этом цены на волокна и металлы – основные виды промышленного сырья – вели себя сходным образом. Медленно поднимаясь на протяжении столетий, с XVIII века они отстали от цен на продовольствие и энергию, которые претерпели взрывной рост.
В отличие от волокон, которыми обычно занимались женщины, добыча руд и выплавка металлов были преимущественно мужским делом. В истории металлов было много прозрений и заблуждений. Больше всего в ней было случайных находок, переданных теми, кто сумел выжить несмотря на свои смертельно опасные занятия. Вся эта история была естественным отбором странных идей, рожденных если не самыми приспособленными, то очень удачливыми людьми – дарвиновским процессом длиной в восемь тысяч лет.
До массового применения металлов люди жили на заливаемых землях, где зерно росло при минимальных усилиях человека; обжигая глину на торфе, эти люди достигли многого – создали керамику, кирпичные дома, письменность и счет. Достигнув пределов численности, люди расселялись за пределы своей экологической зоны, и тут им снова повезло. В лесах и горах они нашли металлы, которые были нужны для рубки лесов и возделывания долин. В отличие от зерна и глины, металлы – точечный ресурс; возможности их добычи определялись местонахождением руд и транспортными путями.
Бронзовому веку предшествовал долгий период человеческой истории, когда металл, в котором ценились его блеск и редкость, был объектом поклонения. Медные топоры не были особенно эффективны: они валили дерево быстрее, чем каменные, но были трудоемки в изготовлении. Самородки отбивали камнем; так делали ритуальные украшения. В Библии это древнее состояние человечества описано как культ золотого тельца: когда народ впал в отчаяние, Аарон создал идола из сережек, которые носили в ушах мужчины и женщины Израиля. Переплавив тысячи украшений в коллективного идола, Аарон создал нацию. Потом с горы сошел Моисей, иноземный реформатор; он разбил тельца и научил евреев поклоняться только себе самим, своему труду и завету с невидимым Богом. Ту древнюю религию продолжает поклонение золоту, всеобщему эквиваленту денег, изобилия и самого труда. В этом культе есть парадоксальный смысл. Металлические руды распределены случайно, непостижимо и неблагоприятно для человека. Подстилая землю на недоступной глубине, они выходят близко к поверхности в складках земной коры. Обычно это горы – места с неплодородной землей и редким населением, далекие от морских путей и торговых городов, трудные для транспорта. Источники богатства – золотые прииски, серебряные шахты, а потом месторождения медной или железной руды – оказывались в самых бедных и далеких местах. Или наоборот, эти месторождения потому оказывались источниками огромных богатств, что были редки и далеки, давая расти монопольным ценам.
Поучительно сравнить историю металлов с историей самого распространенного природного ресурса – глины. Материал для кирпича и керамики, глина была величайшим благом для человечества; обжиг глины принес людям больше благ, чем любая другая технология. Но глина никогда не становилась предметом культа; равномерно распространенный ресурс дает благополучие, не создавая неравенства, и, значит, не приносит богатства. Гончары опережали кузнецов в своих технологиях; многие способы обработки металлов заимствовали свои приемы и орудия у обработки глины. Но только металлы, с их чудесными превращениями, разнообразным применением и монопольными источниками снабжения, создали общество, основанное на знании, неравенстве и росте. Время капитала совпало со временем металла.
Неравномерность руд была уникальной. Зерно росло почти везде, где жил человек, и почти везде были глина и дерево. Продовольствие и строительные материалы еще долго не подлежали перевозке, их надо было растить и добывать на месте. Удаленность руд заставила перемещать сырье и товары на большие расстояния. Металлы находили и перерабатывали в далеких горах, но люди долин могли менять на них свои меха и кожу, шерсть, шелк и лен. В обмене волокон на металлы развивались мореплавание и навигация, торговля и счет. Новыми центрами массового заселения стали островные гавани и портовые города. То были скорее транспортные узлы, чем плодородные зоны или шахтерские центры. Они совмещали древние и новые функции: тут были склады для хранения зерна, центры обработки волокон и рынки торговли металлами. Металлы заставили человека опознать земное пространство как источник неравенства, среду для торговли и обогащения, место для открытий.
Добыча и обработка металлов развивались от одного удивительного открытия к другому. Если в печь добавлять редкий черный песок, то сплав получался прочнее обычной меди. То была бронза, сплав меди и олова; из нее стали делать орудия и оружие. В болотах Месопотамии и дельты Нила редкостью был даже камень; медные руды, доступные разработке вручную, – еще более редкая находка, чем осыпи, на которых находили кремний или обсидиан. На Ближнем Востоке бронзовый век начался около третьего тысячелетия до нашей эры, в Италии тысячелетием позже. Зарождавшимся цивилизациям Ближнего Востока металлы доставляли кочевники Севера, менявшие их на продукты южных ремесел – ткани, обувь, керамику. Но в поисках дерева и металлов обитатели этих плодоносных низин сами мигрировали все дальше на север – в Ливан и Средиземноморье. Египтяне добывали медь в шахтах Синая и завоевали золотые копи Нубии; оружие, сделанное из металла, позволяло контролировать крестьян, копавших землю деревянными орудиями. Металлы принадлежали государству; власть, которая в древние времена была тождественна контролю над зерновыми складами, теперь была озабочена контролем над шахтами, печами и путями доставки.
Вооруженная мечом, плугом и колесом, цивилизация перемещалась на север. Кочевники всегда были лучшими кузнецами и торговцами, чем оседлые крестьяне. Но и в крестьянских деревнях появлялись мельницы и кузницы. Их владельцы жили меновой торговлей, а не крестьянским трудом и долго воспринимались как чужаки и маги; вероятно, многие из них действительно были иммигрантами. Основанный на природной неравномерности, бронзовый век был временем социального неравенства. Владельцы шахт и копей стали богатыми людьми; но и они зависели от тех, кто контролировал зерновые склады столичных городов и пути доставки – гавани, реки и дороги. Нужды металлургии требовали соединить в одном месте разные виды сырья – например, медь, олово и древесину, – которые добывали очень далеко друг от друга. Медная руда была доступна во множестве европейских месторождений; более редкое олово всегда возили издалека. Олова было нужно меньше, чем меди; в бронзовых сплавах оно обычно составляет меньше пятой части веса. Но именно олово ограничивало возможности экономики бронзового века. Другим вариантом изготовления бронзы был сплав меди с более доступным, но токсичным мышьяком. Кузнецы, работавшие с бронзой, жили недолго. Греческий бог кузнечного промысла, Гефест, изображался могучим в плечах, но хромым на обе ноги; зато он ковал изделия, любимые богами, и был женат на прекрасной Гебе.
Примерно тогда же, когда люди научились соединять олово и медь, они сумели отделить от них серебро. Делалось это в очаге, в котором дрова разогревали руду до предельных температур, доступных древесному горению; в таком очаге олово плавилось и стекало как из купели, а серебро оставалось в ней. Этот чудесный процесс до сих пор называют купелированием: подобно божеству, серебро рождалось в купели. В середине второго тысячелетия до нашей эры серебро стало средством платежа по всей Месопотамии.
Добыча серебра в Лаврийских рудниках определяла подъем Афин. Рудники принадлежали государству, хотя часто сдавались на откуп частным лицам; работали здесь безымянные рабы. Примерно с V века до нашей эры прибыли от серебра и олова, которые добывались в этих рудниках, финансировали строительство флота и содержание наемников. На это серебро Афины основывали зерновые колонии Северной Африки и Средиземноморья; так они сумели избавить себя и своих рабов от черной работы по добыванию хлеба насущного. Чуть позже фракийские рудники в северной Греции стали давать еще больше серебра; согласно преданию, одно время ими управлял Фукидид. Эти рудники были источником власти македонской династии, давшей миру Александра, покорителя Азии. Еще более богатые рудники были разработаны финикийцами в Испании. Считалось, что ими финансировал свои походы Ганнибал; действительно, за каждым античным полководцем стоял серебряный или медный рудник. Потом этими шахтами близ Кадиса владел Секст Марий, тот самый, которого казнил император Тиберий.
Римская империя расширялась подобно амебе, пуская отростки то в одну, то в другую сторону. По мнению знаменитого антрополога Джека Гуди, главным мотивом этих движений был поиск металлов. Целью колонизации Южной Италии была медь, Англии – олово, Испании – серебро. К привычному списку металлов римляне прибавили мягкий, легкоплавкий свинец, который был им нужен для строительства водопроводов и бань. Соли свинца растворимы в воде и в этом виде ядовиты. Считается, что римляне об этом не знали; они использовали свинец даже для консервации вин. Ацетат свинца слаще сахара, но его употребление вызывает отказ органов, а малые дозы влекут умственную отсталость у детей. Согласно одному исследованию, две трети римских императоров умерли в результате свинцовой интоксикации.
Плавильные печи, выкопанные в земле и обложенные кирпичом, появились в разных местах мира – в Западной Европе, Юго-Восточной Азии, Северном Китае. Для древних кузнецов, как и для средневековых алхимиков, температура плавления, а также цвет, твердость и ковкость определяли различия между металлами. Можно только удивляться их способности копать шахты, добывать руду и выплавлять металл, не зная геологии и химии, которые определяют эти умения современного человека. Технический прогресс определялся прорывами в другой сфере, которая была развита еще в Месопотамии: то была термическая обработка глины. Тяга в печи зависит от высоты трубы, которую можно было сложить только из кирпича. Плавильные печи с четырехметровыми трубами были верхом инженерного искусства бронзового века. В таких печах уже можно было плавить железо.
Бронзовый век был временем редких металлов и культурного расслоения. Хотя железные руды легче найти, чем медные, кузнецы предпочитали бронзу. Она не ржавела, была упругой и держала удар. Но у бронзы есть пределы прочности; из нее можно сделать короткий меч, но нельзя сделать длинную саблю. Бронзовые щиты и доспехи плохо защищали от грубого, но тяжелого оружия варваров. Бронза была слишком дорогой и нестойкой к износу, чтобы делать из нее плуг. В отличие от бронзы, которая от времени подвергается благородной патине, железо ржавеет, а потом разрушается. В Античности железо оставалось презренным металлом; кованое железо использовали для производства плугов, подков, гвоздей и дешевого оружия, которое давали пехотинцам. Но для бронзы нужно редкое олово; со временем нашествие «людей моря» – варварских племен с востока Европы, которые знали железо, – нарушило древние пути снабжения оловом.
Медь всегда была дорогой; олово оставалось экзотическим веществом, которое везли из дальних стран. Известны были самородки чистого железа, которые находили в метеоритах; они были реже и дороже золота. Эксперименты антропологов показали, что бронзовым топором можно срубить дерево втрое быстрее, чем каменным, а железным топором – в восемь раз быстрее. В горах, доступных людям Древнего мира, – в Анатолии, Италии, позднее на Балканах и Карпатах – были выходы железных руд. Их добывали в каменоломнях, ямах и колодцах. Но выходы железной руды на поверхность – такое же редкое явление, как долетевший до нее метеорит. Большую часть железа, которое добывалось в Древнем мире, находили в болотах и озерах. Такую руду сейчас называют лимонитовой, или просто болотной. Как и другие продукты болот, такая руда остается недооцененной историками.
Болотная руда – это невзрачные, шершавые камни-самородки, выделяющиеся цветом – от бурого до желтого. Они состоят из окиси железа и разных примесей; для современной металлургии они негодны, но у них есть свои достоинства. Прогресс в этом ремесле определялся использованием все большей температуры горения, потому что у разных металлов разная температура плавления; у железа она в полтора раза выше, чем у меди. Поддувая топку мехами, люди научились выплавлять из болотной руды комки пористого железа. Многократная ковка на горне удаляла из металла кислород и химические загрязнения. Этот процесс более трудоемок, чем выплавка бронзы, но железо из болотной руды плавится при удивительно низкой температуре, начиная с 400 градусов. Такой температуры можно достичь сжиганием торфа из того же болота; сжигая древесный уголь, из болотной руды получали вполне качественное железо. Кремний, которого много в болотной руде, делает изделия нержавеющими: эффект, которого столетиями не могли достичь кузнецы, ковавшие горное железо.
Железный век начинался неожиданными рывками, похожими на фальстарты. Смена сырьевой парадигмы случилась около XII века до нашей эры, когда таинственные «народы моря», пришедшие из-за Балкан, стали громить и грабить древние центры цивилизации. Пришельцы были вооружены железным оружием, и с этим же металлом были связаны их успехи в мореплавании. В Анатолии неизвестные до того хетты основали могущественное государство, основанное на железе; оно конкурировало с Египтом, главной державой бронзового века. Хетты ковали из железа мечи и топоры; из него же они делали детали своих колесниц. Более того, они делали что-то вроде доспехов; бронзовые копья ломались, столкнувшись с этим железом. Применение железа было массовым; от хеттов осталось много железных ножей и топоров, слитков и заготовок. После столетнего конфликта в Сирии империи египтян и хеттов столкнулись в грандиозной битве при Кадеше; тогда обе стороны объявили себя победителями. Но кризис нарастал, и «народы моря» вытеснили египтян из Леванта и Ханаана. Потом рухнуло и государство хеттов, не выдержав натиска фригийских всадников, совершавших набеги с севера. В это время появилось и железное оружие защиты – кольчуги, шлемы, нательные пластины и потом доспехи. То было время, когда массовая пехота, вооруженная железными мечами, одерживала победы над колесницами, с которых знатные воины пускали стрелы и махали копьями: период глобального разрушения старых жреческих элит, предшествовавший осевому времени. Археологи называют этот кризис «катастрофой бронзового века». Главным примером здесь остается Троянская война, как о ней рассказал Гомер на заре новой цивилизации: то была победа железной пехоты ахейцев над бронзовыми колесницами троянцев. И позднее лучшими мастерами по железу оставались варварские народы, у которых учились римляне, – этруски, финикийцы, кельты.
Изобретение железного плуга, заместившего деревянные мотыги и бороны, было главным фактором продуктивного земледелия. В древнем Израиле племя Яхве расчищало землю железными топорами, мотыгами и плугами. В Первом Храме царя Соломона, строительство которого было начато в 950 году до нашей эры, использовали медь и железо. Колеса, которые стали использоваться в тачках, повозках и боевых колесницах, требовали железных деталей. Потом плуг тоже поставили на колеса; сочетая дерево с железом, эти конструкции сделали возможным массовое использование тягловых животных. Плуг имела только историческая Евразия; до прихода переселенцев земли Америки, Африки или Океании не знали плуга.
Горн, плуг и колесо навсегда изменили гендерную динамику крестьянских хозяйств: освободив женщин от тяжкой работы на поле, железные инструменты усилили экономическую власть мужчин. Они же дали возможность женщинам заняться своими промыслами, в основном связанными с обработкой волокон. Поиск руд, работа в шахтах, ковка металла стали преимущественно мужским делом. Но это не всегда и не везде было так. Недооцененная история болотного железа позволяет думать, что в течение долгих веков руда добывалась не силой и расчетом, а местным знанием, и мужчины не имели в этом преимуществ. Увеличив площадь полей за счет лесов и болот, обострив конкуренцию за землю, железо и товары из него – плуг и оружие – усилили социальную стратификацию и государственную централизацию: права собственности на землю стали определять жизнь и богатство, а защитить их могло только государство.
Археолог В. Гордон Чайлд, прославившийся своим описанием железного века, считал его временем демократии и монотеизма. Доступность железных руд способствовала свержению прежних элит; обмен металлов на продукты крестьянского труда улучшал жизнь масс. Кузнечное дело стало массовой профессией; мастера долго совмещали свои особенные умения с обычными крестьянскими занятиями. В англоязычном мире самой распространенной фамилией является Смит, соответствующая русским, тоже очень частым, фамилиям Ковалев и Кузнецов. Много было в этом крестьянском мире и мельников; Миллер или Мельников тоже очень распространенные фамилии. Но кузницы и мельницы стояли в каждой деревне, а шахты располагались в далеких, загадочных местах. Неудивительно, что эти языки не знают распространенных фамилий, соответствующих профессии шахтера. Ужас подземелий и их удаленность от центров расселения затрудняли формирование профессиональной идентичности.
Смена опорного сырья и сопутствующая ей социальная катастрофа были определены техническим прогрессом, создавшим более дешевую и массовую альтернативу. По всему населенному миру, от Индии до Испании, переход от бронзы к железу сопровождался разрушением городов, ростом насилия и падением письменной культуры. Исчезли великолепные дворцы и торговые города Ближнего Востока. В Греции наступило «темное время», занявшее четыре столетия. Археологи видят признаки катастрофы в ухудшении качества керамики и в массовой миграции с морских побережий на вершины гор, где скотоводы могли защищать себя от пиратов. Поучительный урок этой первой, катастрофической смены сырьевой парадигмы в том, что она запустила цепной процесс разрушения старых элит. Прошли столетия смутного времени, прежде чем народы Греции и Израиля смогли найти новые пути культурного развития. Так началось осевое время – становление демократической политики, массовой религии и писаного закона.
Ранние методы обработки железа до сих пор не ясны. Главным его применением было оружие; постепенно железное оружие становилось дешевым и массовым, а бронзовое оставалось принадлежностью элиты. Военный успех хеттов и «народов моря» показывает, что им удалось создать железное оружие, не уступавшее бронзовому; нет согласия в том, как им это удалось. Температура плавления железа с тех пор не изменилась, и этой температуры невозможно достичь в печи, работающей на дровах. Согласно одному предположению, хетты не умели отливать железо, но ковали оружие, используя руды с высоким содержанием никеля и получая что-то вроде легированной стали; в Анатолии известны месторождения таких руд. Согласно другой гипотезе, хетты научились сочетать длительное «науглероживание» металла с моментальным «закаливанием». Пережигая измельченную железную руду с большим количеством древесного угля, они быстро остужали сплав в холодной воде. В этих условиях сплав кристаллизуется в особый материал, по свойствам сходный со сталью, но отличный по кристаллической структуре. Этот материал был открыт в конце XIX века немецким инженером Адольфом Мартенсом. Используя микроскоп, Мартенс доказал, что у этого материала высокая прочность и упругость; кристаллизация этого материала – принципиально иной физический процесс, чем закаливание стали. В 1902 году этот материал назвали мартенситом. Позже историки предположили, что мартенсит был открыт хеттами: это и было их загадочное железо, в боевом применении превосходившее бронзу. Возможно, наконец, что «народы севера» использовали болотное железо, которое привозили из скифских степей и еще более северных болот.
Загадочные хетты не передали секрет своего успеха потомкам. Выплавка металлов – удивительное дело; превращение тусклой руды в украшение или клинок – подлинная метаморфоза. Искусство оружейников состояло в замысловатых комбинациях из кованого железа и закаленной стали; такое оружие было легче и острее бронзовых мечей, но его изготовление было очень трудоемким. Металлургия – искусство, в котором больше неожиданностей и чудес, чем в других искусствах, тоже связанных с огнем и нагревом, например в приготовлении пищи или обжиге глины. Физические изменения более просты и предсказуемы, чем химические реакции, происходящие при нагревании и соединении разных веществ, – окислении, науглевоживании, купелировании. Эмпирическое знание, полученное тысячелетним процессом проб и ошибок, было тайным. Каждое поколение шахтеров, кузнецов и металлургов проходило через институт ученичества: в подмастерья отдавали с детства, ученик находился в полной власти своего учителя и, работая вместе с ним, проходил все ступени профессионального посвящения. Редкая и выгодная профессия могла передаваться от отца к сыну, но бездетные кузнецы (а их, судя по вредности их занятий, наверняка было много) легко находили себе подмастерий.
В мирной жизни Рим больше зависел от кирпича и дерева, чем от металла. Но каждый римский легион использовал тонны железа для защитного и наступательного вооружения. Чем длиннее тянулись границы империи, тем больше ей нужно было войск и крепостей и, следовательно, металла. В римских шахтах трудились в основном рабы; многие из них, однако, получали деньги за свою работу, а некоторые становились мастерами или управляющими. Плавильные печи размещались рядом с шахтами; они сводили леса и простаивали из-за недостатка топлива. Дешевизна рабского труда означала, что у хозяев шахт и печей было мало желания изменять их работу, которая и так приносила сверхприбыль; со времен этрусков технологии добычи и выплавки мало изменились. Но освоив железные топоры и плуги, римские колонии в Европе переживали расцвет аграрного производства. Освоение этих орудий во Франции и Британии продолжалось все раннее Средневековье; благодаря им регулярное земледелие продвигалось на север. Германские варвары, сражавшиеся с римскими легионами, уже были вооружены длинными железными мечами. Железные рудники в австрийских Альпах давали руду с высоким содержанием марганца; из нее плавили что-то вроде стали, хотя температура была недостаточной для литья. Но варвары – вестготы и викинги – ковали отличное оружие, сочетая болотное железо с магическими практиками, восходившими к культу мертвых. По всей Скандинавии археологи раскапывают кузницы, в которых находят кости человека и крупных животных, например лося. Веря в их магическую силу, кузнецы ковали болотное железо вместе с раздробленными костями, делая прочные мечи. Эксперименты показали, что костная мука в условиях низкого доступа кислорода науглероживает железо, создавая покрытие из прочной нержавеющей стали.
В отличие от римских армий, в которых железное вооружение было массовым, владевшие им средневековые рыцари принадлежали к узкой элите. На деле уход римских легионов из Западной Европы означал новую сырьевую катастрофу – закрытие шахт и кузниц от Испании до Британии и Трансильвании. Новые шахты в Саксонии, Тироле и Богемии были открыты, когда после падения Рима прошло около тысячи лет.
В Китае ханьского периода, наоборот, шахтерский и кузнечный промыслы развивались с феноменальной скоростью. Около Х века нашей эры китайские кузнецы делали оружие, монеты и изощренные украшения из бронзы и железа, которые обращались по Китаю и Южной Азии, а по Великому шелковому пути попадали и в Европу. Кузницы, стоявшие на плотинах, оборудовались водяными колесами; от них работали меха и молоты, которые требовали от человека не грубой силы, а высокого искусства. Освоение новых сортов риса привело к росту населения, строительству дамб и расцвету ирригации, что создало спрос на металлы и сделало возможным кузницы, работавшие на водной энергии. Чтобы защититься от фальшивомонетчиков и прочих конкурентов, властители Китая не раз объявляли монополию на горное дело. Медь, железо и соль были собственностью государства; иногда под запрет свободного хождения попадал даже металлолом. Но что-то постоянно шло не так, и эти указы приходилось издавать заново.
Производство железа в Китае в это время не имело прецедентов в домодерной истории. Железо использовалось для чеканки монет, для ковки мечей, щитов и пик, для создания судов, выделки плугов, строительства мостов и шлюзов. В расплавленный металл добавляли кровь жертвенных животных – овцы или буйвола. Изобилие орудий способствовало расцвету крестьянских хозяйств; осваивая интенсивное земледелие, они распахивали новые земли и проводили оросительные каналы. До Промышленной революции нигде в мире не было такого расцвета индустрии. Из железа делали статуи Будды и крыши пагод. Добыча и выплавка были сосредоточены в нескольких центрах Северного Китая: доставлять готовый продукт потребителю было легче, чем руду и топливо. В одном таком центре работали тысячи рабочих; вокруг шахт росли города с населением около миллиона человек в каждом. Дерева не хватало, но в Северном Китае рано стали использовать каменный уголь, который позволял достичь невиданной температуры горения. Здесь уголь соседствовал с рудами, и доставка шла по воде. Историки оценивают производство железа в Северном Китае в 100 000 тонн в год; для раннего Средневековья это умопомрачительная цифра. В середине Х века китайские шахты и кузницы добывали и выплавляли больше железа, чем в начале ХХ.
Конец этой ранней индустриализации был драматичным. Х век стал переломным: железное дело Северного Китая не просто обрушилось, а исчезло. На конец Суньской династии пришлось разочарование в горном деле; государство, основанное на конфуцианской этике, признало социальные проблемы, к которым вело моноресурсное развитие. Владельцы железных рудников и соляных копей стали богаче принцев. Сохранились документы начала XI века: ревизия обнаружила, что шахты создавали неравенство и порчу нравов. Вероятно, это было первое столкновение технической цивилизации с ресурсным проклятием; и «порча нравов» – понятие, которым оперировали суньские чиновники, – очень близка к современной «коррупции». Получая огромные доходы, владельцы шахт инвестировали их в роскошную жизнь, а не в улучшение шахт. Люди страдали от травм, шахты приходили в негодность. Хуже того, шахты вели к порче самого государства; сначала предприниматели платили взятки чиновникам, потом чиновники пытались забрать у них шахты. В 1078 году императорский указ запретил добычу металлов, обвинив шахты во всех бедах империи. Указ не соблюдался, но Суньское государство было обречено.
С монгольским нашествием в этих землях начались голод, наводнения и эпидемии; плотины и дороги были разрушены, торговля прекратилась, выжившие вернулись к натуральному хозяйству. Монголы ввели в обращение бумажные деньги, но им все равно были нужны сабли и копья; однако массовое потребление железных орудий прекратилось. Шахты так и не были восстановлены. Монголы ввели вотчинное владение и принудительный труд; предпринимателей больше не было. В этих условиях шахты и печи разрушались так же быстро, как дамбы и каналы. За три века население этих земель упало вдесятеро. С XI века до начала Второй мировой войны шахты Северного Китая не производили железа. Основанная на железе как моноресурсе, промышленная революция Северного Китая закончилась деиндустриализацией, ведшей к дикости.
Шелковый путь соединял Китай с Европой в течение всех этих столетий. Но секреты китайской металлургии не передались в Европу. Технологии использования каменного угля будут вновь изобретены только в Англии XVIII века. Интересно задаться вопросом, почему восточные секреты волоконных технологий передались в Европу посредством того, что в XVIII веке назвали «имитацией», а секреты металлургии не передались. Железо тяжелее шелка; на этих расстояниях соотношение цены и веса определяло возможности торговли, а значит, и подражания.
Границы европейского мира расширялись, следуя за поиском руд. В обмен включались все более далекие земли – богатая оловом Англия, медные месторождения Кавказа, серебро и медь Альп, леса и шахты Карпат. Торговлю металлами вели этнические общности сырьевых кураторов – сначала финикийские, армянские и еврейские, потом венецианские купцы. Европа обменивала свои металлы на «восточную роскошь» – сладости, специи и ткани, которые привозили португальские, испанские и, наконец, британские корабли. Первым центром этого обмена была Венеция; здесь оба вида сырья, металлы и волокна, подвергались глубокой переработке. Чтобы оснастить стотонные корабли, которые делали в Арсенале, нужны были древесина Балкан, металлы Альп, такелаж Балтики. Почти все деловое сырье, кроме продовольствия и кож, поступало в Венецию с севера. Работая на этот рынок, горное дело Центральной Европы развивалось новыми путями, которые не зависели от азиатской торговли и римской традиции. Новые промышленные центры создавались на границах немецкого и славянского миров – в Богемии, Саксонии, Штирии и Тироле. При многих германских дворах великим престижем пользовалась алхимия. Разочарованные в податях со своих крестьян, властители германских земель надеялись на глубину шахт и жар печей как на способ пополнения государственных доходов. От Мюнхена до Санкт-Петербурга кунсткамеры показывали местные минералы, кристаллы и руды вперемежку с экзотическими находками из колоний (китовый ус, шаманский бубен, кость единорога), трупиками новорожденных уродов, сахарными скульптурами.
Самым успешным предпринимателем горного Возрождения был Якоб Фуггер – как утверждает его недавний биограф, самый богатый человек из когда-либо живших на земле. Фуггер родился в 1459 году в Аугсбурге, текстильном центре Южной Германии. Через Аугсбург шла дорога из Данцига в Венецию, главный торговый путь средневековой Европы. Смешивая местный лен с египетским хлопком, семья Фуггеров размещала заказы прядильщицам и ткачам окрестных деревень, а потом сбывала фустиан на ярмарках Кельна и Франкфурта. Держали Фуггеры и контору в Венеции; там молодой Якоб, скромный подмастерье, получил свое деловое образование. Венеция была коммерческим центром тогдашнего мира. Шелк, перец и хлопок Востока менялись тут на французские вина, немецкую сталь, русские меха, италийскую пшеницу и венецианскую соль. Богатства текли через Венецию, как вода через ее каналы. Многие дворцы начинались как склады, нужные для дальней торговли, бартерного обмена и рыночной игры. Были здесь и первые банки; своими расписками, чеками и векселями они экономили серебро, которого всегда не хватало.
Закончив свое итальянское ученичество, 26-летний Фуггер решил сменить род занятий. Шахты в австрийских Альпах давали большие доходы, чем торговля полотном, но и риски были выше. Вложив семейные деньги, Фуггер купил шахту в Шваце, недалеко от Инсбрука. В 1409 году там начался серебряный бум. В XV веке цены на серебро в отношении к золоту были на историческом пике. Растущие рынки Европы требовали монет, новые богатые вкладывались в серебряную посуду, и серебра не хватало. В Швац переезжали шахтеры из Богемии, где серебро добывалось с римских времен, а к этому времени закончилось. Трактиры, гостиницы и церкви росли по мере того, как шахты уходили под землю; Швац стал вторым городом страны после Вены. В течение ста с лишним лет Швац производил четыре пятых всего серебра, циркулировавшего в Европе; до разработки мексиканских шахт то было самое большое месторождение в мире – сверхприбыльная монополия.
О состоянии горного дела тех времен известно по трудам Агриколы – саксонского врача и алхимика, ровесника Лютера. Рудные жилы он сравнивал с сосудами человеческого тела; как кровь собирается в артериях, так сила земли собирается в металлических жилах, проходящих сквозь каменные породы. В природе металлы находятся в смесях и сплавах; огонь очищает металлы, как вера очищает дух. В рецептах Агриколы, опубликованных на заре книгопечатания, руда много раз нагревается и охлаждается, дробится и промывается. Алхимики его круга открыли явление ликвации, один из основных процессов металлургии: при охлаждении сплава составляющие его металлы проходят кристаллизацию разными темпами и отделяются друг от друга. Они открыли и катализ: добавки некоторых металлов, например ртути, помогали отделению меди. В плавильных печах металлы вели себя как живые существа; вера в потусторонние силы была присуща этому ремеслу. Классик горного дела, Агрикола совсем не понимал химических механизмов того, что происходило в печах и кузницах. Он не знал кислорода и того, что горение является окислением; он не знал углерода и не понимал различий между чугуном и железом. Его язык оставался языком алхимии, который уподоблял процессы, происходящие с металлами, явлениям души и тела. Истощение шахты воспринималось как наказание за грехи, катастрофы были кознями дьявола. Агрикола знал, как устроить водяные колеса, как осушать шахты, как доставлять руду на поверхность. Он знал, до какого цвета надо довести раскаленный металл, чтобы ковать его, и сколько раз его надо плавить и ковать, чтобы выбить примеси. Книги Агриколы пространны и описательны, полны рисунков и цифр; его философией была неоплатоновская вера в чистые сущности, которые существуют в грязных смесях, но могут быть отделены друг от друга и, более того, только об этом и мечтают. На английский язык главный труд Агриколы, «De Re Metallica», перевели Герберт Гувер, будущий президент США, и его жена Лу. Горный инженер, Гувер писал в комментарии к труду Агриколы: «Стоит подумать о роли, которую металлы сыграли в цивилизации, чтобы поразиться тому, как мало знает об этом публика». Одна из причин состоит в том, что редко в какой области – может быть, разве еще в психологии – современный язык описания так сильно отличается от языка традиционной тысячелетней культуры, как в металлургии. В другой своей книге, «De Animantibus Subterraneis» (о созданиях, живущих под землей), Агрикола классифицировал демонов, живущих в шахтах: одни из них безвредны и даже бывают полезны, другие смертельно опасны. Гоблины несут зло, а гномы втихаря помогают шахтерам. Последний католический архиепископ Швеции Олаус Магнус, автор истории северных народов (1555), доказывал, что эти народы находятся в особом союзе с троллями. Медицина и металлургия, связанные с натуральной магией, распространялись с юга Европы на север; после Тридцатилетней войны, закончившейся взятием Праги шведскими войсками, новым центром магов и металлургов стал Стокгольм. Сам Декарт провел последние месяцы своей жизни под покровительством шведской королевы Кристины.
Финансистам удавалось то, что не получалось у алхимиков, – обратить вещества низшей природы в звонкую монету. Тироль принадлежал эрцгерцогу Зигмунду, из рода Габсбургов. Говорили, что у него было пятьдесят детей и серебра ему не хватало. Группа банкиров кредитовала его под письменные обязательства, исчислявшиеся в фунтах будущего серебра, продаваемого со скидкой. Со своим семейным капиталом Яков Фуггер присоединился к этой группе; многие из ее представителей тоже торговали волокнами, а теперь конвертировали капитал в металлы. В 1485 году Фуггер кредитовал Зигмунда: взамен он получал фунт серебра за восемь флоринов, а продавал его в Венеции за двенадцать. Потом Тироль проиграл войну с Венецией и должен был платить репарации; то была огромная сумма в 100 000 флоринов. Фуггер собрал ее для Зигмунда, потребовав полный контроль над шахтами Шваца. Скоро Фуггер решил сменить покровителя. Перестав субсидировать Зигмунда, он объявил его банкротом; Тироль перешел Максимилиану, императору Священной Римской империи, а шахты остались у Фуггера. Так текстильный капитал Аугсбурга превратился в шахтерские доходы Тироля, и суверены Европы начали учить первые уроки ресурсной политэкономии: судьба государств решалась не столько на поле боя, сколько в тихих кабинетах кредиторов. Более того, поскольку на поле боя воевали наемные армии, именно во время войны государи особенно зависели от своих кредиторов. А те, в свою очередь, зависели от шахт.
Сотрудничество между воинственным Максимилианом и расчетливым Фуггером продолжалось десятилетиями. В 1515 году Максимилиан поженил сразу двоих наследников, внука и внучку, на детях Владислава II, короля Венгрии и Богемии. Объединялись две великие династии, габсбургская и ягеллонская, – запад Европы вступал в династический брак с востоком. Для двойного брака была задумана небывало роскошная свадьба. Сам Дюрер изготовил для нее триумфальную арку; она была совсем как римская, но сделана из дерева, оклеенного бумажными обоями с напечатанным рисунком. Арка не была построена, и Дюреру не заплатили за трехлетнюю работу. У Максимилиана не было денег даже на свадьбу; он вновь брал в долг у Фуггера под залог шахт в Венгрии. Фуггер получил еще право чеканки монет: согласно контракту половина серебра с каждой монеты оставалась у Фуггера. Пока имперские войска воевали с турками, Фуггер занялся медными шахтами Карпат. Бронза, сплав меди с оловом, шла на пушки и мушкеты; из меди делали мелкую монету. Без венгерской меди Фуггера турки, наверно, заняли бы Венецию и Вену. Для отделения серебра от меди – этот процесс назывался ликвацией – требовался свинец. Его нашли рядом с Краковом; то была глобализация в действии – согласованная деятельность в разных концах мира для одного производственного процесса. Медь и серебро были единственными видами европейского сырья, на которые был спрос в Азии. Серебряные шахты Альп создали богатство Фуггера и славу Максимилиана, медные шахты Карпат умножили их.
После возвращения Колумба из Америки самые могущественные империи того времени, Испанская и Португальская, согласились разделить мир на две сферы влияния. Избегая войны, они провели вертикальную линию на почти пустой тогда карте Атлантики. Эта разграничительная линия шла вдоль Бразилии: все будущие открытия к западу от этой линии принадлежали Испании, к востоку – Португалии. То была «линия Тордессильяс», и ее утвердил римский папа. В 1498 году Васко де Гама обогнул Африку; на острове Ангедива, у западных берегов Индии, он встретил еврея, который пришел туда Шелковым путем из польской Познани. Этого человека, опытного в индийских делах, взяли в Лиссабон; там его крестили, дав ему имя Гаспар де Гама. Мануэль I, король Португалии, потом посылал Гаспара в коммерческие экспедиции, сделав его советником. Он участвовал в экспедиции, которая открыла Бразилию, и обсуждал устройство мира с Америго Веспуччи; может быть, во время этих разговоров пришло первое понимание того, что вновь открытые земли – не Индия. Став пионерами в торговле специями, португальцы меняли их на серебряные и медные слитки, возвращая прибыль монетами со всей Европы. В этом деле тоже участвовал Фуггер: в 1504 году он купил у короля Мануэля право на строительство перечной фабрики в Лиссабоне, поставляя за это Мануэлю тысячу тонн меди в год. Прибыль Фуггера на португальских купцах составляла почти 200 % годовых. Первое кругосветное путешествие Магеллана в 1519 году было организовано агентами Фуггера. Плывя под испанским флагом, португалец Магеллан достиг того, чего не смог Колумб: обойдя Америку с юга, он вышел в Тихий океан и нашел путь в Индию. Магеллан был убит бамбуковым копьем в схватке с туземцами на Филиппинах, но его команда обошла Африку и вернулась в Испанию. По дороге они нанесли на карту Молуккские острова – небольшой архипелаг между Австралией, Индонезией и Новой Гвинеей. Там росли самые дорогие специи восточной торговли – мускатный орех и гвоздика.
Все это время нюрнбергский мастер Мартин Бехайм делал глобусы для португальского короля, а португалец Диого Рибейро рисовал карты для испанского короля. Он еще сделал для Магеллана четыре астролябии, по дукату за штуку (доходы Фуггера уже исчислялись миллионами дукатов). Повертев глобус Бехайма, после возвращения экспедиции Магеллана «линию Тордессильяс» продлили на другую его сторону; то была новая «линия Сарагосы». Получалось, что Молуккский архипелаг оставался за Португалией. Но Диого Рибейро продолжал работать на испанского короля. На переговорах в Сарагосе он слегка изменил свою карту так, что Молукки достались Испании. Знания эксперта, работа которого едва оплачивалась, принесли неслыханные сокровища. И карту Рибейро, и глобус Бехайма можно рассмотреть на знаменитой картине Гольбейна «Послы»; вместе с турецким ковром, книгой лютеранских гимнов и бронзовой астролябией они составляют фон мирового конфликта. На переднем плане два посла новых сверхдержав – Франции и Англии – говорят об очередном разделе мира. На полу лежит памятный всем череп.
Купив поместье на границе нынешних Австрии, Италии и Словении, Фуггер сделал его центром своих промыслов. В Арнольдштейне стояли плавильные печи, а руду подвозили с шахт со всех Карпат. В этих шахтах впервые применялось осушение водными колесами. В деле участвовал саксонский инженер Иоганн Турцо, знаток ликвации; породнившись с Фуггером, он управлял шахтами и печами. Но Фуггер нанимал и алхимиков, которые должны были превратить медь или свинец в золото. Одним из них был Парацельс, отец современной медицины; в отношении болезней и способов лечения он сделал примерно то же, что Агрикола сделал в отношении металлов и шахт.
Шахтеры были вооружены молотами, ручными бурами и долотами, и еще масляными лампами; работа на глубине была смертельно опасна. Шахты и печи требовали дров и воды; леса вокруг плавильных печей вырубались на многие мили вокруг, а реки запруживались и по каналам отводились к шахтам, чтобы двигать их колеса. То было масштабное изменение природы – наряду с осушением болот, первое преобразование такого рода. Укрепленные деревянными конструкциями, вертикальные шахты и горизонтальные шурфы прорезали месторождение на сотни метров. Шурфы были узкими и низкими; шахтеры рубили породу, ползая на животе, а потом оттаскивали мешки с рудой. В шахтах происходили обрушения, затопления, взрывы, выходы ядовитых газов; оказать помощь жертвам было невозможно. Даже солдат на поле боя мог рассчитывать на большее участие со стороны тех, кто его туда послал. Зато годы работы в шахте воспитывали рациональность, осторожность и солидарность. Труд в шахте был сезонным почти как на поле, потому что зависел от полноты рек, приводящих в движение шахтные механизмы; но в отличие от крестьянской, работа была каждодневной и интенсивной, требовала разделения труда, совместных действий и дисциплины. Считалось, что рядовой шахтер зарабатывал на треть больше крестьянина; его жена не работала в поле, а занималась детьми и домом. Гендерные различия жестко определяли трудовые роли. Шахтеры, ежедневно рисковавшие жизнью и всецело зависевшие друг от друга, первыми стали защищать свои групповые права. Их гильдии в Альпах обладали редкой силой; уже в конце XV века они вели переговоры с владельцами шахт, влияли на зарплаты, поддерживали вдов и определяли длительность праздников. Шахтерские гильдии не раз объявляли забастовки, а их лидеры подвергались аресту.
Успех в горном деле обещал продвижение по службе или даже самостоятельное дело. Отцом Мартина Лютера, творца Реформации, был шахтер из Саксонии, который стал бригадиром и, под конец жизни, владельцем медной шахты. Благодаря этим доходам его сын мог учиться в университете и заниматься правом, пока не стал монахом. Мартин рос в шахтерском городке Мансфелде, появившемся среди шахт и печей, вырубленных лесов и закопченных полей. С XIII века там добывали серебро, а во времена Лютера-старшего выплавляли медь – до четверти всей европейской продукции. Процесс требовал дорогих печей и кредитов; Мансфелдом занимались банкиры южных княжеств, интересовался им и Фуггер. В городе было около ста плавильных печей, и ими управляли мастера; это была почетная и доходная работа. Ганс Лютер распоряжался семью печами, на которых работало двести рабочих. В шахтах работало множество мигрантов и иностранцев; лучшими шахтерами считались выходцы из Богемии. Они умели отстаивать свои интересы, писали коллективные прошения и жалобы, сохранившиеся в архивах. В 1511 году местные шахтеры образовали профессиональное братство.
Медь давала сверхдоходы местным землевладельцам; во времена Лютера владетельные графы построили вокруг Мансфелда три замка. Между владельцами случались конфликты, между шахтерами драки; под землей права собственности было трудно разграничить. После работы шахтеры пили, алкоголь снимал напряжение. Трудовая миграция одиноких мужчин вела к порче нравов, в городе было много трактиров и борделей. Тяжкая работа одних вела к обогащению других. Среди шахтеров, работавших в диких условиях, появились тяжелые болезни; Парацельс написал целую книгу об особенных шахтерских болезнях легких, живота, кожи. Но Лютер на всю жизнь сохранил привязанность к Мансфелду и понимание его проблем. Фуггера он ненавидел; благословив инвесторов и даже ростовщиков на добрые дела, Лютер писал страстные обличения, направленные против монополиста, богатевшего на шахтерском труде. По мнению Лютера и его сторонников, шахты закрывались потому, что их обирал Фуггер. Потом ревизии показали, что прибыли Фуггера были семикратными. В среде шахтеров – местных почитателей Лютера – появилось что-то вроде протестной солидарности; занимая шахты, они бастовали. Теряя прибыли, владельцы ограничили рабочий день, шахтерам давали отпуска. Но Фуггер был жестким управленцем; считалось, что его люди убивали активистов. Он настаивал на аресте Лютера и предании его церковному суду. Деньги Фуггера стояли за имперским Конгрессом в Вормсе, который осудил Лютера; после этого события император Карл V передал Фуггеру контроль над всем книгопечатанием империи, сделав его верховным цензором. Карл правильно понял, какое значение имели типографские станки для распространения Реформации. Но он неверно решил, что справиться с этим новым и прибыльным делом сможет тот, чье дело было еще более прибыльным.
В конце жизни отец Мартина Лютера был в долгах и продал свое дело, перейдя на зарплату. Сыновья его унаследовали землю и дома, но шахта досталась кредиторам. Количество действовавших шахт и печей уменьшалось, доходы становились мизерными, из города уходили люди. На спаде сырьевого цикла начались конфликты между выгодополучателями. Зимой 1546 года Лютер отправился решать спор между пятью графами Мансфелда; недовольные падающими доходами, они сами занялись управлением шахтами и сразу вошли в имущественный конфликт. Лютер считал, что во всем виновны зависть и дьявол; он уговаривал графа Альбрехта, своего сторонника, помириться с братьями и передать управление специалисту. Этого не произошло, и Лютер решил сам взяться за дело. Приехав в соседний Эйслебен, он встречался с графами и выслушивал их жалобы; за этим занятием он и скончался. Лютер сумел потрясти мир глобальной Реформацией, но умер, посредничая в трудовом конфликте между работниками и владельцами местных шахт.
К 1560-м годам горный бизнес в Мансфелде вовсе прекратился. Его серебро и медь не могли конкурировать с металлами, которые привозили из Нового Света. Лютер и шахтеры могли и не знать этого; химические процессы, с которыми они имели дело, были им понятнее экономических. Сложная и трагичная, жизнь требовала нового осмысления. Религиозное учение, изменившее христианскую жизнь, возникло именно в этой среде. Лютер не верил в приметы и предрассудки. Но идея всемогущего Бога, волю которого нужно принять, но нельзя понять, владела его изощренным воображением так же, как и жизнями его земляков, ежедневно спускавшихся в шахты.
Имея монополию на серебро, Фуггер ставил своей целью и монополию на медь. Ради борьбы с немногими соперниками, владельцами карпатских поместий, он шел на демпинг. Перенасытив медью венецианский рынок, он сумел так снизить цены, что несколько соперников объявили себя банкротами и их шахты достались Фуггеру. Потом на его пути оказался Ганзейский союз – он перехватывал суда Фуггера, возившие медь через Любек. Но могущество Ганзы было уже подорвано. В 1494 году московский царь Иван III прекратил ее монополию на торговлю в Новгороде; столетие спустя Елизавета Английская последовала его примеру в Лондоне. Традиционный лов сельди в Бергене истощался. Лесные товары севера были нужны все больше, но тут Ганза конкурировала с вездесущими голландскими купцами. На Балтийском море их поддерживала Швеция, все более сильный соперник. Со своей стороны, Фуггер щедро платил Данцигу и Любеку, чтобы те перестали поддерживать монопольные права Ганзы. История и в этот раз была на его стороне: в XVI веке Ганза прекратила существование.
Ганза была крупнейшей торговой организацией Средних веков. Она вела торговлю древесиной, мехами, зерном, шерстью и коноплей на Балтийском и Северном морях, от Лондона до Новгорода. Союз располагал десятками баз и складов, сотнями вооруженных судов, тысячами квалицированных работников. У него был коммерческий опыт и политические связи по всей Европе. Стратегией Ганзы была диверсификация – сельдь в Бергене, мех в Новгороде, древесина в Риге, зерно в Данциге. Провал Ганзы означал победу монополии. Власть над миром дает одно-единственное сырье, если его контролировать всеми силами и средствами. Фуггер воплощал стратегию моноресурса, и она оказалась победоносной.
Монополия зависела от геополитики. После смерти Максимилиана, бывшего на содержании у Фуггера, императорский трон перешел к Карлу V, впервые соединившему две империи, Священную Римскую и Испанскую. Фуггер кредитовал и его; медные рудники в Тироле и Венгрии остались за ним, но от Карла он получил еще и ртутные шахты в Испании. Для Фуггера то было органичное расширение его стратегии. Теперь ртутью очищали серебро. Владея ртутью, Фуггер держал в руках далеких соперников по всему свету.
В 1514 году Фуггеру пришлось собирать деньги для взятки папе Льву X, сыну Лоренцо Медичи. Тогда в сотрудничестве с высшими иерархами католического мира родилась новая финансовая схема. Веря в небесную монополию на спасение, католическая церковь утверждала свое исключительное право решать земные дела. Для этого ей нужны были деньги; духовную монополию надо было перевести в экономическую. Церковь давно отпускала грехи взамен на пожертвования; новость состояла в кодификации этой процедуры. Бумаги, которые выпустил папский престол, заменяли покаяние определенной суммой флоринов. Теперь вместо молитв и добродетельной жизни человек приобретал спасение, покупая индульгенции. Поскольку бумажных денег не было, грешник платил серебром; в руках у него оставалась ценная бумага, номинированная в днях, которые душа грешника проведет в чистилище: чем дороже бумага, тем меньше будущих страданий. Будущее спасение представлялось чем-то вроде будущих доходов; его можно выгодно, с дисконтом выкупить уже сейчас подобно тому, как покупал не добытые еще металлы Фуггер. Рынок индульгенций появился в Европе раньше других рынков ценных бумаг, например акций, и раньше бумажных денег. Искусство финансиста состоит в манипуляции будущим, и, когда он вступил в союз с собственником этого будущего, куратором спасения, он знал, что делать. Соединившись с духовной монополией на спасение, ресурсная монополия на серебро претендовала на установление окончательного монотеизма. Торговля индульгенциями – обмен серебра на спасение – была лишь внешним выражением этого единства. Монополия удобна государству для взимания налогов, стабилизации цен, упрощения менеджмента и укрощения элиты; везде, где промыслом занимается государство, монополия становится сущностью сырьевой торговли.
Лев X объявил, что прибыли от индульгенций пойдут на строительство собора святого Петра в Риме. На деле эти деньги делились поровну между папой и Фуггером. Первые индульгенции были проданы в Аннаберге, шахтерском городе около чешской границы. Потом этот прибыльный бизнес распространился по германским землям и всей католической Европе. Как у всякой ценной бумаги, у индульгенции появились подделки, обещавшие то же самое по более низкой цене. Индульгенции вызвали яростную отповедь последователей Лютера; то был важнейший момент становления Реформации.