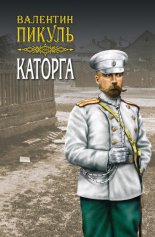Город лестниц Беннетт Роберт

– Что ненавидишь?
– Что мы разные.
И надолго замолчал.
– И то, что мы, похоже, не очень-то хорошо знаем друг друга.
Шара наблюдала, как гребцы мчат свои суденышки по реке. Вздувались блестящие от пота мышцы. Сначала промчались девушки, а за ними – юноши. Одеты они были гораздо легче, и мускулатура просматривалась прекрасно.
Ей показалось? Или шишка у нее за спиной стала тверже, когда юношеская команда вырвалась на утренний свет из тени ив?
Он вздохнул:
– Ну и денек.
Мы не можем быть самими собой. Нам не разрешают. Быть собой – это преступление. Быть собой – это грех. Быть собой – это воровство.
Мы – работа. Только работа. Мы – древесина, вырубленная из деревьев родного края. Мы – руда, исторгнутая нами из костей нашего края, мы – кукуруза и пшеница, что мы выращиваем на наших полях.
И мы никогда не будем иметь части во всем этом. Мы никогда не будем жить в домах из срубленных нами деревьев. Мы никогда не сможем отковать и выплавить инструменты из металла, который мы добыли. Все это – не для нас.
Мы живем не для себя.
Мы живем для тех людей, что живут за большой водой. Для детей богов. Мы для них – такой же металл, камень и дерево, они нами пользуются.
Мы не протестуем, потому что у нас нет голоса. Иметь голос – это преступление.
Мы даже и подумать не можем о том, чтобы протестовать. Думать о таком – преступление. Вот эти слова – слова, что вы слышите, – они украдены у меня.
Мы – не избранные. Мы – не дети богов. У нас нет души, мы дети праха, мы как грязь и глина.
Но если это так, то почему боги нас вообще сотворили? И если наше предназначение – только трудиться ради чужого блага, зачем они дали нам разум, зачем одарили желаниями? Почему бы не сотворить нас безмысленными, подобно скоту в полях или курам на насестах?
Мои праотцы и праматери умерли рабами. Я умру рабом. Мои дети умрут рабами. Но если мы – всего лишь собственность детей богов, то почему боги разрешили нам испытывать горе?
Боги жестоки не потому, что заставляют нас работать. Они жестоки, потому что позволяют нам надеяться.
Анонимное свидетельство из Сайпура, ок. 1470 г.
То, что у него получается лучше всего
Дом семейства Вотровых – одно из самых современных зданий в Мирграде. Однако по виду ни за что не догадаешься: приземистый, грузный домина громоздится перед тобой массой серого камня, и даже трогательно-хрупкие контрфорсы не исправят впечатления. Растопыренные в стороны стены испещряют крохотные, подобно дырочкам от булавки, оконца, в некоторых пляшут узкие язычки свечных огней. С севера вечно поддувало холодом, но с южной стороны дом раскрывался уступами террас, постепенно сужавшихся до крошечного вороньего гнезда на самом верху. Шаре, привыкшей в Сайпуре к воздушным минималистским сооружениям из дерева, здание напоминает уродливый водяной полип. Есть в нем что-то примитивное, дикарское. Однако по мирградским меркам это совершеннейший авангард – ибо, в отличие от особняков других знатных семейств, этот был выстроен с оглядкой на холодную и ветреную погоду. А климат в Мирграде, как ни посмотри, резко изменился не так уж давно.
«Эти люди скорей умрут, чем признают, что мир изменился», – думает Шара, покачиваясь на заднем сиденье автомобиля.
Сердце трепещет. Неужели он вправду там, внутри? Она не знала, где он живет, а теперь видит этот дом и осознает: да, у него была своя жизнь, с ней не связанная. И эта мысль внушает странную тревогу.
Спокойнее, спокойнее. Нельзя давать волю этим мысленным шепоткам и бормотаниям. Шара приказывает шепоткам в голове замолчать, но от этого они становятся лишь громче.
К воротам особняка тянется громадный хвост из автомобилей и карет. Шара наблюдает, как самые богатые и знаменитые граждане Мирграда выбираются из своих разномастных транспортных средств, пряча лицо в воротники пальто. На улице стоит мороз. Очередь движется крайне медленно, и только через полчаса нетерпеливо бормочущий, кривящийся от недовольства Питри заводит машину в ворота и подкатывает к дверям.
Лакей встречает ее взглядом хладным, как ночной ветер. Шара вручает ему официальное приглашение. Тот забирает его, коротко кивает и указывает рукой в белоснежной перчатке на дверь – которую демонстративно не собирается открывать.
Амортизаторы душераздирающе скрипят, и из авто выбирается Сигруд. И ставит ножищу на нижнюю ступень лестницы. У лакея едва заметно дергается щека, и он, отвесив Шаре глубокий поклон, распахивает дверь.
И она переступает порог особняка. На скольких вечеринках ей удалось побывать – и каких! Там среди гостей прохаживались генералы, предводители бандформирований и гордые своим ремеслом убийцы. И тем не менее – никогда она не боялась так, как сейчас…
Интерьер особняка резко контрастирует с его суровым внешним видом – внутри все отделано с непринужденной роскошью. Холл освещают сотни газовых рожков под голубоватыми стеклянными колпачками, под куполом потолка сверкает хрустальная люстра невозможно сложной конструкции, похожая на гигантский светящийся сталактит. В центре зала полыхают огнем два огромных камина, а винтовая лестница, закладывая широкие круги, полого уводит вверх, под сумрачные своды дома.
Голос в ее голове – очень похожий на тетушку Винью, кстати, – произносит: «Ты могла бы жить здесь с ним. А всему виной – твоя гордость».
«Он меня не любил, – отвечает она. – И я его не любила».
Нет, она, конечно, не дурочка и не станет убеждать себя, что это правда. С другой стороны, и не совсем ложь…
– Он такой огромный, – слышит она голос рядом с собой, – потому что у него в кармане все строительные компании, будь они неладны. Вот почему.
Мулагеш стоит возле колонны по стойке смирно. У Шары начинает болеть спина от одного взгляда на губернатора. На Мулагеш – военная форма. Отглаженная, пуговицы начищены, ни пятнышка, ни пылинки. Волосы увязаны в строгий узел, черные сапоги сияют зеркальным блеском. Левая сторона груди увешана медалями, причем наград так много, что неуместившиеся висят и справа. В общем и целом она выглядит не как хорошо одетая женщина, а как тщательно собранный из отдельных деталей человек. Шару так и подмывает пощупать швы на френче на предмет заклепок.
– Прежний дом исчез в Миг, – говорит Мулагеш. – Во всяком случае, так мне сказали.
– Приветствую, губернатор. Выглядите… впечатляюще.
Мулагеш кивает, но глаз от толпящихся у камина гостей не отводит.
– Люблю напоминать этим гражданам, кто есть кто, – говорит она. – Дипломатия дипломатией, а военное присутствие Сайпура в моем лице со счетов пусть не сбрасывают.
Солдаты бывшими не бывают, это точно. Рядом с камином возвышается постамент. На нем – пять небольших статуй.
– Я так понимаю, что это и есть повод для вечеринки? – спрашивает Шара.
– Похоже, что так, – кивает Мулагеш.
Они с Шарой неторопливо направляются к статуям.
– Должен состояться аукцион, выручка пойдет в фонд партии «Новый Мирград» – ну и на другие столь же полезные, хм, дела. Вотров – известный меценат. Кстати, смелые идеи у скульптора, вы только посмотрите на это…
И впрямь: это не обнаженная натура в прямом смысле – все интересные места либо задрапированы одеждой, либо закрыты, к примеру, грифом гитары. Три женские статуи, две мужские, ничего особо красивого: приземистые, коренастые фигуры, с широкими бедрами и толстыми ляжками.
Шара щурится, читая подпись под скульптурной группой, и читает вслух:
– «Крестьяне на отдыхе».
– Угу, – кивает Мулагеш. – Ровно две вещи, о которых в Мирграде не желают задумываться: нагота и бедность. Впрочем, наготу здесь вообще не переносят на дух.
– Я в курсе местных взглядов на сексуальность.
– Такими взглядами испепелить можно… – бормочет Мулагеш, подхватывает с подноса проходящего мимо лакея бокал с элем и наполовину осушает его. – С ними даже говорить об этом невозможно.
– Да, это вполне ожидаемо. То, что здесь косо смотрят на наши… более прогрессивные представления о браке, широко известно, – сухо отвечает Шара.
Мулагеш фыркает:
– Не знаю, когда я замуж выходила, ничего прогрессивного в наших представлениях не заметила.
Во времена владычества Континентальной империи сайпурцы рассматривались как движимое имущество, и хозяева (как корпорации, так и отдельные континентцы) могли насильно женить их и выдавать замуж – а также принуждать к разводу. Когда кадж сверг власть Континента, законы о семье и браке принимали во многом под влиянием этих травм: так, в Сайпуре два взрослых человека могут заключить по взаимному согласию брак на шесть лет. Затем этот контракт продлевается или заканчивается по истечении срока. Поэтому сайпурцы женятся и выходят замуж неоднократно – два или даже три раза. И хотя гомосексуальный брак в Сайпуре официально не признан, подобные союзы не запрещены государством, которое стоит на страже личных свобод.
Шара приглядывается к одной из статуй – точнее, к красноречиво выпирающему из-под одежды причинному месту.
– Похоже, это самая настоящая контркультура…
– Это плевок в глаза богатеньким – вот что это.
– Фи, как грубо, – произносит голос за их спинами.
Высокая, стройная молодая женщина в пышных мехах подходит поближе. Она очень, очень молода, ей едва за двадцать. Красивая – темные волосы, высокие острые скулы. Она выглядит как истинная жительница Континента – и в то же время утонченно-космополитично. Нечасто встретишь такое сочетание.
– Я бы сказала, что эта скульптурная группа открывает новый взгляд на вещи.
Мулагеш поднимает стакан и насмешливо замечает:
– Ну что ж, тогда за новый взгляд. За то, чтобы он прижился и распространился.
– Судя по вашему тону, вы не очень-то в это верите, губернатор.
Мулагеш что-то нечленораздельно ворчит, прихлебывая эль.
Молодая женщина вовсе не удивлена такой реакцией, нет. Однако она все равно говорит:
– Ваш скептицизм очень расстраивает нас, губернатор. А ведь мы надеемся, что, как представитель вашей страны, вы поддержите наши усилия…
– Я тут, знаете ли, сижу не затем, чтобы кого-то поддерживать. Я даже официальных заявлений делать не могу. Но я, по долгу службы, часто выслушиваю, что говорят Отцы Города, госпожа Ивонна. И я не слишком уверена, что ваши амбициозные прожекты им по душе.
– Времена меняются, – отвечает девушка.
– Это так, – отвечает Мулагеш. И сердито отворачивается к огню. – Но медленнее, чем вам кажется.
Девушка вздыхает и разворачивается к Шаре:
– Надеюсь, вам не передалось пессимистичное настроение госпожи губернатора? Мне бы так хотелось, чтобы ваш первый выход в свет в Мирграде прошел в более приятной атмосфере… Вы же наш новый культурный посол, разве нет?
– Да, – соглашается Шара. И отвешивает вежливый поклон. – Шара Тивани, культурный посол, чиновник второго ранга, исполняющая обязанности главы сайпурского посольства.
– А я – Ивонна Стройкова, помощник куратора студии, которая любезно предоставила нам эти произведения искусства. Мне очень приятно, что вы нашли время прийти, но я должна предупредить: увы, здесь не все встретят вас с легким сердцем – к сожалению, от предубеждений прошлого не так-то просто избавиться… Однако я надеюсь, что ближе к концу этого вечера мы станем хорошими друзьями.
– Вы очень, очень любезны, – кивает Шара. – Благодарю вас.
– Что ж, позвольте в таком случае представить вас гостям, – улыбается Ивонна. – Ибо я более чем уверена, что госпожа губернатор не снизойдет до таких прозаических дел…
Мулагеш подхватывает с подноса еще один эль.
– Вам конец, посол, – сообщает она. – Но будьте осторожнее с этой девицей. Ей нравится, видите ли, рисковать…
– …и пить шампанское, – светло улыбается в ответ Ивонна.
И тут же становится понятно, что, несмотря на юный возраст, госпожа Ивонна Стройкова – настоящая светская львица: она прокладывает дорогу в толпе гламурных знаменитостей и богачей, как акула в стае рыбок. В течение часа Шара успевает поклониться и пожать руки практически каждому представителю собравшегося в зале звездного общества.
– Я всегда хотела быть художницей, – доверительно сообщает Ивонна Шаре. – Но, увы, ничего из этого не вышло. У меня недостало… впрочем, даже не знаю, как сказать. Наверное, воображения. А может, амбициозности. Возможно, того и другого. Чтобы создать что-то новое, нужно быть немного не от мира сего. А я… я – плоть от плоти нашего мира, даже слишком плоть от плоти…
От камина доносится негромкий ропот.
– Что бы это значило? – удивляется Ивонна, но Шаре все видно: Сигруд.
Упирается ногой в камень и достает из огня пылающий уголек. Даже отсюда Шара слышит, как тот шипит в пальцах Сигруда, – но лицо гиганта ничем не выдает боли. Он спокойно подносит его к трубке, делает две глубокие затяжки, выдыхает клуб дыма – и выбрасывает уголек обратно в камин. А потом неспешно бредет в темный уголок, прислоняется к стене со скрещенными на груди руками и мрачно оглядывает зал.
– А это что за удивительное создание? – ужасается Ивонна.
Шара тихонько покашливает и безмятежно отвечает:
– Мой секретарь. Сигруд.
– Вы держите дрейлинга в секретарях?!
– Да.
– Но, позвольте… они же… дикари, разве нет?..
– Все мы – продукт обстоятельств.
Ивонна звонко смеется:
– Ах, госпожа посол… А вы умеете шокировать – и это прекрасно! Уверена, мы станем лучшими подругами. Ах! Как вовремя!
И она убегает прочь от Шары – к высокому бородатому джентльмену, который медленно спускается по лестнице, тяжело опираясь на белую трость. Его явно беспокоит правое бедро – правая рука то и дело тянется туда, однако он изо всех сил сохраняет царственную осанку. На нем элегантный, довольно консервативный белый смокинг и расшитый золотом кушак.
– Ах, мой дорогой! Что ж так долго! Я-то думала, мы, женщины, вечно опаздываем, одеваясь, но куда нам до мужчин!
– Проклятый дом. Когда-нибудь я не выдержу и установлю здесь подъемник! – ворчит он. – Эти проклятые лестницы однажды меня доконают, вот увидишь…
Ивонна обвивается вокруг его плечей:
– Ты ворчишь, как старичок!
– Я и есть старичок!
– Старички так не целуются! – И Ивонна привлекает его к себе, несмотря на шутливое сопротивление. Кто-то в толпе отзывается на сцену тихим: «Ух ты!» – Нет, – отпуская его губы, выносит вердикт девушка. – Совсем не как старичок. Но я буду проверять каждый день, дорогой…
– В таком случае, тебе следует заранее записаться на прием, милая. Как ты знаешь, я ужасно, ужасно занят. Итак. Кто же сегодня вечером пользуется моими неслыханными щедротами? – весело произносит он.
И огладывает толпу. Отсветы пламени из очага высвечивают его лицо.
И сердце Шары сжимается: она-то считала, что он и впрямь старик, а он не постарел. Совсем.
Волосы отросли, да, и, хотя на висках пробивается седина, они все того же странного рыжеватого оттенка. Бородка и вовсе медно-рыжая, коротко подстриженная – совсем не похожая на обычный для богатых континентцев комок нечесаной шерсти под подбородком. Волевой подбородок, все та же самодовольная улыбочка. Глаза, хоть и потеряли в блеске – не горит в них уже знакомый диковатый огонек, – все такие же ярко-голубые. Как у нее в воспоминаниях…
Гости и тонкие ценители искусства уже подбираются к хозяину с приветствиями.
– Батюшки, какая толпа. Надеюсь, вы все при бумажниках? – И он счастливо смеется, здороваясь с каждым.
И хотя наверняка он лично знаком едва ли с десятком гостей, каждого он приветствует как старого друга.
Шара наблюдает за ним. Она испугана. Насмерть. И заворожена. Она оцепенела от ужаса. Он совсем, совсем не изменился.
И обнаруживает, что ненавидит его за это. Как грубо и непорядочно с его стороны исчезнуть на годы и вот – нате пожалуйста! – снова вынырнуть из небытия совершенно тем же человеком!
– Ты видел статуи? – спрашивает его Ивонна. – Дорогой, тебе непременно нужно их увидеть. Они восхитительно отвратительны. Я их обожаю. Жду не дождусь завтрашнего дня, хочу почитать, что напишут газетчики.
– Наверняка всякие гадости, – улыбается он.
– О, непременно, непременно! Крики и истерика, вопли и слезы. Я очень на это надеюсь. Ривеньи – с литейного завода, помнишь? Он здесь. Ты хотел, чтобы он как-нибудь пришел, да? Так вот он пришел. Я-то думала, он свирепый и суровый, как и положено быть промышленнику, но нет, он такой милый-милый… Поговори с ним, он такой приятный. Я принесу тебе конверт для чека. Ах, и сегодня у нас в гостях наш новый культурный посол, и ты знаешь, у нее помощник – ни за что не догадаешься! – се-ве-ря-нин! Нет, ты можешь себе представить? Северянин – секретарь! И он тоже здесь, дорогой, ты только подумай, он сунул голую руку – в огонь! Невозможные, положительно невозможные вещи творятся сегодня вечером, я хотела сказать, что сегодняшний вечер, дорогой, задался, задался, в этом не может быть сомнений!
И он снова поднимает взгляд и обводит веселыми глазами зал. Сначала он ее не видит. Ноги у Шары подгибаются, словно от удара в челюсть. Не заметил…
А потом глаза его вспыхивают, и он медленно, медленно-медленно возвращается взглядом к ней.
В течение нескольких секунд на лице его сменяется множество выражений: растерянности. Узнавания. Изумления. И гнева. А следом тонкие черты его лица принимают вполне знакомый вид: губы кривятся в высокомерной, самодовольной усмешке.
– Новый культурный посол, значит, – тихо выговаривает он.
Шара поправляет на переносице очки. Мамочки, что же делать?
* * *
Сигруд глядит в огонь. И массирует большим пальцем ладонь затянутой в перчатку руки. И припоминает старинное северное присловье: «Завидуй огню, ибо огонь либо есть, либо его нет. Пламя не чувствует радости, печали, злости. Оно либо горит, либо не горит».
Сигруду понадобилось несколько лет для того, чтобы понять, о чем это. А еще больше лет прошло, прежде чем он выучился быть как огонь: просто живым. И все.
Он смотрит, как кружат в толпе друг вокруг друга Шара и человек с тростью. Как они останавливаются и отворачиваются друг от друга – отворачиваются, да не совсем, и исподтишка посматривают: через чье-то плечо или искоса, стараясь, чтобы другой не заметил взгляда.
Они наблюдают друг за другом, изо всех сил стараясь этого не делать. Экий неуклюжий танец.
Человек с тростью все посматривает на часы: наверное, не хочет, чтобы его заподозрили в поспешности. Обаяв всех гостей скопом и каждого по отдельности, он наконец-то выхватывает из толпы лакея и что-то шепчет ему на ухо. Тот пару раз обегает многолюдное сборище, а потом подходит к Шаре и вручает белую карточку. Шара, улыбаясь, убирает ее в карман, а потом, под каким-то предлогом отделавшись от разговорчивой девушки в мехах, прокрадывается наверх.
Сигруд снова поворачивается к огню. Конечно, они любовники. Их движения так и поют о прошлых ласках. Это даже смешно: Шара Комайд – и любовница? Она маленькая и тихая, но он-то знает, что она – такое же живое оружие, как и он, Сигруд. И все-таки глупо удивляться. Все создания на свете хоть недолго, но любили в своей жизни.
И он припоминает, как ходил на китобое «Свордйалин»: скользкая от крови и жира палуба, команда обдирает, как с яблока, с убитого кита шкуру. У борта полощется в воде воняющая, истекающая красным туша, над ней орут и дерутся тысячи чаек. Погоня, поединок с китом, старший помощник раз за разом тычет алебардой в легкие зверюги, и наконец из дыхательного отверстия бьет уже не вода, а кровь, а потом они идут обратно к кораблю и тащат мертвого кита за собой… Когда все это заканчивалось, Сигруд где-нибудь в трюме вынимал из-за ворота медальон. И долго держал в ладонях. А потом открывал и смотрел, смотрел на то, что там внутри, и дрожал огонек свечи…
Сигруд смотрит на руку в перчатке – болит. Он уже не помнит, какой он был, этот медальон. И портрета, что внутри, тоже не помнит. Помнит только ощущение – как медальон лежал в ладони. А может, ему просто кажется.
– Я смотрю, ты занят, – слышит он голос рядом с собой.
Женщина средних лет, судя по виду, очень состоятельная, присаживается у огня рядом с ним.
– Выпьешь?
И протягивает ему кубок с вином.
Сигруд пожимает плечами, принимает кубок и осушает одним глотком. Золотой браслет на его левом запястье звенит о пуговицы обшлага. Женщина смотрит заинтересованно – ей любопытно.
– Ты очень необычный гость, – говорит она. – Держу пари: таких, как ты, у Вотровых еще не видали.
Сигруд попыхивает трубкой и смотрит на огонь.
– Так что тебя сюда привело?
Сигруд делает долгую затяжку. Обдумывает ответ.
– Беда, – отвечает он наконец.
Кто-то отпустил непристойную шутку: часть толпы взрывается хохотом, некоторые гости морщатся и оскорбленно отворачиваются.
* * *
Снизу доносятся звон бокалов и приглушенный смех. Звуки веселья эхом раскатываются по пустотам этого перекрученного дома-уродца. Призрачный хохот, просачивающийся сквозь толщу камня, звучит жутковато.
Лестница закручивается бесконечной спиралью. Шара все поднимается, поднимается. Интересно, где он? Ждет ее на самом верху? А если да? Ох, тогда лучше оступиться и укатиться вниз по ступеням. Она не сможет, не сможет заговорить с ним.
Нет, надо взять себя в руки. Тут лестница выводит ее в… библиотеку? Великоват зал для библиотеки… На стене – фамильный портрет в массивной раме. За два года, что длился их роман, Воханнес ни словом не обмолвился о своих родителях – кстати, почему? Разве это не странно? – но выглядят они ровно так, как она и предполагала: гордые, суровые лица, царственная осанка. Папа Вотров в чем-то вроде военного френча, грудь увешана медалями и лентами, на маме Вотровой – роскошное розовое бальное платье. Такие родители не воспитывают детей, а проверяют – на предмет соответствия стандартам качества. Но вот удивительная деталь: рядом с родителями стоит одиннадцатилетний Воханнес, а подле него – еще один мальчик, чуть постарше, более бледный и темноглазый. Однако сходство этих двоих не оставляет сомнений – братья. Почему же Воханнес ни разу не упомянул, что у него есть брат?
Откуда-то налетает порыв ветра, огоньки свечей пускаются в пляс. Шара облизывает пальцы – дует из соседнего окна. Она подходит туда.
Внизу морем бело-голубых огоньков простирается Мирград. Луна идет на убыль, но в ее скудном свете Шара различает странные и чуждые формы среди гребней крыш: полуобрушенный храм, руины роскошной усадьбы, прихотливый извив зависшей в воздухе лестницы.
Шара смотрит вниз. Стены дома, оказывается, патрулируют охранники в касках и с самострелами в руках. Как интересно! Когда они въезжали в главные ворота, никакой охраны не было видно…
Она оборачивается на звук открывающейся двери. Створки медленно распахиваются, в щель просовывается кончик белой трости.
Надо бежать. Сейчас или никогда. Стыдно, конечно, так трусить, но Шара ничего не может с собой поделать.
Он, прихрамывая, входит в комнату. Белый смокинг отливает золотистым в свете ламп. Поглядывает искоса, но в глаза не смотрит. И сразу направляется к столику с напитками, что-то наливает. И, тяжело припадая на одну ногу, направляется к ней.
– Эта комната, – говорит она, – слишком большая. Ты не находишь?
– Все зависит от того, как ее используют.
Она не знает, куда девать руки. И куда всю себя девать, тоже не знает. Что с ней, в конце концов, она ведь встречалась и с куда более высокопоставленными лицами, с аристократами, откуда эти неловкость и скованность?
– Прошу прощения, что отнимаю твое внимание. Ты должен быть с гостями.
– Ах, ты об этом. Ничего страшного. Там все идет своим чередом.
И он улыбается – по-прежнему ослепительно.
– Я, так сказать, на иголках не сижу – ибо знаю, чем все так или иначе закончится. Как тебе вид?
– Он… великолепен.
– Именно.
И он подходит и становится рядом с ней.
– Отец мог бесконечно говорить о виде, что открывается из этого окна. Точнее, о том, что можно было отсюда увидеть прежде. Он показывал и говорил: «Смотри, вот здесь, на углу, возвышался Коготь Киврея! А там, через парк, – Колодец Аханас, на всю улицу очередь тянулась!» На меня это производило колоссальное впечатление. Я был буквально влюблен в этот город. А потом сообразил, что папа просто не мог этого видеть, – все это исчезло задолго до того, как он родился. Он мог только догадываться и предполагать, но не описывать. А сейчас мне совершенно все равно, что он имел в виду. Древности меня более не интересуют.
Шара сдержанно кивает.
Воханнес одаривает ее косым взглядом:
– Ну же. Давай, выкладывай.
– Выкладывать что?
– То, что хотела мне сказать. Я же вижу – тебя прямо распирает.
– Ну… – и она откашливается. – Если ты действительно хочешь знать… Коготь Киврея – это был такой высокий железный памятник с маленькой дверцей спереди. Туда люди заходили и обнаруживали нечто, предназначенное им. Какой-то предмет, который полностью менял их жизнь. Иногда к лучшему – например, узел с лекарствами, чтобы вылечить больного родственника. А иногда – к худшему: скажем, мешок с монетами и адрес проститутки, которая потом доводила человека до разорения.
– Как интересно!
– Ну, это было что-то вроде памятника странному чувству юмора Жугова: это Божество любило подшутить. Над всеми, кто под руку попадался.
– Понятно. Ну а Колодец?
– Ничего особенного, просто целебная вода. У Анахас их было много.
Он с улыбкой качает головой:
– Ты все такая же невозможная всезнайка.
Она отвечает кривоватой усмешкой:
– А ты все такой же самодовольный беспечный невежда.
– Выходит, невежество – это когда тебе нет до чего-то дела?
– Именно. Это и есть определение невежества, по сути.
Он меряет ее оценивающим взглядом:
– А знаешь, ты выглядишь совершенно не так, как я ожидал.
Вот это да! Какая наглость! Она даже язык проглотила от злости…
– Я-то думал, ты будешь вся такая в сапогах, в армейском сером… – между тем продолжает он. – Как Мулагеш. Только активнее.
– Я что, была такая ужасная, когда училась?
– Ты была незамутненной бодрой фашисточкой, – отрезает Во. – Ну или людоедкой-ультрапатриоткой, что почти одно и то же. В Сайпуре почти все дети такие. Так что я ожидал, что сюда ты заявишься гарцующей победительницей. А ты… ты просочилась в заднюю дверь, как мышка.
– Заткнись, Во! Какого…
Он хохочет.
– Потрясающе! Сколько лет прошло, а мы все такие же! И болтаем о том же! Так скажи мне – арестовать тебя за грубое нарушение СУ? Ты пару находящихся под запретом имен озвучила…
– Напоминаю, что согласно букве закона, – цедит Шара, – земля, на которой стоит посол Сайпура, считается сайпурской землей. А, кстати, ты в курсе, что твое изумляющее ослиным тупизмом излияние на тему семьи было самым длинным из всех, что я слышала? Что ты раньше мне ни о чем таком не рассказывал?
– Правда?
– Пока мы учились, ты вообще о них не рассказывал.
Шара кивает на картину на стене:
– И никогда не говорил, что у тебя есть брат. Он так похож на тебя.
Улыбка на лице Воханнеса разом становится натянутой.
– У меня был брат, – поправляет он. – И я не рассказывал, потому что братом он был никудышным. Впрочем, он научил меня играть в товос-ва – за что я ему признателен, ибо благодаря этому мы познакомились.
Шара пытается уловить в реплике хоть намек на иронию, но… похоже, ее собеседник совершенно серьезен.
– Он умер еще до того, как я пошел в школу. Умер не вместе с родителями, в Чумные года, а… потом.
– Прости.
– Да ладно, не за что мне тебя прощать. Я по нему не горевал. Я же сказал: плохим он был братом.
– Ты унаследовал фантастический особняк. Об этом ты тоже не рассказывал.
– Это потому, что в то время я его еще не построил.
И он поскреб камень пола кончиком трости.
– Я снес прежний особняк Вотровых. В ту же секунду, как вернулся домой из Сайпура. И построил этот дом. А все мои опекуны – эти старые тролли ходили за мной гуськом, именно что гуськом, как птенцы за мамой-уткой! – все они заходились в горестных криках. А ведь это был даже не настоящий особняк Вотровых! По крайней мере не древний дом с многовековой историей, о котором все твердили! Куда делся тот дом, вообще никто не знает. Исчез вместе с Мирградом. Мы просто делали вид, что ничего такого не произошло. Что дом – прежний, и не было ничего – ни Мига, ни Великой Войны… ничего. Правда, я очень жалею, что согласился на такие лестницы. Будь они прокляты.
И он, морщась, дотрагивается до бедра.
– Это на лестнице ты получил травму?
Он, все еще с болезненной гримасой на лице, кивает.
– Прости, – вздыхает она. – Беспокоит?
– Когда влажность высокая – еще как. Но скажи мне честно, умоляю.