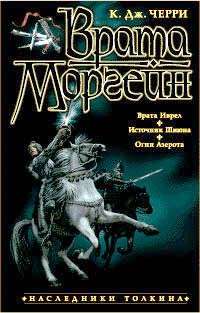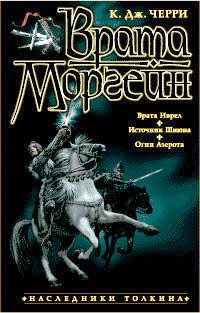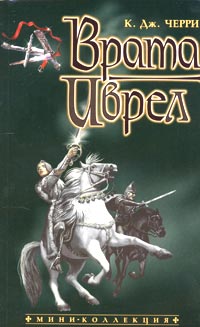Лапник на правую сторону Костикова Екатерина
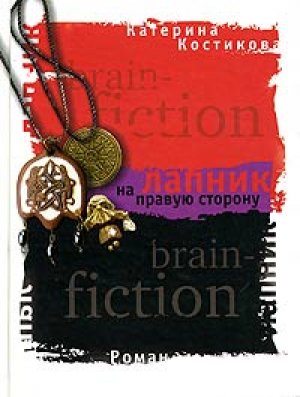
Растерла травки между ладоней, высыпала в чайник с красным петухом на боку, пошевелила губами, что-то бормоча под нос, и подождав немного, налила Прошину пахнущий летним полднем чай.
Валентин Васильевич пытался было завести разговор, но бабки смотрели на него своими странно молодыми глазами, и твердили, что прежде – чай, а потом уж все разговоры.
Однако ж разговоров никаких после чая не получилось. Едва одолев полчашки, Прошин понял, что еще секунда – и он заснет прямо за столом, упав носом в блюдце с медом, заботливо подвинутое ему Кудеяровной. И едва подумал – в самом деле уснул. Последнее что он помнил – это свое удивление. Бабки что-то говорили друг другу, смеялись, как девушки на гулянье, и Прошин вдруг заметил, что у обеих старух, которым было лет по девяносто, не меньше, совсем ровные, белые, без единой щербинки, зубы.
Когда Прошин проснулся, он уже почти все знал. Знал, что трава для чая называется полдуденница, простой человек от нее тоскует и помрет на третий день. Знал, что жить ему теперь на земле семь жизней, да еще две, потому что принял он в наследство от деда Ставра, старого хвостовского колдуна, всю его силу и всю обузу. Знал, что умирать будет долго и тяжко, а если некому будет передать свое наследство – так и не помрет по-настоящему, станет ходить по домам, морить каждого встречного – поперечного, покуда наследник не сыщется. Проснувшись, Прошин знал, что мертвые – не всегда мертвые, а живые – не всегда живые, и знал, как это поправить. Он вспомнил, как нес через лес мертвого Николая Калитина. Как дошел до реки Смородины, которая начало берет из мира мертвых, но вода ее уносится в мир живых, как оставил закоченевшее тело у горячего ключа, и как назавтра Калитин был уже жив. Прошин знал: это потому, что вода в ключе особая. Он знал все. Правда, не все сразу запомнил, но знал, и мог из этого своего знания черпать и пользоваться им, потому что был теперь в некотором роде и при некоторых условиях хозяином над мертвыми и над живыми. Прошин тогда, правда, не обратил внимания на эти условия.
– Погодите, – потерла Дуся переносицу, – Чего-то я тут не понимаю… Выходит…
Она прикрыла глаза. Вот тебе и народные сказки, черт побери. Определенно выходило, что никакие это не сказки, а самая, что ни на есть правда. Все на самом деле. И милейший доктор Прошин, угощающий ее чаем с вареньем домашнего приготовления – на самом деле хозяин живых и мертвых.
«Может, он просто сумасшедший» – с надеждой подумала пламенная Слободская. Может, если его сейчас огреть табуреткой по башке, связать полотенцем и свезти в ближайшую дурку, все вернется, станет на свои места, мир снова будет простым, реальным и привычным…
Если бы дело касалось только сбежавшего трупа тридцатилетней давности и грустной истории профессора Покровского, Дуся так и поступила бы. Но была еще Соня, медленно умирающая в больнице. Значит, если есть надежда – хотя бы самая маленькая – что доктор Прошин в состоянии ей помочь, его нельзя вязать полотенцами и тащить в дурку. Определенно, дать Прошину табуреткой по башке – не лучший выход из положения.
«Беда в том, – подумала Дуся – Что он, конечно, законченный псих. Но ко всему прочему этот псих – еще и хозяин живых и мертвых».
Пламенная Слободская чувствовала себя Алисой в стране чудес. Но ее страна чудес была не только безумной. Она, к сожалению, была еще и всамделишной. В этой настоящей стране недобрых чудес Дуся вдруг стала совсем маленькой и абсолютно беспомощной. Как там у Кэрролла? Пузырек с надписью «Выпей меня»? По вкусу лекарство напоминало жареную индейку, ванильное мороженое и ананасы? Если разом опорожнить пузырек с надписью «Яд», рано или поздно почувствуешь легкое недомогание? Да, в книжной стране чудес все именно так и происходило. Но не здесь. Здесь не было пузырьков с этикеткой яд, и не было бутылочек с приклеенной к горлышку запиской «выпей меня». А на вкус все было совсем обычное: просто черный цейлонский чай с домашним вареньем. Никаких инструкций по применению, никаких табличек «Не влезай, убьет!». Просто Дуся Слободская пришла в гости к милому доктору Прошину, попила чаю за разговором, а потом, когда думала, не дать ли ему по башке табуреткой, обнаружила, что не может не то что рукой – пальцем пошевелить. Нет, она не сделалась маленькой. Будь Дуся ростом с ноготь, превратись в дюймовочку, она бы вылезла отсюда, из этого жуткого дома, через замочную скважину, проскочила через щелку в высоченном заборе, спряталась бы в густой траве, улетела, оседлав мотылька, на волю. Туда, где люди смертны, а оттого радуются каждому дню, согревают близких своим теплом, чтобы не закоченели, не превратились в нежить с мертвыми глазами. Увы. Она не сделалась маленькой. Она была по-прежнему девушкой среднего, 165 сантиметров, роста, размер ноги – 37 с половиной. Размер бюстгалтера – Б, джинсы 34, но иногда можно втиснуться и в 32. Если три дня есть тертую морковь. Но сейчас Дуся не смогла бы есть тертую морковь – губы не слушались ее, рот был будто запечатан воском. Она не могла даже моргнуть, скосить глаза в сторону, посмотреть, кто там ходит у нее за спиной осторожными шагами хищника. Она могла только сидеть на табурете, и слушать, что говорит доктор Прошин – хозяин живых, повелитель мертвых. Милейший доктор Прошин, черт знает чем напоивший ее. Очаровательный человек, который собирается – видно, видно по глазам, что собирается – сделать с ней все самое жуткое и отвратительное, что только бывает на свете. Все то, что видится в страшных снах, все то, что в реальной жизни с тобой случиться никак не может, потому что это было бы слишком дико…
Прошин, между тем, говорил не умолкая. Похоже, за тридцать лет, прошедшие с тех пор, как хвостовский дед передал ему все свои чины и обузы, Валентин Васильевич вдоволь намолчался, и теперь рад был слушателю.
«Может, он меня напоил этим своим парализующим чаем специально, чтобы я слушала его, не могла перебить, сказать, что мне пора, мама ждет, и уйти, не выслушав до конца?» Если бы Дуся могла улыбаться, она бы сейчас улыбнулась собственной странной мысли и собственной наивности. Она же взрослая девушка! Все хуже. Намного хуже. Если смотреть на вещи реально, то в лучшем случае (в самом, самом лучшем) она повторит судьбу Профессора Покровского.
Глава 37
Профессор Покровский приехал в Заложное через неделю после визита Прошина в Хвостово. Лучше бы он вовсе не приезжал, энтузиаст чертов. Был бы жив, растил бы дочь, и не пришлось бы несчастной вдове обивать потом пороги КГБ и ФСБ в поисках мифических врагов и зложелателей. Прошин рассказал Дусе то, о чем Слободская, практически наизусть выучившая Зеленина, уже и сама начала догадываться. Не зря на Руси заложных покойников хоронили, подрезав пятки, поломав хребет, проткнув грудь колом, и зашив незрячие глаза.
Не зря закапывали их на перекрестках, чтобы не нашли дороги домой. Не зря боялись, что придет упырь, усядется за печью, да и не встанет, пока все, кто рядом, не перемрут. И это никакие не сказки, что к кому заложный покойник повадился – и сам не жилец. Это – на самом деле.
Увидев, как профессор Покровский орет на главврача, требуя карту исчезнувшего больного, Прошин понял: этот не остановится. Он ученый, исследователь, ищейка по натуре. Он будет рыть носом землю, пока не докопается до правды. И тогда для Прошина все будет кончено. Все его надежды будут похоронены, причем похоронены по всем правилам – с подрезанными пятками, лапником на одну сторону, на перекрестке, без надежды на воскрешение.
Прошин не мог этого допустить. И когда профессор отбыл домой, в Москву, поехал в Космачево. К матери живого и мертвого одновременно Николая Калитина.
Она ждала его. Знала, что приедет. И Прошин знал, что она знала. И знал, почему за сына просила. Не для него просила – для себя. Хотела, что б простил. Как-то давно, после армии, связался ее Коля с Клавкой – девкой прожженной и непорядочной. И просила его мать, и умоляла: оставь ее, другую найдешь, а он и слушать не хотел. Клавка от него живот нагуляла, свадьбу уже играть собирались. Что было делать? Ну и пошла мать к хвостовскому деду. Через два дня Клавка полезла на чердак сено ворошить, свалилась, да и напоролась на вилы.
Когда добрые люди донесли Николаше, что неспроста Клавка на вилы напоролась, напился он так, что еле жив остался. А как протрезвел, пришел к матери, и говорит: «Будь ты проклята, что б на том свете ни сна тебе, ни покоя не было!» И в город уехал. Запил там сильно, покатился по кривой дорожке. Так и помер, не простив.
– У нашего с вами любимого Зеленина много написано о том, что проклятые родителями дети не находят после смерти покоя, и вынуждены вечно скитаться по земле, испытывая адские муки, – ровным доброжелательным голосом рассказывал Прошин. «Будто лекцию читает» – подумала Дуся.
– Но правда в том, что родители, перед детьми виноватые и проклятые ими, также не знают покоя. Так сказать, высшая справедливость. Конечно, мать Калитина приложила все усилия к тому, чтобы сын хотя бы на короткое время вернулся к жизни, и простил ее.
Что ж, сын к жизни стараниями Прошина вернулся. В новом своем состоянии, равнодушный и к смерти возлюбленной Клавки, и к человеческим обидам, подарил матери свое прощение. Так что с Валентином Васильевичем она Николая отпустила с легким сердцем. Вернется – хорошо, нет – тоже не беда.
За два дня до этого Прошин, хитро выпытав у главврача телефоны московского профессора Покровского, позвонил ему, представился коллегой, с которым профессор якобы когда-то работал, и спросил, не может ли племянник-абитуриент остановиться на время подготовки к экзаменам в квартире Покровских. Профессор не возражал, тем более, что семья его уехала в Ялту на отдых. Это было очень кстати. Прошину не хотелось бессмысленных жертв. Он не был душегубом, он был ученым, исследователем. Покровский его научной работе мог помешать, и тут все было решено окончательно и бесповоротно. Однако жена и дочь никакого отношения к делу не имели, и загубить еще две жизни просто так, за здорово живешь, Валентин Васильевич считал неправильным. Во всяком случае, тогда он так считал.
Валентин Васильевич привез Николая в Москву, оставил у подъезда Покровского, и отправился назад, в свою больницу, к своей работе. Каждый вечер, выпив чаю с полуденницей, Прошин закрывал глаза и чувствовал, как Николай без сна, без движения, сидит в комнате дочери Поровского, за закрытой дверью. Он ощущал, как тянет из-под двери мертвечиной, как расползается это неживое по квартире, как Покровский день за днем вдыхает его, шаг за шагом приближаясь к тому миру, откуда несет свои смрадные воды река Смородина.
Домработница, пожилая дама, не столь увлеченная жизнью, как профессор, заболела первой. Слегла, и встала только для того, чтобы напоследок поехать на родину, в Воронеж, поклониться могилам родителей, к которым должна была вскоре присоединиться. Что ж, ей не повезло. Но наука требует жертв, тут ничего не поделаешь. Впрочем, смерть домработницы Прошина не слишком расстроила.
Профессор держался почти три недели. Жажда жизни была очень сильна в этом человеке, и он сопротивлялся до последнего, цеплялся за свою работу, пытался не поддаться, остаться здесь.
– Но как вы, драгоценная Анна Афанасьевна, очевидно, знаете, из этого ничего не получилась, – покачал головой Прошин – Законы жизни и смерти столь же объективны, непреложны и независимы от наших желаний, как законы оптики либо термодинамики.
Законы оптики и термодинамики смерти оказались таковы, что просидев три недели в Москве Николай вскоре умер вторично, и на сей раз – окончательно.
В этом заключалась одна из основных проблем и одновременно – одна из основных целей научных трудов Прошина.
Не будучи душегубом, Валентин Васильевич сказал себе, что все происшедшее неслучайно, и наследство Ставра он, Прошин, повернет во благо человечеству, как и положено настоящему ученому. Русский народ со свойственной ему манерой вечно все преувеличивать и переиначивать, несколько передернул и с заложными покойниками. Отнюдь не всегда, а главное не везде умерший преждевременно либо насильственной смертью способен пробудиться к своей новой необыкновенной жизни. К большому сожалению Прошина, оживали лишь те покойные, которых он приносил к роднику на поляне.
– Представьте, пары родника – вреднейшее вещество, вреднейшее, дорогая моя. У меня вызывают кошмарную аллергию. В первый раз, как я уже вам рассказывал, весь раздулся и посинел, кожа лоскутами слезала, – жаловался Прошин – То что у вас было на ноге – невиннейшая вещь, поверьте. Это ведь, как вы, наверное, догадались, не от растительного яда у вас ножка, извиняюсь, коростой покрылась… Гампус – растение красивейшее, и при этом совершенно безобидное… Это вы, милейшая, по поляночке прошлись, по краешку. Хорошо, родник спал в это время, не сильно пострадали… А мне каково?! Пришлось добывать костюм химзащиты, и усовершенствовать его по собственным чертежам. Только в нем и работаю… Прекрасный костюм получился, жаль, не могу вам сейчас показать, вы бы восхитились!
По всей видимости, Прошин не был в курсе, что его костюмом Дуся уже восхитилась, когда Веселовский привез ей в редакцию фотографии из леса. Лупоглазое толстомордое существо со снимков было, оказывается, не инопланетянином, а всего лишь доктором Прошиным в костюме химзащиты…
– И представьте, какие сложности – продолжал доктор – Чтобы оживить их, надо еще и время подгадать.
Время подгадать ему всегда было сложно. Большую часть времени ключ, плюющийся живой и мертвой водой, спал, не проявляя никакой активности. Выбросы случались редко, и за долгие года Прошину так и не удалось понять, когда и отчего ключ вдруг просыпается. Единственное, чему он научился – это по приметам определять время следующего выброса. Где-то за три-четыре часа до извержения, как для себя назвал это Прошин, его преимущественно апатичные и тихие живые мертвые пациенты начинали беспокоиться, выть, и бросаться на решетку. В этом случае следовало быстро собираться, транспортировать на поляну к роднику тела тех, кого Прошин собирался оживлять, рубить лапник, тесать колья, готовить шалашики, куда следует складывать пациентов после купания… В общем, хлопот не оберешься… Больше того: для последующего поддержания псевдожизни пациентам требовалось оставаться где-нибудь неподалеку, в радиусе километров двадцати, максимум – тридцати от места своего, если можно так выразиться, второго рождения.
– Цель моих исследований, – объяснял Прошин Дусе – Сделать возможным оживление в лаборатоных условиях, и поддержание псевдожизни в любой точке нашей страны, и даже мира. Представьте, драгоценная Анна Афанасьевна, как восхитительно это переменило бы жизнь всего человечества! Вечная жизнь, победа над древнейшим врагом человеческим – над смертью…
Тут доктор нервно заерзал, завертел головой, лицо его задергалось, глаза сделались пустыми.
– Победа над смертью в человеческом понимании этого слова, – сказал он будто бы чужим голосом. Гулким, как из бочки.
«Шизофрения, как и было сказано. Налицо раздвоение личности, – подумала Слободская – Доктор Джекил и мистер Хайд. Доктор жизнь против Доктора Смерти».
Теперь, на втором часу излияний Прошина, происходящее казалось все менее и менее реальным, и прежняя Дуся Слободская – умная, веселая, злая на язык – постепенно возвращалась. Она устала бояться. Наверное, так чувствует себя человек, летящий вниз с гипотетической высоты километров, скажем, в миллион. Первые полчаса ему дико страшно, потом он постепенно осваивается, потом начинает скучать, потом ему вообще вся эта бадяга надоедает. Он летит вниз, насвистывая, и думает, как неплохо было бы сейчас съесть чипсов с беконом. Проблема в том, что несмотря на все эти метаморфозы, рано или поздно несчастный таки долетит до земли и непременно расшибется в лепешку.
«Но, по крайней мере, это случится еще не сейчас» – подумала Слободская. Утешало ли это ее? Пожалуй, не особенно.
О чем это он? Ах, да, для исследований Прошину требовался расходный материал. К счастью, материал этот в избытке был прямо под рукой – тут же, в больнице, стонал и корчился на койках.
– Но заметьте, драгоценная Анна Афанасьевна, все они дали согласие на участие в экспериментах, все ушли из этой жизни по собственной воле. Согласие каждого зафиксировано, все оформлено по правилам, – сообщил Валентин Васильевич Дусе, гордо задрав пухлый подбородок – Вот, извольте убедиться.
Прошин указал на книжный шкаф, сверху донизу забитый какой-то документацией. Подбежав к шкафу, он вытащил оттуда несколько картонных папок, плюхнул на стол, раскрыл первую попавшуюся, и зачитал:
– Фирсова Эмма Валентиновна, 1938 года рождения, перелом шейки бедра. В беседе с врачом Прошиным В.В. 15 мая 1994 года выразила желание умереть. Вот, тут ее слова: «Не могу больше терпеть такую боль, лучше бы мне умереть, как я устала» – прочел Прошин ровной скороговоркой, на одном дыхании, и открыл следующую папку.
– Крылов Владимир Павлович, 1959 года рождения, множественные переломы и разрывы внутренних органов вследствие автомобильной аварии. В беседе с врачом Прошиным В.В. выразил добровольное желание умереть. Записано со слов Крылова: «Моя жена погибла, мне теперь незачем жить. Я хотел бы уйти вместе с ней». И я исполнил его желание, милейшая Анна Афанасьевна, да-с. Никакого насилия. Поначалу мне приходилось использовать клофеллин, но затем я обнаружил, что для этой цели прекрасно годится вода из Смородины. Пациенты получали ее в небольших количествах внутривенно, и в очень короткое время их желание исполнялось. После смерти они могли послужить науке, и, по большому счету, счастью всего прогрессивного человечества.
Сначала Прошин оживлял их исключительно в роднике. Потом пытался делать это в своей лаборатории, оборудованной здесь же под домом, в обширном подвале. Некоторых оживить удавалось, некоторых – нет. Случались паталогические отклонения, когда после оживления подопытные становились излишне агрессивны, или же, напротив сидели без движения и не реагировали ни на какие раздражители. Но Прошин всегда верил, что упорный труд поможет ему справиться с поставленной задачей и однажды он научиться оживлять умерших в любом месте, в любое время, и на сколь угодно долгий срок. Он всегда отличался завидным упорством, времени у него впереди было девять жизней, и с тех пор, как в Боткинской больнице скончался профессор Покровский, Прошин уже не опасался, что кто-то ему помешает.
Правда, спустя несколько месяцев после смерти профессора, Валентин Васильевич неожиданно понял, что ></em>за ним наблюдают. В маленькой больнице маленького городка свежих людей видно сразу, и доктор заподозрил, что кое-кто из них появился здесь по его душу. Видно, что-то там такое Покровский все же успел раскопать и даже рассказать кое-кому. Прошин хотел, правда, очень хотел, осчастливить человечество. Но до той поры, пока этот труд не был закончен, он всеми доступными способами защищал тайну своих исследований. Тем, кто совал нос в его дела, Прошин немедленно определял в соседи по дому, гостиничному номеру, или по больничной койке одного из своих оживших пациентов. Кому на день, кому на два, кому на недельку.
Впрочем, уморив полтора десятка любопытных, Валентин Васильевич понял, что окончательно издергался, видит соглядатая в каждом встречном, и эдак недалеко до полного нервного истощения. Валентин Васильевич перестал спать ночами, все думал, кому и что наболтал профессор, кто и с какой целью за ним, Прошиным, наблюдает. В конце концов, он сказал себе, что дальше так продолжаться. Валентин Васильевич решил все выяснить наверняка и развеять возможные подозрения в свой адрес.
На тот момент времени в больнице ошивался не в меру любопытный практикант по фамилии Качанов. Однажды вечером Прошин пригласил его на чай. Чай был особый, и вскоре Валентин Васильевич уже знал, что практикант – не практикант вовсе, а штатный сотрудник комитета госбезопасности, прибыл в Заложное с целью выяснить суть экспериментов Прошина, как и несколько его предшественников, к этому времени уже покойных. Взяв с практиканта-шпиона слово под страхом вечного проклятия никому на свете до конца жизни не рассказывать об увиденном, Прошин показал ему свой подвал и объяснил суть экспериментов. А потом объяснил, что такое вечное проклятие, и как оно действует. Взглянув в глаза милейшего Прошина, сотрудник органов госбезопасности понял, что это не шутки и не пустые слова: проклятие на самом деле существует и оно на самом деле вечное. При этом Качанов испытал такой темный, ни с чем не сравнимый ужас, что по возвращение в Москву немедленно написал отчет, где говорилось, что исследования Прошина касаются исключительно проницаемости слизистых дыхательных путей, и комитету госбезопасности глубоко неинтересны.
С тех пор Валентина Васильевича никто не беспокоил. Работа шла своим чередом. Как в любой научной работе, были здесь свои неудачи, были ошибки. Случались порой досадные недоразумения, главным из которых, бесспорно, следовало считать появление в Заложном не в меру добросовестной медсестры Богдановой, и еще, пожалуй, происшествие с местным уфологом Савским, о котором доктор не стал рассказывать Дусе, уж больно все глупо получилось.
Но в целом исследования продвигались весьма удовлетворительно. И Прошин был уверен, что ни одна живая душа ни о чем е догадывается.
– Вы, милейшая Анна Афанасьевна, уже не в счет, – с ласковой улыбкой Айблита сообщил он Слободской – Да-с, такое у меня правило: ни одна живая душа.
Глава 38
Между тем, Валентин Васильевич ошибался. Кое-кто знал о его работе. Этот кое-кто по фамилии Вольский в данный момент вечности несся в сторону Заложного, и маленькие разноцветные машинки мотыльками разлетались из-под колес его тяжелого джипа.
За рулем, вжав ногу в газ, сидел верный Федор Иванович, и в глазах его сверкали отблески боевых огней молодости, когда носился он по ущельям сопредельной дикой страны на верном бэтээре, сминая в кашу глинобитные домишки, раньше, чем из окон выглянут черные глаза гранатометов, раньше, чем бородатые воины пророка поймают в перекрестье прицела пятнистое бэтээрово брюхо. «Господи, не подведи» – проносилось у Федора Ивановича в голове всякий раз, когда из-под бампера выныривала очередная насмерть перепуганная «Шкода», или водитель замызганной девятки, матерясь, юзом съезжал на обочину. И Господь пока не подвел ни разу. Все пока что на трассе Москва-Калуга были живы и здоровы, и проклятия владельцев шкод, девяток и плоских тупомордых мерседесов, раскиданных Федором Ивановичем во все стороны, не обрушились камнепадом на его лысеющую голову. Возможно потому, что реяло над ней невидимкой свеженькое, с пылу с жару, благословление преподобного отца Александра, настоятеля Святозалесского монастыря.
Вольский отправил Федора в монастырь на встречу с бывшим агентом государственной безопасности Андреем Качановым, который четверть века назад был направлен в Заложное наблюдать за доктором Прошиным, после чего в скором времени отринул мирские соблазны и, скинув погоны, превратился в инока, а затем и в отца Иннокентия. Отец этот, последний, из имеющих отношение к истории с живым трупом (если, конечно, самого Прошина не брать в расчет) был, вроде бы, жив – здоров. И поговорить с ним, разумеется, следовало незамедлительно.
Отправляя Федора в святое место, шеф сунул ему пухлый конверт с весьма внушительной суммой на пожертвования. Бизнесмен Вольский полагал, что дензнаки существенно облегчат общение Федора с монастырским начальством. Так оно и вышло.
Настоятель, узнав, что Федор Иванович желает пожертвовать, сделался исключительно ласков, и выразил сильнейшее желание выполнить любую просьбу уважаемого гостя. Уважаемый гость сообщил, что наслышан о святости монастыря, и даже случайно узнал, что здесь обретается бывший сотрудник органов госбезопасности. Разумеется, ничто лучше не подтверждает слухи о святости настоятеля, чем его умение обратить в истинную веру и наставить на путь такую гадину.
Федор Иванович робко попросил о встрече с отцом Иннокентием. Уж больно хочется лично поглядеть на чудо перевоспитания. Тут отец настоятель опечалился, и сообщил, что осуществить это не представляется возможным: отец Иннокентий, более двадцати лет проживший в своей келье, скончался. Послезавтра будет девять дней. Похоже, двадцать лет апостольской жизни не искупили грехов отца Иннокентия: смерть его была странной и страшной.
В пятницу ночью монахов разбудили дикие крик, несущиеся из кельи Иннокентия. Сбежавшись на шум, братья обнаружили его забившимся в угол и безнадежно мертвым. Лицо отца Иннокентия выражало крайний ужас, глаза были выкачены из орбит. Лишь благодаря таланту монастырского бальзамировщика этому лицу удалось придать выражение кротости и смирения.
Федор Иванович, само собой, поинтересовался, не знает ли настоятель, что за тяжкие грехи обременяли душу бывшего кэгэбэшника. Настоятель долго рассказывал про тайну исповеди, но в конце концов неким иносказательным образом дал понять Федору Ивановичу, что брат Иннокентий в прошлом сгубил массу народу, сотрудничая с пособниками антихриста на земле.
Пока Федор Иванович беседовал с отцом-настоятелем, подошло время обедни, и отец, тысячу раз извинившись перед дорогим гостем, ушел служить службу, предварительно попросив служку проводить Федора в трапезную.
В трапезной было тихо, солнце светило в окна, где-то за стеной гремели посудой невидимые повара, вкусно пахло щами и пирогами, словно у бабушки в деревне. Тихая женщина в темном платке принесла Федору Ивановичу миску с грибными щами и тарелку с расстегайчиками, кивнула, и снова исчезла. Увлекшись щами, Федор не заметил человека, усевшегося напротив, и вздрогнул, услышав глубокий бас:
– Благослави вас Бог!
Федор поднял голову от миски. Перед ним восседал осанистый чернобородый мужик в щегольских, вороненой сталью отливающих очках.
– Слышал, вы брата Иннокентия в миру знали? – пробасил мужик.
– Не я, мой отец, – соврал Федор, дожевывая кусок пирога.
– Хороший был человек, только напуганный сильно, – неспешно пророкотал его визави – Не помешаю вам?
Федр затряс головой:
– Что вы, прошу.
Чернобородый махнул рукой. Явилась та же тихая женщина с миской щей и для него. Они с Федором разговорились. Бродач оказался доктором философских наук, уставшим от треволнений большого мира, и теперь исполняющего в монастыре обязанности кастеляна.
Брат кастелян сообщил, что был последним, кто беседовал с Иннокентием, и по просьбе Федора Ивановича, который все напирал на отцовскую привязанность к старому другу, подробно рассказал о событиях, предшествовавших смерти несчастного Качанова.
По словам кастеляна за день до странной кончины бывшего агента госбезопасности в монастырь пришел убогий странник, каких по осени стекается сюда десятками. Но этот был особенный. Он не кривлялся, не просил милостыню, не приволакивал ногу. Просто вошел в ворота, и сел на скамью у стены. Был странник высокий, крепкий, ни слова не говорил. Только шумно втягивал носом воздух. Глаза его были черны, и отцу кастеляну, читавшему требник на соседней скамье, сперва даже показалось, что глаз у странника вовсе нет, а зияют на лице пустые глазницы. Странничек все сидел, поводя носом, и через некоторое время почудилось кастеляну, будто тянет от соседней скамьи чем-то нехорошим: то ли подвальным холодом, то ли сырым мясом. Вскоре на чернобородого философа накатила такая глубокая беспричинная тоска, что он решил удалиться в келью. Уходя, оглянулся, и увидел, что странник тоже зашевелился. По двору шел к трапезной отец Инокентий, и странный человек, поведя носом в его сторону, будто что унюхав, встал, размашисто зашагал следом.
Когда кастелян пришел к вечерней молитве, он обнаружил, что странник этот стоит чуть позади брата Инокентия. Инокентий обернулся, сморщился, как от сильной боли, тоска застыла в глазах.
Вечером он тихонько вошел в кабинет кастеляна, попросил бумаги и конверт. Руки у отца Иннокентия заметно дрожали, на щеках горел лихорадочный румянец. На вопрос кастеляна, уж не заболел ли он часом, бывший кэгэбэшник отвечал, что наверняка скоро умрет, но это хорошо, потому что тогда он освободиться, и сможет рассказать правду. Это парадоксальное рассуждение поразило кастеляна. Он решил, что отец Иннокентий по старости лет расстроился умом, и, выдав несчастному конверт и бумагу, лег спать.
А ночью монахов разбудил страшный предсмертный крик старца. Когда они вбежали в келью, Инокентий с перекошенным лицом сидел, забившись в угол постели. Конверт и пустой, нетронутый лист бумаги валялись рядом.
– Не могли бы вы проводить меня в его келью? – попросил Федор отца кастеляна.
Он не совсем хорошо знал, зачем это нужно, но надеялся найти какую-нибудь зацепочку в этой келье.
Кастелян выполнил просьбу с превеликим удовольствием, и даже тактично оставил Федора Ивановича одного, дабы не мешать скорбеть об усопшем.
Едва дверь закрылась, Федор принялся шарить по углам. Это было не сложно: убранство кельи отличалось скромностью. Лампадка, иконка, матрац в углу – вот, собственно, и все. За иконой ничего не было. Но под матрацем, в узкой щели между стеной и половицей, Федор нашел скомканный листок, который умирающий Качанов в последние секунды своей жизни успел туда затолкать.
Бумага была так сильно смята, что Федору едва удалось расправить ее, не порвав. Тетрадный листок сплошь покрывали мелкие, неровные строчки – писавший явно торопился. Прочитав до конца, Федор Иванович понял: это именно то, что искал Вольский. Запоздавший почти на тридцать лет рапорт лейтенанта госбезопасности Андрея Качанова.
«В 1972 году – писал Качанов – я был направлен в город Заложное Калужской области. Объект – Прошин В. В., задача – узнать суть экспериментов, которые Прошин проводит у себя в лаборатории. По легенде я был практикантом, присланным из Калуги».
В течение 18 дней Качанов спокойно работал, и даже, кажется, расположил к себе Прошина. Была пятница, и доктор пригласил капитана в гости, на чай.
«14 мая, в пятницу, я задержался в больнице для того, чтобы ассистировать Прошину при вскрытии. Объект работал спокойно, был в хорошем настроении, насвистывал. Когда я спросил его, как он относится к своей работе, Прошин сказал, что очень ее любит, и иногда ему даже хочется, чтобы трупов было как можно больше, хотя и нехорошо так говорить. Он объяснил, что тела нужны ему для исследовательской работы. Я спросил, что за исследования он проводит. Тогда Прошин ответил, что это очень специфические исследования. Он стал объяснять, что является чем-то вроде Бабы-Яги, повелителем потустороннего мира мертвых. Я засмеялся. Тогда В. В. пригласил меня к себе домой – не на городскую квартиру, а в дом, построенный а краю леса. Он сказал, что лаборатория находится в этом доме, в подвале, и если я не верю, то он может мне все показать на месте, чтобы я не сомневался в серьезности его слов. В. В. угостил меня обедом, а потом засмеялся и сказал, что теперь я поел пищи мертвых. Он сказал, что иногда человек, пришедший в дом бабы-яги и отведавший пищи мертвых, может одолеть бабу-ягу, но это не мой случай».
«Выпив чаю, – писал Качанов ниже – Я почувствовал себя плохо и хотел уйти домой. Сильно кружилась голова. Когда я хотел встать, то понял, что не могу пошевелиться. Прошин сказал, что это особый чай, и теперь я должен буду его выслушать и сделать, что он мне скажет. Прошин сказал, что заметил интерес, который я проявляю к его работе, и он, как и обещал, расскажет мне о ней и покажет свою лабораторию.
Из рассказа Прошина я понял, что он может оживлять мертвецов. Для этого только надо отнести их на поляну, находящуюся в лесу, в полутора километрах на Северо-Запад от его дома, и оставить там на ночь. Прошин сказал, что на поляне есть родник. С помощью воды из этого родника он и оживляет людей. Испарения родника очень ядовиты, поэтому когда Прошин идет туда, то одевает специальный защитный костюм с маской. Потом, в подвале, он показал мне этот костюм. Я отметил, что это – костюм химической защиты, входящий в общевойсковой комплект, снабженный респиратором и защитными стеклами на герметическом капюшоне.
Прошин сказал, что цель его исследований – научиться оживлять людей в лабораторных условиях и в любом месте. Пока он не добился желаемого результата.
Рассказав мне все это, Прошин снова засмеялся и сказал, что мне пора познакомиться с его опытами поближе. Кто-то взял меня за плечи. Я не видел, кто это был, так как не мог повернуть голову. За ноги меня взял другой человек. Это был мужчина, высокого роста, бритый наголо, одет в сатиновый синий халат, без обуви. Цвет лица – бледный, с желтым оттенком, глаза темные, почти черные, очень широкая радужка, белков не видно. Лоб низкий, нос широкий, с приплюснутой переносицей, губы тонкие, зубы желтые и редкие. Я заметил, что на шее, чуть выше ворота халата, кожа у него грубо сшита через край синими нитками.
Меня отнесли в подвал и посадили на у стены. Подвал в доме Прошина большой, насколько я мог увидеть – около десяти метров в длину и около восьми в ширину, высота – около трех метров, освещение электрическое. В подвале находилось несколько шкафов, операционный стол, каталка, накрытая простыней, на которой как мне показалось, лежало тело, вертикально стоящая цистерна наполовину вкопанная в земляной пол, оборудование неизвестного мне назначения и клетка из сварных железных решеток, в которой находилось несколько человек. Точное число я не знаю, потому что в той части подвала, где стояла клетка, освещение не было включено, и в темноте я не видел, сколько именно людей там находится. Все время пребывания в подвале я чувствовал страх и тошноту, а также холод во всем теле. Могу предположить, что следствием приема пищи мертвых, как называл Прошин свой особый чай, было нервное расстройство. Мне было сложно ясно мыслить, и в голове звучали посторонние голоса. Что они говорили, я не мог разобрать. Когда голоса появлялись, начиналась легкая головная боль.
Прошин объяснил, что в подвале проводит свои исследования, а в клетке заперты люди, которых он оживил. Потом откинул простыню, закрывавшую каталку. Под простыней лежало тело мужчины среднего возраста. Насколько я мог видеть со своего места, этот мужчина был пациентом больницы и проходил курс лечения от язвы желудка. Прошин сказал, что мужчина получал в течение трех дней мертвую воду из родника, вследствие чего скончался. Прошин намеревался вернуть его к жизни в своей лаборатории. Если эксперимент в лабораторных условиях пройдет удачно, то он выпишет пациента домой и будет за ним наблюдать. Если же ничего не получится, то вернет тело в больницу, напишет заключение о смерти, а после похорон извлечет труп из могилы, оживит в лесу, и будет использовать для дальнейших исследований. Прошин объяснил, что поступает так со многими пациентами. Он показал рукой на клетку в углу подвала и сказал, что все люди, которых я там вижу, прошли у него курс лечения. Прошин сказал, что, по-видимому, я направлен наблюдать за ним из милиции либо из органов госбезопасности и, наверное, его фамилию назвал моему начальству профессор Покровский. По словам Прошина, ему пришлось убить профессора, подселив к нему в квартиру одного из оживленных пациентов. Он пояснил, что ожившие мертвецы обладают способностью умерщвлять людей, которые хотя бы некоторое время находятся с ними рядом. Смерть происходит от естественных причин, и не может вызвать никаких подозрений. Прошин установил экспериментально, что у человека, рядом с которым помещен оживший труп, в течение нескольких дней снижается температура тела и кровяное давление, затем прекращается работа всех систем жизнедеятельности организма и через короткое время человек умирает.
Потом он объяснил, что оставит меня в живых. Но я никому не должен рассказывать о том, что видел и слышал. Я должен был вернуться в Москву и доложить начальству, что…»
О том, что именно Капустин должен был доложить начальству, Федору узнать не удалось: на этом месте письмо обрывалось.
Глава 39
Если бы от больницы, где Соня лежала, почти не дыша, обмотанная трубками и проводами, до заложновской больницы было чуточку поближе, Вольский, возможно, придушил бы Прошина на месте. Но, к счастью, пока Федор, бешено дудя, мигая фарами и подсекая проезжающие машины, несся к славному городу Заложное, у Вольского было время подумать. Выходило, что, увы, никак этого козла нельзя душить на месте. С этим козлом надо, напротив, поговорить, надо быть с ним ласковым и трепетным, потому что козел этот знает, как выручить Соню, как сделать, чтобы она порозовела, задышала, и снова улыбалась во сне на плече у Вольского. Никто другой этого знать не мог. Потом, когда Прошин все расскажет, когда Соня снова задышит, оживет и улыбнется, Вольский зажарит его на медленном огне с гречневой кашей. Как там? Царевич приходит в избушку бабы-яги, и, отведав пищи мертвых, может победить ее? Что там делали с бабой ягой в сказках? Сажали на лопату? Заталкивали в печь?
Вольский уже отведал пищи мертвых. Его кормили этой пищей, по каплям запускали в него мертвую воду из Смородины-реки через стальную иглу, тогда, в больнице. Он помнил, он и сейчас чувствовал, как холодное и неживое разливается по руке, поднимается к сердцу, отравляет мертвечиной кровь. Теперь он царевич. Теперь он может посадить бабу-ягу на лопату, и сунуть в печь. Он непременно это сделает. Но сначала надо вытрясти из Прошина, как спасти Соню. Еще надо предупредить Дусю, чтобы к нему не ходила. Но телефон Слободской все время повторял, что он, бедный, вне зоны действия сети и просил перезвонить позднее. Объяснить дурной машине, что «позднее» в данном конкретном случае может означать «поздно», было невозможно.
Как им удалось доехать до Заложного за два часа, при этом никого не задавив и не протаранив – один Бог знает. Дусе дозвониться так и не получилось. Когда джип Вольского с визгом затормозил у больницы, часы показывали шесть.
Вольский отправил Федора к Веселовскорму – может, тот знает, где Дуся. Сам же отправился встречаться с Прошиным.
О, дорогого Аркадия Сергеевича в больнице помнили, еще бы! Дорогой Аркадий Сергеевич был меценатом и благодетелем не только в столице. И заложносвской больнице в целом, и каждому из ее сотрудников в частности, перепало от щедрот дорогого Аркадия Сергеевича.
– Заведующий постоянно вас вспоминает, – затараторила сестра приемного отделения, едва завидев Вольского на пороге – Какая жалость! Валентина Васильевича нет на месте! Утром к нему приехала журналистка из Москвы, брать интервью. Вот они вместе и ушли. Заведующий предупредил, что сегодня его больше не появится.
Вольский прибавил про себя, что вряд ли ваш драгоценный Валентин Васильевич теперь вообще когда-нибудь где-нибудь появится. Уж Вольский позаботиться, чтобы избавить город от этой гадины, недаром же он меценат и благодетель. Сестре благодетель сообщил, что хотел бы лично поблагодарить господина Прошина за труды, поскольку именно господину ему обязан столь быстрым выздоровлением.
– Может быть, вы мне дадите его адрес? – попросил Вольский.
– Конечно-конечно, сейчас я вам запишу. Вот, Коммунистическая 12, квартира 7. Прошу вас.
Сдержанно поблагодарив, Вольский, вместо того, чтобы важно прошествовать к авто, сбежал по ступеням вприпрыжку, чем несказанно удивил весь персонал больницы. Верный Федор Иванович уже рулил к подъезду. Пока Вольский беседовал с персоналом, Федор успел метнуться к Веселовскому на квартиру, где застал уфолога-энтузиаста в тоске и недоумении.
Пламенная Слободская с утра должна была встречаться с доктором Прошиным, после чего обещала немедленно заехать за Веселовским. Они вместе собирались совершить исследовательскую экспедицию в лес за кирпичным заводом. Однако, уже вечер наступил, а Анна Афанасьевна так и не появлялась. Веселовский опасался, что она передумала, и уехала в Москву.
– Ладно, уфолог, садись в автомобиль, поедем, поищем Анну Афанасьевну, – велел Федор.
Дважды Веселовского просить не пришлось.
Через десять минут они были у крыльца больницы, с которого резво сбегал к машине Вольский, а спустя еще четверть часа компания затормозила у дома номер двенадцать на Коммунистической улице.
Двенадцатый дом оказался двухэтажным, облупившимся, на три подъезда. Оставив Федора в машине, Вольский поднялся на второй этаж, и принялся звонить, а затем и стучать в квартиру под номером семь. По всей видимости, никого в этой квартире не было.
На площадку высунула нос соседка. Открыла было рот, чтобы наорать на безобразника, мешающего четным гражданам культурно проводить досуг у телевизора, но, увидев в высшей степени приличного господина, который, к тому же, улыбнулся ей и сказал «Добрый день, милая дама», орать раздумала. Красивые мужчины редко называли соседку Прошина милой дамой.
– Простите, – как можно любезнее обратился Вольский к даме, которая, признаться, милой ему вовсе не казалась – Вы не подскажете, Валентин Васильевич не возвращался?
– Так у нас же сегодня пятница, – почесывая за ухом сообщила соседка, и уставилась на Вольского в полном недоумении, как на человека, не знающего самых элементарных вещей – Он теперь тока к понедельнику вернется, к вечеру. На даче он. Круглый год туда ездиит – хошь тебе зима, хошь лето, он на выходных всегда на даче.
– А не скажете, где дача у него? – спросил Вольский – Я специально приехал из Москвы, чтобы с ним встретиться, жаль было бы уезжать не повидавшись.
– Ой, – сказала тетка, покачивая головой – А я и не знаю, где она у его.
Соседка явно расстроилась, что приехавший из самой Москвы красивый мужчина уедет обратно несолоно хлебавши.
– А вы может зайдите, чаю с дороги? – предложила она – А то аж прям жалко вас: ехали-ехали, а его и нету. Заходите, не смущайтесь, вы такой мужчина замечательно вежливый, аж прям жалко вас на лестнице держать.
– Нет, спасибо большое, – мягко отказался замечательно вежливый Вольский – Я лучше поеду. Может, в другой раз.
– Ну тогда счастливый путь, – вздохнула соседка. Определенно, она расстроилась.
Найти дачу Прошина оказалось не так-то просто. В маленькой заложновской больнице, где, казалось бы, все все друг про друга знают, никто почему-то не знал, где заведующий вот уже тридцать лет проводит выходные. Прошин ничего не рассказывал про свою дачу, никого из сотрудников туда не приглашал, а новый год и дни рождения отмечал либо в больнице, либо на городской квартире.
– Еще бы он день рождения на даче справлял, – подумал Вольский – На даче у него лаборатория…
И тут он понял, что на самом деле знает, где она, эта тщательно законспирированная дача Прошина. Два часа назад он читал об этом в письме покойного отца Иннокентия. Как там было? Родник находится от дома Прошина в полутора километрах по прямой на Северо-Запад? Значит, если считать от поляны с родником – полтора километра на Юго-Восток. Двадцать минут ходу.
– Виктор, – обернулся Вольский к Веселовскому – Эта поляна, на которой родник, ну это ваше чертово кладбище – где оно? Доехать туда можно?
Меньше, чем через полчаса Федор осадил джип у того самого места, где две недели назад Веселовский с Дусей вышли из лесу после экспедиции по местам межпланетной славы. Напротив, за полем, чернел с сумерках высоченный тесовый забор.
– Вот она, дача Прошина, – сказал Вольский, и решительно зашагал в сторону частокола, за которым скрывалась лаборатория милейшего Валентина Васильевича.
Из окна машины Федор и Веселовский видели, как открылась калиточка в воротах. На секунду силуэт Вольского показался в прямоугольнике яркого электрического света, а потом снова наступила темнота. Только частокол чернел на фоне вечернего неба. Ни усатый водитель, ни бравый уфолог-энтузиаст, поразивший своими оригинальными идеями любимую тетку пламенной журналистки Слободской, не могли увидеть, как со стороны леса к частоколу подошел человек.
Он шел, по-звериному бесшумно ступая, тенью скользил по траве. И запах от него шел не человеческий. Пахло от него прелой хвоей, осенними заморозками, страхом и восторгом ночной охоты, после которой, сытый и умиротворенный, он лежал, глядя в глубину опрокинутого над лесом ночного неба. Этот лес, которым человек насквозь пропах, стал ему родиной, семьей, жизнью, радостью, это были его угодья, его территория. И следуя тому новому, звериному, что долгие годы дремало внутри, и лишь здесь, в лесу, пробудилось, наполнив все его существо, человек намерен был свои угодья защитить. Он собирался прогнать отсюда непрошенных гостей, повадившихся околачиваться по лесу.
Человек неслышно пробежал вдоль забора, втягивая носом пропахший мертвечиной воздух, и нырнул в заблаговременно вырытый лаз. Кровь бросилась в голову в предвкушении настоящей охоты. До этого он лишь разрывал лисьи норы, но теперь, наконец, пришла пора наведаться в жилище кое-кого покрупнее лисы.
Прокравшись по двору, человек забрался под помост, и затаился, выжидая.
Глава 40
Увидев розовенького, гладкого, радушно улыбающегося Прошина, Вольский снова испытал острое желание удушить эту гниду на месте. Но вместо того, чтобы вцепиться Валентину Васильевичу в горло, он поздоровался и поблагодарил, когда Прошин пригласил пройти в дом.
– Представь, что это сделка, – велел себе Вольский.
В сущности, это и была сделка. Он не удавит Прошина на месте в обмен на Соню.
– Представь, что это просто деловые переговоры, – снова велел себе Вольский.
Таких переговоров ты провел сотни. Ты это умеешь.
Это он и вправду умел. Умел и любил. На этом, собственно, весь его бизнес строился. Прикупая очередное предприятие, следовало блефовать, сбивать цену, делать скучное лицо, не выказывать заинтересованности. Проворачивая сногсшибательно выгодную сделку, надо было страдальчески заводить глаза и цокать языком: «Господа, это грабеж, вы пользуетесь тем, что этот комбинат мне действительно очень нужен». Для него это была любимая игра, вроде покера, только куда более увлекательная. Здесь полагалось притворяться, прятать себя настоящего, никому не показывать. А это Вольский умел превосходно. Этим он занимался всю свою сознательную жизнь, с тех пор, как в детстве понял, что настоящий он недостаточно хорош, что такого, как есть, его никто не полюбит.
Сейчас это тоже была игра. На кону стояла жизнь Сони, которая была куда ценнее, чем жизнь самого Вольского. И показать, как немыслимо высоки ставки – значило проиграть. Если он проиграет, Соня умрет. Значит, проиграть нельзя.
Кажется, великий агент 007 умел по желанию останавливать сердце? Блестящий Джемс Бонд, победитель негодяев, весь в белом, с бокалом мартини в одной руке и пистолетом – в другой.
Подходя к дому Прошина, Вольский приказал своему сердцу остановиться. Он заставлял свое сердце останавливаться много лет, каждый день. Заставлял его умирать, не биться, не чувствовать. Заставлял годами жить без любви. Это было трудно, больно, но – возможно. Сейчас Вольский приказывал сердцу остановиться в последний раз. Если все получиться, сердце сможет биться и любить свободно. Если нет – оно умрет. И Бог с ним. Без Сони Вольскому не нужно сердце.
Итак, он приказал сердцу остановиться. Игра началась, и ближайшие несколько часов работать предстояло только и исключительно головой. Порог прошинской избы на курьих ногах переступил не замученный Вольский с израненной в кровь душой, а беспечный, блестящий, непревзойденный Джемс Бонд. Весь в белом. С воображаемым бокалом мартини в руке и продуманными ходами, убийственными, как меткие выстрелы агента 007.
Едва увидев Прошина, Вольский почувствовал холод в затылке и понял, что нельзя врать. Потому что Прошин – повелитель мертвых – это сразу узнает. С того момента, как Вольский заглянул на ту сторону, откуда приветливо махали ему мертвые руки и неживые голоса шелестели «ты с нами, скорее, иди, ты с нами», у них с Прошиным (повелителем мертвых) установилась странная связь. Об этом знал Прошин, об этом знал Вольский, и от этого было никуда не деться. Так что Вольский не стал врать.
– Я приехал к вам, Валентин Васильевич, с деловым предложением, – заявил он с порога. Уселся на табурет, заложил ногу на ногу и закурил.
– Что за предложение? – поинтересовался Прошин.
– Видите ли, – сообщил Вольский скучным голосом – Ко мне попало письмо покойного господина Качанова, бывшего агента КГБ, в свое время приставленного для наблюдения за вами. В своем письме Качанов очень подробно излагает суть ваших экспериментов. По этому поводу у меня есть предложение – сугубо деловое. Но сначала я намерен потребовать объяснений.
Пока все шло правильно. Акула капитализма Аркадий Вольский приехал к Прошину с предложением, но сперва этот жадный и хитрый человек требует объяснений. Утром деньги, вечером стулья. Можно и наоборот: вечером деньги – утром стулья. Но деньги вперед. Чистый бизнес, ничего личного.
Прошин повел носом, глубоко втянул воздух, прикрыл глаза. Вольский говорил правду. Пока он говорил правду. Пока не врал, хотя что-то там такое мелькало на заднем плане, что-то тревожное.
– Каких вы хотите объяснений? – поинтересовался Прошин.
– Я хочу знать, была ли авария, в которую я попал, случайной, связано ли с вашими экспериментами то, что я чуть не умер в больнице, и, наконец, является ли следствием ваших экспериментов плачевное состояние, в котором сейчас находится госпожа Богданова.
– А что с госпожой Богдановой? – спросил Валентин Васильевич.
– Госпожа Богданова в больнице, в крайне тяжелом состоянии, – пояснил Вольский – Врачи не в состоянии справиться с болезнью. По самым оптимистичным прогнозам ей осталось жить несколько дней. Я считаю себя обязанным принять в ее судьбе некоторое участие, поскольку именно благодаря Софье Игоревне остался жив. Так что жду объяснений. Условия моего предложения, которое может оказаться очень выгодным не только для меня, но и для вас, зависят от того, насколько эти объяснения меня удовлетворят. Должен сразу предупредить: даже не пытайтесь предлагать мне чай. И не делайте резких движений. В ста метрах от дома стоит моя машина. У водителя – приказ: если я не позвоню через час и не сообщу ему, что все в порядке – вызывать боевиков, если не вернусь через два часа – дать им команду взорвать всю вашу лавку к чертовой матери вместе с вами, уважаемый.
– Что ж, – пожал плечами Прошин – Вы умный и предусмотрительный человек. Признаться, жаль, что вы больше не являетесь моим пациентом. Итак, объяснения. Разумеется, вы их получите. Давайте, дорогой Аркадий Сергеевич, пойдем по порядку. Начнем с аварии. Это случайность, но случайность для меня очень счастливая, да-с. Я, видите ли, в своих исследованиях за последние годы очень сильно продвинулся. Я научился возвращать пациентов к жизни в лабораторных условиях. Увы, ненадолго, совсем на короткий срок. В ряде случаев они возвращались в исходное состояние на десятый – двенадцатый день. Максимальный срок – три недели. Но и это – громадный успех, к которому я шел более двадцати лет. Однако для дальнейших исследований требуется финансирование. Конечно, практически все пациенты, не имеющие близких родственников, составляют завещания в мою пользу. Но к большому моему сожалению, в основном это малообеспеченные люди. Ну что они могут после себя оставить? Сберкнижку с десятью тысячами рублей? Бабушкино обручальное кольцо? Дачу на шести сотках? Вы же понимаете, это несерьезно. И тут в больницу попадаете вы! Господи! Поразительная, небывалая удача! Знаете, ирония в том, что в ночь аварии я был совсем рядом, на поляне, работал. У меня было два новых пациента. Позже я узнал, что мы с ними проходили совсем рядом с вашей машиной, когда вы лежали без сознания. Я чуть локти не искусал: пойди мы по другой дороге – все решилось бы сразу, быстро и безо всяких хлопот. Но, увы, в тот раз мне очень не повезло. Вас нашли, отвезли в больницу, а я был выходной, и узнал обо всем только на следующий день. В итоге этот день промедления дорого мне обошелся. Да-с… – Прошин покачал головой, задумался на секунду, и продолжал.
– Согласитесь, что жизнь одного человека – не слишком большая жертва во имя счастья тысяч, миллионов людей. Пройдя процедуру возвращения к жизни, мои пациенты не только становятся послушны моим желаниям, но и на определенное время сохраняют свой привычный облик и даже до некоторой степени манеру поведения. Если, конечно, процедура проведена правильно. Изменения наступают много позже… В вашем случае это имело большое значение. Я не хотел ни у кого вызывать подозрений.
– Что вы имеете в виду? – спросил Вольский.
– Вы бы вернулись в Москву, – пояснил Прошин – Обналичили часть своих счетов, для покупки предприятия или еще зачем – вам лучше знать, вы бы сами нашли приемлемое объяснения своему поступку. А затем две-три недели продолжали бы работать, как ни в чем не бывало. Если я вывожу пациентов больше, чем на тридцать километров от Заложного, они не очень долго живут. Но этого времени было бы достаточно. Я бы получил средства на то, чтобы закончить исследования, а вы умерли бы через некоторое время, не привлекая внимания к моей персоне.
– Хороший план, – похвалил Вольский.
– Да, – согласился Прошин – К сожалению, ничего у меня не вышло. В первый же вечер я направил к вам медсестру… Это милая девушка не знала, разумеется, что вместо лекарства шприц наполнен мертвой водой, как я называю для простоты эту субстанцию, и укол должен вызвать вашу скоропостижную смерь от самых естественных причин. Однако Софья Игоревна проявила поразительную бдительность. Тогда я решил поместить в соседнюю палату одного из моих пациентов, уже прошедших процедуру возвращения к жизни. Насколько я понимаю, в записях Качанова вы прочли, что даже кратковременное соседство с ним должно было также привести к вашей смерти. Но эти покойники тупы, уважаемый Аркадий Сергеевич. Тупы и ограничены. Почуяв человека, они стараются добраться до него. Уж не знаю, как он открыл дверь, и куда смотрел санитар, но пришел ведь в палату, стервец, переполошил полбольницы, насилу угомонились потом. И ведь объяснял я санитару: пациент после сепсиса, не в себе, запирайте палату хорошенько… Какое там! Ушел к шоферам в карты играть, а эта образина вылезла… Не поверите, как с ними трудно иногда!
Вольский кивнул и постучал пальцами по столу, выражая легкое нетерпение.
Прошин торопливо извинился, что отвлекся, и продолжал.
– В конце концов, я лично установил вам капельницу с той же мертвой водой. Ждать дольше было опасно – ваше состояние улучшалось, даже несмотря на визит моего пациента. Увы, краткий визит… Не думайте, что мне было просто добраться до вас. Днем в палате постоянно сидел этот цербер, Борис Николаевич. Неотлучно сидел, просто поразительно… Он, кажется, ни разу даже по нужде не вышел… Ночью – Софья Игоревна, тоже очень добросовестная особа, да еще водитель вечно в коридоре. Я больше не мог рисковать. С Борисом Николаевичем я поступил в высшей степени просто. Заметив, насколько он неравнодушен к женской красоте, решил этим воспользоваться, и направил к нему навстречу одну из моих пациенток. Вы знаете, это поразительно, но даже самую непривлекательную женщину можно сделать настоящей красавицей, поместив на некоторое время в мой регенерационный котел. Там у меня особый состав – исключительно растительное сырье, важно только поддерживать нужную температуру… Дама, с которой провел ночь, а затем следующий день ваш врач, при жизни красотой не отличалась. Когда мы познакомились, это была усталая изможденная женщина. Но видели бы вы ее сейчас! Цветок. Как есть цветок! Увы, цветок этот увял, едва она удалилась на некоторое расстояние от лаборатории. Однако свою задачу пациентка выполнила – отвлекла внимание уважаемого Бориса Николаевича, нейтрализовала его на необходимое мне время.
Что касается водителя, тут я даже и к услугам своих пациентов прибегать не стал. Заплатил по сто рублей малолеткам, велел постучать по стеклам вашей машины, а сам позвонил в милицию, и сообщил, что некий гражданин подозрительной наружности пытается угнать автомобиль господина Вольского. Так что вскоре ваш водитель попал в отделение милиции.
Труднее всего было с Софьей Игоревной. Как ее выманить из палаты? Днем мне удалось незаметно спрятать в карман несколько ампул с кетамином. Борис Николаевич был занят с вами, ну я и улучил момент… Дальше – просто. Ночью Софья Игоревна должна сделать вам укол, но лекарства в коробке нет. Зная, что запас препаратов хранится в моем сейфе, а ключ от кабинета – у дежурной сестры, Софья Игоревна отправилась в сестринскую. Но там никого не было: я отправил Полину Степановну на третий этаж, где пациенту, якобы, сделалось плохо. Кроме того, я заблаговременно угостил Таню леденцами, сваренными на мертвой воде. Вы, наверное, в курсе, что Таня – в прошлом кикимора, то есть не вполне живой человек. Мертвая вода действует на нее особым способом. Если обычного человека она убивает, то кикимору, хотя бы и бывшую, делает послушной моим приказам. Я приказал Тане следовать за Софьей Игоревной и задержать ее вплоть до следующего распоряжения.
Увы! Мой прекрасный план и на этот раз сорвался! Очень некстати Софья Игоревна закричала, и еще более некстати на ее крик прибежала Полина Степановна. Если бы это был любой, любой другой человек, хоть сам папа римский, все удалось бы. Но Полина Степановна – Танина крестная мать. А для бывшей кикиморы крестная мать – сильнее и черта, и бога, и колдуна, и любой мертвой воды. Цепь глупых, досадных случайностей…
Софья Игоревна застала меня у вашей постели. Пришлось срочно покинуть помещение. Я, правда, успел впрыснуть в капельницу мертвой воды, но Софья Игоревна проявила удивительное упрямство. Собственно, по этой причине она и находится теперь в столь плачевном состоянии.
– Что вы имеете в виду? – спросил Вольский. Сердце гулко ударило под ребро, но он снова приказал ему остановиться.
– Видите ли, в некоторых случаях умирающего можно выкупить, предложить кого-то взамен. В литературе такие истории описаны. Некоторые этнографы упоминают также о поверьях и обрядах, цель которых – обмануть смерть, подсунув вместо человека фальшивку. Я читал о похоронах куклы, например. Это, по-моему распространено в Поволжье. Если младенцы в семье умирают, то в колыбель вместо родившегося ребенка кладут куклу, а потом оплакивают ее и хоронят. Считается, после этого ребенок будет жить. Не думаю, что подобные рассказы имеют хоть какую-то реальную почву. Во взаимоотношениях с миром мертвых обман неуместен. А вот договор – другое дело. И Софья Игоревна такой договор заключила, подписав бумагу о том, что всю ответственность за ваше здоровье и жизнь берет на себя. Вы, как я вижу, вполне здоровы, Софья Игоревна должна быть довольна: если я правильно понимаю, она вам сильно симпатизирует.
Вольский вытащил сигареты, закурил.
– Ваши объяснения меня вполне удовлетворили, – сказал он – Теперь выслушайте мое предложение. Оно, в частности, касается и состояния Софьи Игоревны. Мне не хотелось бы знать, что молодая симпатичная девушка умерла только из-за того, что испытывала ко мне теплые чувства. Я чрезвычайно ценю свой душевный покой, и не желаю мучиться угрызениями совести. Поэтому предлагаю вам сделку. Я профинансирую ваши исследования. Они заинтересовали меня, здесь, по-моему, открываются очень большие перспективы. Разумеется, как инвестор, я буду контролировать работу, требовать ежемесячный отчет. Помимо этого, я оставляю за собой преимущественное право на использование ваших разработок. Моя доля прибыли составит 75 процентов. Возможно, на первый взгляд условия кажутся грабительскими, но уверяю вас: это совершенно стандартная практика. К тому же, каждый должен заниматься своим делом. Вы ученый, вот и отдавайте себя целиком науке. А я бизнесмен, и сумею извлечь из ваших открытий максимальную материальную выгоду. Так что подумайте. И вот еще: одно небольшое дополнительное условие. Как уже было сказано, я очень ценю свой душевный покой. Поэтому начну финансировать ваши исследования лишь после того, как Софья Игоревна выздоровеет. Полагаю, это несложно будет устроить.
Прошин молчал, задумавшись.
Вольский тоже молчал. Нельзя было сейчас частить, уговаривать, выдавать заинтересованность.
– Поймите, драгоценный мой Аркадий Сергеевич, – замялся доктор – Финансирование мне действительно необходимо.
Это Вольский уже понял. За десять лет в бизнесе он научился очень здорово понимать, кому и что необходимо.
– Я готов предложить вам не 75, а 90 процентов прибыли, – продолжал Валентин Васильевич – Для меня деньги вообще имеют значение лишь с точки зрения возможности продолжать работу. Но что касается Софьи Игоревны, здесь я, увы, бессилен. Такого рода договор не имеет обратной силы. Ничем, ничем не могу помочь. Действительно не могу, извините.
У Вольского похолодело внутри.
– В таком случае наша сделка не состоится, – произнес он равнодушно, и встал с табурета – Всего доброго. Вот мой телефон, если передумаете – звоните.
Эту фразу Вольский говорил сто пятьдесят тысяч раз, и отлично знал, что будет дальше.
Он повернулся, и медленно пошел к двери. «Раз. Два. Три…» – считал Вольский про себя. Не думать, не думать, не оборачиваться. Господи, как все было легко, как весело, каким молодцом он себя чувствовал, когда проделывал то же самое на переговорах. Но сейчас ноги сделались ватными, и внутри все корчилось. Вольскому было страшно. Так страшно, как никогда в жизни.
«Остановись! – в третий раз приказал он сердцу – … Четыре, пять…. Ну, давай. Давай, старый пердун…. Шесть, семь…»
На счет девять Прошин сломался. Догнал Вольского, схватил за локоть.
– Постойте! Погодите! Думаю, кое-что можно сделать. Я вспомнил…. Пойдемте! Я сейчас подниму свои записи, по-моему, там было что-то, только не помню что… Пойдемте, вот сюда вниз…
Тараторя, как сорока, Прошин потащил Вольского по коридору, потом – вниз по лестнице.
– Сюда, сюда, Аркадий Сергеевич, сейчас, тут ступенечки. Осторожнее, голову, тут дверь низкая, вот сюда прошу вас…
Вольский остановился посреди просторного подвала и осмотрелся. Все было в точности так, как описывал Качанов, только над цистерной-котлом не клубился пар. Лишь воздух чуть дрожал, как сильного жара.
– Извольте. Моя лаборатория, – с гордостью повел руками Прошин.
– Вон там, – показал он на клетку в углу – Размещаются мои пациенты.
У Вольского сжалось сердце. Он отвернулся, и уставился на котел.
– Это вот как раз последняя разработка, – объяснил Прошин – Качественно новая субстанция, благодаря которой в принципе стало возможно оживление в лабораторных условиях.
Вольский подошел ближе и хотел было заглянуть в котел.
– Что вы! – закричал Валентин Васильевич – Осторожнее, не подходите близко!
– А что такое?
– Видите ли, температура субстанции в спокойном состоянии доходит всего до ста двадцати градусов. Этого достаточно, чтобы обвариться. Однако стоит туда попасть постороннему предмету, будь то клочок мха, пчела, окурок, либо человеческое тело – и начинается бурная химическая реакция, в результате которой субстанция разогревается до пятисот градусов Цельсия. Вообразите, какой жар! Одно неловкое движение – и вы вспыхнете, как спичка. Мне приходится быть очень осторожным во время процедур. Сам я надеваю защитный костюм, а пациентов оборачиваю тканью, пропитанной специальным жаростойким составом во избежание повреждений. Аркадий Сергеевич, Бога ради, отойдите вы от котла! Пройдемте, посмотрим лучше мои записи…
Вольский прошел вслед за Прошиным в дальний конец подвала, к несгораемому шкафу.
– Будьте добры, вон та коробка, на верхней полке, помогите мне достать, – попросил Прошин.
Вольский потянулся, нащупал коробку, и потащил на себя. Внезапно в голове загудело: «Тревога, тревога!» Коробка было слишком легкой, почти невесомой. Не могли там лежать бумаги, не было там никаких картонных папок с записями за тридцать лет. Вольский понял, что налетел, как последний дурак, и стремительно обернулся. В руке Прошина блеснул шприц. Словно в кино, при замедленной съемке, Вольский увидел, как Валентин Васильевич улыбнулся, и в глазах его засветилось нечто такое неживое и холодное, что у Вольсковго все перевернулось внутри. Он понял, что проиграл.
Глава 41
Пламенная Слободская лежала в маленькой темной каморке. Через щели в дощатой перегородке, отделявшей каморку от комнаты, откуда десять минут назад вышли Вольский с доктором, Дуся слышала весь разговор. Она была в двух метрах от Вольского, но ни пошевелиться, ни голос подать не могла. Все из-за треклятого чая, которым напоил ее сумасшедший доктор. Когда они пошли в подвал, Слободская поняла, что это конец. Все. Финита. Сейчас этот псих раскроит Вольскому череп топором, или еще что придумает. В любом случае, спастись не удастся, и пробивающийся сквозь щели жиденький свет электрической лампочки будет последним, что Дуся видит в своей жизни. В смысле, в своей нормальной, человеческой жизни. Потому что доктор, всего вернее, пустит ее на опыты. И будут они с Вольским на пару сидеть в решетчатой клетке, пялиться друг на друга пустыми мертвыми глазами и пускать слюни.
Представив себе это, Слободская в такой ужас пришла, что очередной раз попыталась пошевелиться. Бесполезно. Все, что она могла делать – это пялиться в потолок. Даже слюни пускать не могла.
– Кто-нибудь, кто меня слышит! – попросила Слободская – Кто-нибудь ненормальный, кто-нибудь, кто верит в телепатию, пришельцев и прочую ерунду! Пожалуйста, прочитайте мои мысли на расстоянии, и пришлите сюда летающую тарелку. Дорогие спасатели с Марса! Даже если вы трехглазые зеленые уроды, я непременно выйду за муж за одного из вас. Или за всех разом, и буду каждый Божий день играть вам на арфе! Я специально научусь играть на арфе, только заберите меня отсюда. Хоть кто-нибудь, заберите!
Так она лежала, и просила всех подряд выручить ее из беды. Марсиан, маму, старший командный состав сил противовоздушной обороны, организацию объединенных наций, и даже дюжину известных ей богов, каждый из которых представлял свое религиозное направление, и ни в одного из которых Слободская не верила. И вот, когда перебрав богов наиболее популярных, и не добившись толку ни от Будды, ни от Аллаха, ни от отца, ни от его сына, она дошла до второразрядного Шивы-разрушителя, случилось чудо. Чья-то косматая голова заслонила бьющий в щели электрический свет, и давно немытое, пахнущее лесом существо уставилось на Дусю внимательными голубыми глазами. С трудом Дуся опознала в этом существе человека.
Человек этот пришел поохотиться на упырей, повадившихся таскаться в его лес. Он рассматривал Дусю, наклонив набок нечесаную башку и громко сопел. При виде неподвижной Слободской в глазах у которой застыл смертный ужас, что-то в мозгу человека колыхнулось, прошло рябью по поверхности сознания, и вдруг неожиданно вынырнуло воспоминание о том, как сам он лежал точно также. Только над головой был не дощатый потолок, а бездонное звездное небо.
Он тогда притащился в лес на встречу с инопланетянами. А встретил доктора Смерть, занятого со своими покойниками. Он пытался спастись, убежать, но споткнулся о корень, и упал. И понял, что убежать не получится. Он лежал, и смотрел в опрокинутое небо. Потом сильные руки схватили его. Пахнуло эфиром. Грубая ткань легла на лицо. Сладкий удушливый запах потек в ноздри, закупорил легкие, и он уплыл в темноту, успев подумать, что это конец.
Однако главный заложновский уфолог Валерьян Электронович Савский (а это был именно он) не сгинул в ту ночь посреди темного леса. Оказалось, что с жизнью товарищ Савский попрощался несколько преждевременно. Усыпив Сапвского эфиром. Прошин решил на время оставить уфолога в придорожной канаве. Валентин Васильевич торопился закончить оживление, поскольку активность родника, необыкновенно сильная в тот день, вот-вот могла пойти на убыль, и следовало спешить. Позже доктор намеревался вернуться за Савским, оттащить его в лабораторию, и поработать с уфологом в спокойной обстановке. Но вышло иначе.
Пока Прошин возился с оживлением, пока окунал пациентов в родник и раскладывал по шалашикам, из-за поворота дороги вынырнул автобус, следующий рейсом Москва-Калуга, и резко затормозил, раскидывая гравий из-под колес. Из автобуса вывалилось полтора десятка работяг, которые отправились в дорогу с московского автовокзала шесть часов назад, успели уже выпить все припасенное, спеть три раза про черного ворона и пообжиматься с кондукторшей, а теперь жаждали не столько глотнуть свежего воздуха, сколько освободить организм от излишков жидкости. Нетрезвые пассажиры разбрелись по кустам. Один из них натолкнулся в канаве на бесчувственного Савского. Приняв несчастного уфолога за утомленного «Невским оригинальным» товарища по путешествию, сердобольный мужик дотащил его до автобуса, мешком свалил на сиденье.