Зона бессмертного режима Разумовский Феликс
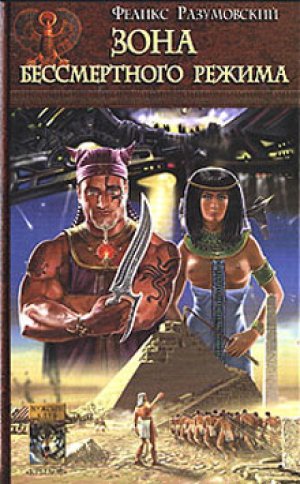
— Это я к тому, хлопцы, чтобы памятник встал крепко, ровно и вовремя, — жутковато улыбнулся Небаба. — А не дай бог, какая слабина, задержка или перекос обнаружится, не обижайтесь. Присыплю без «Беларуси».
Он вроде бы в шутку подмигнул, одел на бритый череп картуз и кинулся догонять своих, огромный, мощный, широкоплечий, однако двигающийся с проворством хищной ласки. Такой зароет. Да что там без «Беларуси» — без лопаты. Не посмотрит на мерзлый грунт.
Поминки были ранними, импровизированными и обильными — в маленькой кафешке с претензией на оригинальность где-то в конце Московского. Данила развернулся, не ударил в грязь лицом, заказал всего горой, по всей программе, навалом, однако пили и ели немного, все больше молча, без всякого энтузиазма. Васильевич стеснялся, сам Бродов грустил, Небаба с Рыжим пребывали в пессимизме, Филатов же хоть и посматривал оценивающе на стол, однако же крепился, выдерживал свой имидж. Образ респектабельного, знающего все и вся, крутого, как поросячий хвост, бывалого чекиста.
— Фед Федорович, ну ты как там, нарыл чего? — спросил его Бродов уже в конце, когда молчание и разносолы осточертели. — Насчет Женьки-то?
— А как же, как же, процесс идет, — показал зубы тот. — Наша фирма веников не вяжет, фирма наша делает гробы. Гм… — Он резко замолчал, глянул на часы и с жадностью, не удержавшись, хватанул бисквит. — Ух-х-х. Только знаешь, давай потом. Позвони мне сегодня примерно в восемнадцать, тогда и поговорим. А сейчас, друзья мои, мильпардон. Труба зовет. Наша служба, сами знаете, и опасна и трудна. Приятно было, однополчане. До встречи.
Руку он подавать не стал, вяло просемафорил ею в воздухе и, застегнув дубленку до горла, дабы не простудить оное, стремительно отчалил. Без него сразу как-то стало лучше.
— Вот сволочь, — прошептал Небаба. — Надо было мне его тогда отдать под трибунал. А лучше — акулам. А еще лучше — ребятам…
— Да ладно тебе, Семен. Он просто марку держит, не хочет говорить при всех, — успокоил его Бродов, успокоился сам, велел халдею набить невыпитым спиртным мешок и осчастливил Васильевича: — Демьян Васильевич, без обид. Бери, бери, и помяни Женьку как следует. Выпей за упокой его души. А мы потом. Когда дело одно сделаем. Ух и напьемся же.
И пошел Бродов со товарищи делать то самое дело. Собственно, Рыжий и Небаба отправились проведать Женькину мать, а Бродов позвонил своему бывшему слушателю, семинаристу-активисту-многозаходнику, набивавшемуся в свое время в лучшие друзья.
— Павла Юрьевича, пожалуйста. Нет, по приватному. Паша, привет, это Данила Глебович Бродов. Да, тот самый Бродов из Иркутска. Есть разговор к тебе, срочный. Петроградскую? Найду. Давай говори. Так, так, есть, понял. Все, беру авто. Еду.
Через час он попал на Петроградскую сторону, в старый, помнящий еще, наверное, не социалистов, а декабристов, проходной двор. Тем не менее опрятный, выскобленный от снега, с огороженной парковкой под присмотром видеокамер. На ней четыре одномастные ядрено-фиолетовые «десятки», строевые, всегда оседланные кони, которых, если и убьют в бою, то не жалко. Да, все в этом мире познается в сравнении — у Бродова таких вот скакунов в Иркутске был целый табун. Может, Паша плавал и хорошо, но, на первый взгляд, мелковато.
«Ладно, плевать, главное, чтобы человек был хороший». Данила тронул дверь под вывеской «Нотариус», с достоинством вошел, поговорил с охранником и был направлен вниз, где увидел еще одну дверь, железную, на коей авторитетно значилось: «Решение всех проблем». За дверью этой оказался евроремонт, секретарша, приличный офис и в самых дебрях его — он, семинарист-энтузиаст Паша. Все такой же крепкий, розовощекий, уверенный в движениях, с «мазучим», липким каким-то взглядом, какой бывает у оперов. Он был не один, рядом сидел амбал с бледными, будто выцветшими, глазами, звездой Героя на выпуклой груди и взглядом цепким, пронизывающим и недобрым, какой бывает не у оперов даже, а у особистов.
— Данила Глебович, привет. — Паша подобострастно улыбнулся, кинулся вперед, почтительно, с несказанным уважением поручкался с Бродовым. — Какими судьбами к нам? Надолго ли? — И, не давая ответить, спохватился, показал на амбала: — Да, вот, знакомьтесь, Данила Глебович, напарник мой, Михаил…
— Васильевич. — Тот легко поднялся, упруго подошел, протянул солидную мосластую конечность. — А вы, как я понял, и есть тот самый сибирский виртуоз. Паша много о вас рассказывал. Семерых одним ударом. Да, чудеса…
Ростом он был пониже Бродова, зато пошире в плечах, и в голосе его звучали скепсис, недоверие и незлобивая насмешка. Требовалось незамедлительно устанавливать с ним психологический контакт, пока из категории нейтральных он не перешел в разряд врагов.
— Чудеса? Отчего же, — улыбнулся Бродов. — Мы, Михаил Васильевич, рождены, чтобы сказку сделать былью. Вот вы, я посмотрю, мужик крепкий…
— Мастер спорта по рукопашке, — подтвердил герой. — В боевых условиях все проверено неоднократно.
— Ну вот и отлично, — обрадовался Бродов. — Так что давайте, становитесь. И все будет у нас как в сказке.
А когда герой сподобился, кликнул Свалидора и установил контакт. Пястью в челюсть. Не давая герою упасть, мягко перекантовал его в кресло и бесстрастно, будто не случилось ничего, повернулся к Паше:
— Друга у меня убили, боевого. Взорвали в машине. С невестой. Очень хочу найти того, кто это сделал. Поможешь? Деньги не проблема.
— Ох, сука, ох, бля. — Герой пошевелился, выругался, очухиваясь, открыл глаза. — Где конкретно взорвали-то? Когда?
Говорил он невнятно, с трудом, зато с неподдельным интересом. Похоже, психологический контакт был установлен. И надолго.
— Третьего дня. В Московском районе. На глазах у его матери. — Бродов вздохнул. — Она сейчас в реанимации лежит. Состояние критическое. Единственный сын…
— В Московском? — не то удивился, не то обрадовался Паша. — Так это же моя земля. Сколько лет там ножками, ножками. Хотя без разницы. Дело наверняка в прокуратуру заберут.
— Ладно, тебя как звать-то, сибирский виртуоз? — пристально, словно в первый раз увидел, герой уставился на Бродова. — А, Данила? Глебович? Давай, Данила Глебович, выпьем водки. За упокой души друга твоего. И заодно моих помянем, сгибнувших в Афгане. А там видно будет…
Когда объемистая бутыль «Смирновской» опустела, а от куры-гриль остались рожки-ножки, наступила полная ясность. Нет ничего, оказывается, на свете крепче настоящей дружбы. Мужской, боевой, бескорыстной, лишенной меркантильных интересов. И вот во имя нее, этой самой дружбы, они, Паша с Мишей, найдут Дане гадов, покоцавших его боевого кореша. Ну а уж там, видимо, он и сам разберется. Со всей мужской принципиальностью, бескомпромиссностью и напором. По полной программе.
Было уж без пяти минут шесть, когда Бродов вынырнул из подземелья на воздух. На улице по-прежнему шел снег, дома стояли в белых шапках, на перекрестках общались не разъехавшиеся друг с другом водители, ждали эвакуаторов, комиссаров[224] и неприятностей. Было как-то мягко, скользко и нерадостно. Зима…
— Фед Федорович, привет, это Бродов, — набрал Данила номер Филатова. — Встречаться давай. Я на Петроградской.
— А я в районе Сенной, — даже не поздоровался тот. — Давай встретимся на Садовой через сорок минут. Жди меня у входа в Юсуповский сад.
— Буду, — пообещал ему Бродов, вырубил связь и легко заарканил деда на «Жигулях». — Гони, отец. Не обижу.
В указанное время он уже был на месте — в обнимочку с метелицей, в компании с морозом, однако Филатов припозднился, подъехал только к семи на синей, видавший виды, замызганной «девятке». По номерам и неухоженному виду сразу ясно, что тачка служебная.
— Салям. — Бродов неспешно влез, сел на тихо стонущее кресло, шмыгнул невозмутимо носом. — Ну, Фед Федыч, как успехи?
Если бы не нужда, он бы не то что разговаривать — близко бы к этому Фед Федоровичу не подошел. Уж больно гнилой — воняет.
— Да хвастаться особо нечем, тем паче дело забрали к себе наши. — Филатов усмехнулся, но как-то зло, отчего бульдожьи его брыли пришли в движение. — В общем, тайна за семью печатями. Черт лысый ногу сломит. Так что успехов у нас пока что ноль. В отличие, Данила Глебович, от тебя. — Он снова усмехнулся, игриво подмигнул и, вытащив бумажку, деловито зашуршал. — Так-с, хозяин и гендиректор охранного концерна «Скат», почетный президент Иркутской федерации у-шу, легальный долларовый миллионер. В общем, владелец заводов, газет, пароходов. Богатенький Буратино…
— Ох и сволочь же ты, Фед Федыч. Гад, ну просто пробы ставить негде, — с улыбочкой отреагировал Бродов. — К тому же стеснительный. Нет бы сразу сказал — сколько тебе надо. Так сколько? Сколько не стыдно поиметь на смерти боевого товарища?
— Конечно же, сволочь. Так ведь раньше бурлаков называли, вот и я держусь за лямку безопасности отечества, — нисколько не обиделся тот, индифферентно кивнул и вдруг переменился в лице, позеленел от злости и пролаял с надрывом, совсем по-человечески: — Зато ты у нас весь такой белый и пушистый. Умник. А ты хоть в курсе, сколько платит мне это самое отечество за эту сраную лямку? Про весь этот бардак вселенский тебе рассказать? А знаешь ли ты, что в деле вашего Жени замешаны наши из сектора «Z»? Что, интересно тебе? — Он замолк, вытащил сигареты, жадно, в одиночку закурил. — В общем, я за просто так в эти игры не играю. Плата по таксе. Такса — как за частную розыскную деятельность. Ну и плюс еще издержки там всякие. Накладные расходы. Башка у меня одна, а пацанки две. Да еще супруга любимая. Крыса.
Да, похоже, в жизни чекиста Филатова особой гармонии не наблюдалось.
— Ладно, — согласился Бродов, кивнул и вытащил пачку зелени. — Вот две с гаком, это так, для начала. А теперь излагай, не томи. Давай, я весь внимание.
Деньги в руки не дал, положил на «торпеду» — с педерастами и запомоенными никаких тесных контактов. А Филатов ничего, взял, пересчитал, убрал подальше и начал продавать секреты родины. Странную он рассказал историю, темную, не очень-то похожую на правду. Женьку с Кларой, оказывается, угробили пластидом. Не при помощи презера с начинкой[225], не при посредстве гранаты с чекой и леской, привязанной к кардану, — нет, используя современнейшие технологии. Пластид, инициатор, дистанционный подрыв. И все это ради того, чтобы уничтожить «копейку» со сторожем и бульварной писательницей? Тем не менее популярной, причем весьма, — на следующий же день утром кто-то на корню скупил весь тираж ее новой книги. Оптом, не торгуясь, по розничной цене. Кроме того, непонятно как пропали все оригинал-макеты, тексты и корректуры, от творения Клары не осталось и следа. Натурально не осталось — днем кто-то влез в ее квартиру и украл ни много ни мало винчестер из компьютера. Старый, допотопный двухгиговый винт, цена которому — ничто. М-да, такая вот странная история. Однако самое удивительное было в другом — во время всей этой литературной кутерьмы засветились товарищи из сектора «Z». Секретнейшей, тщательнейше залегендированной, подчиняющейся напрямую Москве структуры, которая занимается черт знает чем — как видно, корректированием демократии. Господи, ей-то что в ископаемых «копейках», начинающих писательницах и бульварной прозе? И потом, что, туда набрали дилетантов? Или, может, это кто-то сработал под них? Ловко перевел стрелки? Мастерски замел следы? Кто? «Агаф Моддин»? «Хаганах»? «Шеруд Битахон»? Моссад? «Кидон»? Интеллиджент Сервис? ЦРУ? Ми-6? Кому понадобились двухгиговый винт и вся эта шпионская реклама?
— Не знаю, — честно признался Бродов, коротко вздохнул, а сам почему-то вспомнил Веню-еврея, косившего под араба. Не по своей воле косившего, но тем не менее. А еще Бродов вспомнил Дорну и ее певучий голос, повествующий о негодяях «пришлых». Так и норовящих сделать пакость какую-нибудь, да не как-нибудь, а под чужой маркой. М-да. Это-то здесь к чему? Эх, видимо, не надо было ему пить «Смирновскую» в компании Паши и Миши.
— Ну вот, все это мы и имеем в первом приближении, — начал закругляться Филатов. — Что же касается второго приближения… Есть у меня майоришка один из службы нашей внутренней безопасности. Все, поганец, знает, в курсе всего. И коньяк пьет. Но — не из мелкой посуды и под хорошую закусь. Так что придется вести гада в ресторан. Дорогой. И неоднократно. Вот так, господин миллионер, в таком вот поперечном разрезе. Намек понял? Тебе куда, к метро?
— Не напрягайся, обойдусь. Завтра позвоню, — отозвался Бродов, не прощаясь, вылез, с удовольствием вдохнул стылый морозный воздух — ух, хорошо.
Действительно хорошо, будто из клоаки выбрался, из зловонной ямы, из хоревой норы. Господи, до чего же вонюч этот полковник Филатов, по знаку зодиака, рубль за сто — козел. Да и по жизни та еще скотина.
А Филатов между тем включил огни, бодро просигналил поворотником и, резко дав с места лево руля, покатил по направлению к Московскому проспекту. В унисон с ним взял старт и коричневый «опель» и, выдерживая дистанцию, попилил себе следом — аккурат на расстоянии десятка корпусов.
«Неужели хвост?» Бродову такая синхронность очень не понравилась, и он не удержался, позвонил Филатову.
— Ты головой-то давай крути. А то крутить скоро будет нечем.
— Вот как? — озадачился тот. — Ладно, мерси. Будет тебе система скидок.
— Ага, сегодня не разбавляла, поэтому буду недоливать, — хмуро шутканул Бродов, отключился и, работая не только ножками, но и серым веществом, пошагал к метро. Ситуевина была какой-то зыбкой, неопределенной, непредсказуемой и нерадостной. Получалось так, что все дело было в Кларе, точнее, в ее творчестве. А еще точнее, в ее книге. М-да. Во всяком преступлении следует искать мотив, причину, побудительные намерения. Первейший делом задавать вопрос — кому это все нужно? Во-во. Кому же это так стало поперек глотки обыкновенное бульварное чтиво, что понадобилось угробить автора, скупить тираж и уничтожить все тексты, корректуры и макеты? Винт украсть, зачистить все следы? Ухарям из структуры «Z»? Очень может быть. Только почему об этом знает какой-то там полковник Филатов? Или же и он сам оттуда? Тогда зачем ему с такой готовностью светить родимую контору? Потому что знает французскую поговорку — хочешь оставаться незамеченным на улице, вечером встань под фонарь? Да, вот где потемки так потемки.
Действительно, стемнело. Снежная белая круговерть смешалась с серостью сумерек. Краски вечера оживляли светофоры, автомобили, яркие сполохи витрин, синяя, в виде заячьих ушей эмблема на станции метро. На фасаде ее было написано: «Сенная площадь».
«Ладно, хрен с ним, как-нибудь разберемся». Бродов, чувствуя желание поесть, бодро пересчитал ступени, окунулся в тепло, купил жетон и начал спускаться под землю. Вроде бы час пик уже прошел, но желающих проехаться хватало — на холке эскалатора люди стояли впритык, на переходах встречались плечами, в вагонах обтирались спинами. Однако все было тихо, мирно, без ропота и эксцессов — привыкли стадом-то, в толпе, в одном загоне, в одной кормушке. Мерно постукивали колеса, инерция баюкала народ, что-то бормотал, хрен еще и разберешь, голос из вагонного динамика. Казалось, что хозяина его только что оприходовали — злостно, гнусно, орально и вшестером.
В общем, ничего не предвещало неприятностей, они пришли неожиданно. Вернее, пришел Свалидор, и сразу же Бродов обратил внимание на тощего мосластого мужика. Мужик этот с непринужденностью профи ужом пробирался сквозь толпу. Мастерски чувствовал баланс, юрко изгибался на ходу, легкими, едва заметными движениями с мягкостью прокладывал себе путь. По направлению к Бродову. И сразу же мир для того превратился в замедленное кино. В привычный кроваво-убийственный боевик со счастливым концом. А мужик тем временем, двигаясь как сомнамбула, как осенняя муха на стекле, принялся вытаскивать заточку — очень медленно и печально, по чуть-чуть, откуда-то из глубин рукава. Вот показалось острие с наколотым на него, чтобы самому не пораниться, кусочком ластика, вот цепкие пальцы сдернули его, вот мерзостно отсвечивающая шестидюймовая рапира[226] пошла по направлению к Бродову. Точно под его левую лопатку. Это была так называемая «скрипка», кусок расплющенной сталистой проволоки с остро заточенными краями, длины которой хватало с лихвой, чтобы продырявить сердце. Нет, такая музыка Свалидору не нравилась — он плавно извернулся, пошевелил рукой и перенаправил заточку атакующему в грудь. Причем сделал так, чтобы боевая часть вонзилась в тело, а рукоять-колечко с хрустом отломилась. Вот так, сделал свое мокрое дело и свалил, оставив Бродова разбираться с последствиями. Однако ничего — вагон качнуло, инерция взяла свое, и пассажиры не сразу поняли, что одного из них не держат ноги. И уж тем более никто внимания не обратил на завиток колечка из проволоки, сразу же затерявшийся в сутолоке на полу.
— Человеку плохо, — поняли одни. — Сердце.
— Давайте его сюда, на сиденье, — засуетились другие. — И машинисту дайте знать.
— Да пьяный он в дым, лыка не вяжет, — подал голос Бродов. — Готовьтесь, сейчас блевать начнет. А, вот уже…
И первым стремглав, подавая пример, рванул на безопасную дистанцию. Народ вокруг дрогнул, отшатнулся, пришел в движение, возникла неразбериха и толкотня. Кто, что, чего, откуда, зачем, почему… Главное — в блевотину не вляпаться. А тут еще и поезд остановился, разъехались створки дверей, и Бродов спокойно, безо всяких препон подался из вагона подальше. По перрону до эскалатора, вверх до вестибюля, неспешно, но энергично через двери на мороз. Попал он хорошо, куда надо, — перед ним на противоположной стороне Московского проспекта светила окнами гостиница «Россия». Мрачный, задумчивый и злой вернулся Бродов в заангажированные пенаты. Был он к тому же и голодный, как лесной санитар, ибо убийственное приключение в метро никак не отразилось на его пищеварении.
— Ты это откуда такой, командир? — сразу понял его внутренний настрой Рыжий. — Никак еще один мокрый грех взял на душу? Не беда, давай колись, я все прощу.
Отношение к жизни и особенно к смерти у него было, как и у Свалидора, — трезвое. Труп врага пахнет хорошо. А лучше когда вообще нет живых врагов.
— Да ладно, после расскажу, теперь жрать охота, — проглотил слюну Бродов. — У вас-то как там, в больнице?
— У нас все отлично. Насколько может быть отлично в больнице, — успокоил его Рыжий. — Купили коньяку, закуски, дали денег. За это нас пустили к Женькиной матери. Чувствует себя она не особо, все бормочет, вроде бы в бреду. Что-то вроде: они вернулись… Кларочка сказала, они вернулись… Они вернулись и убили ее и Женечку… Они вернулись… В общем, разговора по душам не получилось. Да и вообще не получилось разговора-то. — Рыжий усмехнулся, посмотрел на Бродова и перевел взгляд на Небабу, уставившегося в телевизор. — Семен, кончай ты зомбироваться, пошли выпьем водки.
— Ну да, без поллитры здесь не разберешься, — согласился тот и выключил ящик. — Вот у волков, к примеру, кто возглавляет стаю? А? Правильно — самый сильный, самый выносливый, самый ловкий. Самый достойный, одним словом. А у нас? — Он выпятил нижнюю губу и сам же дал ответ на свой вопрос: — Тьфу…
Ладно, спустились друзья в ресторан, поужинали, неспешно вернулись в номера, и Рыжий, ставший после водки добрым, крайне тактично попросил:
— Ну что, командир, рассказывай давай. Вводи личный состав в курс дела.
Ага, мокрушного до невозможности.
— Да что тут особо рассказывать-то? — дернул плечами Бродов. — В метро ни проехать, ни пройти, сплошной бандитизм. Шастают мужчинки всякие разные с заточками, так и норовят по-тихому заглушить мотор. Мне все это, честно говоря, очень не нравится. Более того, я категорически против. Так что пришлось поганца валить. С концами. А потом валить самому. В темпе польки.
— Что за мужик? Какого окраса? — бодро осведомился Рыжий. — Может, это случайный какой?
— Да нет, на случайного не тянет. Имел, гад, в виду конкретно меня, — хмыкнул невесело Бродов. — А что касается окраса, хрен его знает. Кругом народище, теснотища, толком не разберешь. Мужик и мужик, тихий такой, одно яйцо у него левое, другое, соответственно, правое.
— Слушай, Дан, а как там Филатов? — вклинился непринужденно в общение Небаба. — Яйца-то у него как, еще присутствуют? Вот ведь загадка мирозданья — зачем пидору яйца? Причем пидору гнойному…
Что-то его сегодня тянуло на обсуждение вопросов этического свойства.
— Не знаю, как в плане спермы, а вот гноя там хватает, — поморщился Бродов. — Совсем гнилой стал Федор Федорович, воняет за версту. Настоящий полковник… из ГБ.
И он в подробностях довел информацию, купленную по случаю у Филатова, — и про Женьку с Кларой, и про структуру «Z», и про все эти шпионские коллизии. А в голове его все вертелась, возвращалась вновь и вновь, шла по кругу фраза, сказанная Рыжим: «Они вернулись… Они вернулись… Они вернулись…»
Они вернулись? Нет, право же, это какой-то бред, фантастика, полная фигня. Совершеннейшая ахинея, чушь на постном масле.
Эндшпиль вечера прошел вяло — Небаба общался с прессой, Данила с ноутбуком, Рыжий — по телефону с Наговицыным, оставшимся в Иркутске за старшего. Настроение было пакостным, разговаривать не хотелось, и все, откликнувшись на призывы Морфея, не задумываясь пошли спать. Утро, оно, как известно, вечера мудренее.
Собственно, некоторая положительная динамика появилась на следующий день лишь к обеду, после звонка Паши. Они с героем Мишей были, без сомнения, людьми слова и, рьяно взявшись за дело, сумели выяснить следующее. В день, когда взорвали Женьку, была драка. Жестокая, кровавая, в парадной Клариного дома. Дрался Женька с полудюжиной крепких, вооруженных ножами мужиков. Соседка с первого этажа, подглядывавшая в щелку, уверяла, что дрался на равных — кровища лилась ручьями у обеих воюющих сторон. Затем нападающие, подхватив двух своих, отчалили на желтом микроавтобусе, а Клара дотащила Женьку до «копейки» и тоже куда-то повезла, видимо в больницу, — на нем просто живого места не было. Однако, если верить документам, ни в дежурную больницу, ни в районный травмпункт он так и не попал. То есть можно предположить следующее: Женька по дороге умер, и Клара резко изменила курс к дому его матери, пообщалась с ней и вернулась в «копейку», которую сразу же взорвали при помощи радиомины, установленной на днище где-нибудь в районе бензобака. Сделать это, пока Клара отсутствовала, было раз плюнуть. Так сказать, не мытьем, так катаньем. И никаких следов — заряд пластида был чудовищен, гвардейский танк угробить можно. Вот так, такие дела.
— Ну, Паша, рахмат, — с чувством сказал Бродов, бодро дал отбой и позвонил Филатову, надеясь, что и тот его хоть чем-нибудь порадует. Фигушки, какая, к черту, радость от чекиста. Филатовский мобильник не реагировал, а по служебному вдруг почему-то объявился дежурный, какой-то старший лейтенант Писсукин.
— Товарищ полковник отсутствует. Что передать?
По недовольному голосу его было ясно, что АОН не высветил бродовский номер, — ну да, щас тебе, накося выкуси, не первый год замужем. От мертвого осла уши…
— Так, — констатировал Данила, вырубив связь, — похоже, положительная динамика закончилась. С нашим общим другом что-то конкретно стряслось. Думаю, что-то нехорошее.
— Ну да, бог шельму метит, — нахмурился Небаба. — Вот, блин, ведь даже здесь от него проку ноль. Хорошо, если не минус. Что, нет его?
— И говорят, не будет, — почесал затылок Данила. — Адрес его домашний есть?
— Не-а, — буркнул Рыжий. — В гости он нас не звал, писем не писал. Держался на полковничьем расстоянии. А потом, что за проблема? В метро вовсю торгуют базами данных, в подземных переходах во весь рост[227]. Тоже мне высшая математика, тоже мне бином Ньютона. Мы ведь живем, растакую твою мать, в демократическом обществе. С развивающимися, так ее растак, товарно-денежными отношениями. Было бы уплочено. — Он витиевато выругался, тяжело вздохнул и принялся одеваться. — Сейчас принесу.
Действительно, вернулся он быстро — принес горячих треугольных пирожков с творогом и круглый, радужно переливающийся диск с информацией. Детективы сунули его Даниле в ноутбук, дружно взяли выпечку на зуб, и скоро Федор Федорович Филатов был у них как на ладони. Обретался он, оказывается, на воздухе, на периферии, в Красносельском районе, в Сосновой Поляне. Жил действительно семейно, с законной супругой и двумя дочерьми, имея в своем личном полковничьем распоряжении «жигулевское» чудовище пятьдесят третьей модели. Да, похоже, родина не очень-то баловала своего защитничка.
— Командир, мы съездим. Ты будь здесь, — тихо, но с напором подал голос Рыжий. — И вообще, тебе лучше бы лечь на дно. Вчера в метро это так, преамбула, пробный шар, первый звонок. Сам ведь знаешь, захотят — достанут. А мы даже и не знаем, откуда дует ветер.
— Да, лучше не писать против ветра, — подтвердил Небаба, с достоинством кивнул и мощно вжикнул «трактором»[228] своего супер-«пилота». — Ну все, я готов.
— По аллеям тенистого парка с пионером гуляла вдова, пионера вдове стало жалко, и вдова пионеру дала, — несколько не в тему профальшивил Рыжий, оделся, подмигнул, заявил: — Командир, не скучай, — и отчалил с Небабой.
Клацнул замок, затихли шаги, в номере повисла тишина. Гнетущая.
«Вот черт. — Данила, выругавшись, включил ти-ви, пощелкал пультом и вырубил ящик. — Вот дерьмо». Он встал, сделал круг по номеру и взялся было за ноутбук. Однако очень скоро понял, что общаться ни с компьютерной красавицей, ни с кавказской пленницей, ни с Иваном Васильевичем, который меняет профессию, не хочет. Вот, блин, дожили. Он, Данила Бродов, по сути Свалидор, вынужден сидеть в своей норе, загибаться от скуки и не высовывать носа. А с другой стороны, куда идти? Кому рвать глотки, плющить черепа, сворачивать челюсти и дробить позвонки? Кто враг? Где? И почему?
«Ну его на хрен, ничего нет хуже неопределенности». Бродов со вздохом рухнул на кровать, вытянулся на спине и постарался уснуть. Мысли его ползли натужно, словно пообедавший с размахом удав боа-констриктор. Дорна, Египет, Женька, события последних дней. Все какое-то туманное, двусмысленное, отмеченное налетом тайны. Какой-то фатальной, не поддающейся формальной логике, будоражащей воображение иррациональностью. Не дал Бродову заснуть командный, повелительный стук в дверь костяшками пальцев.
«Хм». Данила разлепил ресницы, встал, бесшумно подошел поближе:
— Кто там?
Никого доброго и хорошего он не ждал — неприятности не приходят в одиночку.
— Открывайте, милиция, — требовательно сказали за дверью. — Проверка паспортного режима.
Однако и Свалидор молчать не стал, мрачно и зловеще ухмыльнулся:
— Пусть, пусть шуткует. Недолго ему осталось.
— Иду, — громко отозвался Данила, плотно прижался к стене и, вытянув на всю длину руку вдоль нее, нащупал пуговку замка. — Открываю.
Резко сработала пружина, клацнул язычок замка, и сразу же, словно бурав какой начал гулять по двери — в ней стали появляться ровные, аккуратные отверстия. Диаметром в сантиметр. Жалобно звякнуло стекло, брызнула во все стороны штукатурка, а в коридоре все будто хлопали в ладоши, и дверь превращалась в решето. Наконец наступила тишина. Было слышно, как вытащили обойму, вставили новую и передернули затвор. Угрожающе, зловеще, не оставляя ни единого шанса.
— Ох-ох-ох, — до омерзения плаксиво и до удивления громко застонал Данила. — Ох…
Собственно, Бродов уже ушел, у стены, остановив поток времени, стоял и ждал врага Свалидор. А дверь уже потихонечку открывалась, и в номер по миллиметру заходил супостат, тщедушный усатый мужичок с ноготок в форме капитана милиции. В руках он держал дымящийся АПСБ[229] — даром что российский ствол, но на американский манер, с двойным хватом. М-да, хороша же милиция, которая нас таким вот образом бережет.
— Альз, — рявкнул Свалидор, изымая ствол, вышиб из врага сознание и благополучно свалил, оставив Бродова разбираться.
Ну а тот особо мудрствовать не стал, стреножил капитана, привел его в чувство и с ходу бросил пробный камень:
— Расскажи-ка ты мне о «пришлых».
И сразу же раскаялся, понял, что не время разбрасывать камни, время собираться с мыслями.
— А-а-а!.. О-о-о!.. У-у-у!.. — Тело капитана вздрогнуло, выгнулось в агонии и мелко задрожало, изо рта пошла кровавая пена, зубы дробно выступали бешеную чечетку. — Зы-ы-ы…
Это было похоже на приступ эпилепсии, на судорожные конвульсии безумствующих кликуш, на исступленно-оргастическое действо общающихся с духами шаманов. Однако продолжалось все это недолго — милиционер вскрикнул, вытянулся и с хрипом затих, став неэстетично оскалившимся, остывающим трупом. Да, впрочем, какой там милиционер? К гадалке не ходи — мурзик.
— Так. — Бродов выругался про себя, сориентировался в реалиях, снова выругался, на этот раз вслух, и набрал номер Рыжего: — Привет. Вы где?
— Прибыли на место. Вот эта улица, вот этот дом, — отозвался тот. — Что-нибудь не так?
— Скажи Семену, чтоб возвращался, — мягко приказал Бродов. — Летом, в темпе вальса. У меня здесь сюрпризец для него. Горизонтальный. Остывает.
— Ну, блин, — понял сразу Рыжий. — Лады, сейчас Сема включит скорость. Держись.
— Жду. — Бродов отключился, глянул на часы и обратил свое внимание на мурзика. Хотя нет, сейчас уже, наверное, капитана — ксива, форма, знак «Отличник милиции» были совершенно натуральными. Совершеннейший милиционер, правда, тихий очень и не компанейский…
«И одно яйцо у него левое, другое правое». Бродов посмотрел на труп, брезгливо отвернулся и вдруг услышал полифонию своего мобильника. Звонил Рыжий, особого энтузиазма в его голосе не чувствовалось:
— Привет, командир, давненько не слышались. Говоришь, горизонтальный у тебя? А у нас тоже. Филя гавкнулся. Вчера вечером, со стоянки шел. Жена говорит, его, вусмерть пьяного, сбила с концами какая-то машина. Ее, естественно, не нашли. Нашли Филю, прямо-таки накачанного спиртом. Уж не в жопу ли клизмой его накачивали[230]?
— Очень может быть. — Данила глянул на расстрелянную стену, поежился от ветра, задувающего в окно. — Давай на базу, будем разгребать дерьмо.
Небаба не задержался — открыл дверь, задумчиво осмотрелся, поцокал по-философски языком.
— Да, что-то скверный сегодня день. Ты не поверишь, командир, пока сюда ехал, позвонили из больницы — Женькина мать умерла. Час назад, не приходя в сознание. Вот так. Теперь вот этот еще. — Он хмуро посмотрел на капитана, с гадливостью поморщившись, вздохнул: — Занюханный-то какой. Получше не нашли?
— Да, хреновый сегодня день, — сделался мрачен Бродов. — Ты, Семен, даже не представляешь насколько. Звонил Рыжий. Филатов погиб. Спинным мозгом чую, что его убрали. Накачали, видимо, спиртом, как лягушку, а потом положили на проезжую часть. Метода знакомая.
— Да? — не особо-то расстроился Небаба, покусал губу и снова обратил внимание на отличника милиции. — Ну а у этого с проходом как? До жопы раскололся? Очко лопнуло от страха?
— Да нет, Семен, ты не понимаешь, — усмехнулся Бродов. — Товарищ капитан, измордованный работой, неспешно себе шел гостиничным коридором, отчего-то сразу невзлюбил твою дверь и с чисто милицейской прямотой и принципиальностью засадил в нее из «стечкина» целую обойму. А потом от полноты чувств скоропостижно умер. От чего? Пусть разбираются соответствующие органы. Ты же ни сном ни духом — пришел с мороза, и вот такой, блин, сюрприз. Неприятный, горизонтальный, не внушающий оптимизма. Ну что, приступим? Эх, ухнем…
Вдвоем они вытащили милиционера в коридор, устроили понатуральнее, вооружили по уму, и Небаба, одевшись, изображая идиота, принялся в истерике звонить на ресепшен. В том плане, что он здесь краем, не в курсах и не при делах и не будет отвечать за испоганенную дверь, покоцанную стену и ушатанные стекла. И вообще, в номере теперь сквозит, жутко неуютно и крайне антисанитарно. Да и тело мертвого мента у входа в коридоре отнюдь не прибавляет положительных эмоций. В общем, не гостиница «Россия», а базар, вертеп, бандитское гнездо.
Такое подействовало, примчались сразу. Начали суетиться, звать милицию, мило объяснять подтягивающимся массам, что это пустяки, какое-то недоразумение, маленькая, ничего не значащая техническая неполадка. Ну да, подумаешь, труп мента со «стечкиным» в коридоре. Словом, все пошло путем, именно так, как оно и надо. Бродов, не забыв про ноутбук, тоже отправился к себе, позвонил, чтобы тот был в курсе, Рыжему и вернулся на место происшествия — там уже было людно, шумно и ужасно любопытно. Все сочувствовали Небабе, костерили правительство и клеймили позором кровососов-ментов. У, сатрапы, вымогатели, уроды, палачи, опричники недорезанные, ворошиловские стрелки. Не знают чувства меры, устраивают беспредел, нажираются, гады, в дупель, до белой горячки. Вот этот, правда, не белый, а синий и уже остывает.
Скоро приехали внутренние органы, следом за ними — органы компетентные, и вступила в силу оперативно-следственная рутина — вынюхивание, выискивание, опросы, разговоры. Только все впустую: капитан молчал, свидетелей не было, Небаба талантливо работал под Швейка — мол, ничего не знаю, за дверь платить не буду. Ни компромата, ни следов, ни подоплеки, ни мотивов. Только неизвестно отчего зажмурившийся усохший Рэмбо в ментовской форме. М-да. Наконец оперативный пыл угас — капитана оттащили, лезть в душу перестали, начали потихоньку разъезжаться. Небаба с Рыжим тоже тронулись на четвертый этаж, в предоставленный, взамен слегка поврежденного, равноценный номер. К Бродову поближе. Вот уж воистину, все, что ни делается, все к лучшему.
А Бродову как раз в это время позвонили с незнакомого номера.
«Ну и кто это еще?» — угрюмо подумал он, послушал и удивился.
— Гм, ну я это, я. Ну, привет, привет.
Звонил Васильевич, бывший Женькин напарник. Навеселе, но в миноре, говорил осипшим голосом, преисполненным почтения и душевной боли:
— Даниле Глебовичу наши почет и уважение. Тут, значит, такая у нас петрушка вырисовывается. Трагедия, верней. Сегодня утром начал разбираться на полке, а там книжонка лежит, Женька читал. Вот я и подумал, что, может, вам оно будет интересно. Пухлая такая книжонка, с закладкой, на триста с гаком страниц… — В голосе его, полном скорби, звучали мука и надежда: — Ох и нажрались же вчера, башка болит, надо бы добавить, но куда податься, а тут вот он, человек хороший. Добрый человек, отзывчивый, правильно понимающий жизнь. Да если к этому человеку умеючи, со всем нашим полнейшим уважением…
Через час Бродов встретился с Васильевичем в метро, облагодетельствовал его бутылкой водки и получил ту самую книжонку. Сигнальный экземпляр романа Клары, ее последнее «прости» — помятое, чудом уцелевшее, сомнений нет, оставшееся в единственном числе. Книга, которая пришлась кому-то очень и очень не по вкусу. У себя в номере Бродов покрутил ее, повертел, наугад раскрыл и уже не отрывался — ушел с головой. Время для него остановилось.
Глава 12
— Утес, за тебя! За твою звезду! За нас! За удачу! — Шамаш поднял шприц с экстрактом ханумака, с чувством облизал иглу и, глубоко вонзив ее себе под подбородок, принялся жать на шток. — Ух ты, сука, бля!.. Эх, хорошо пошло. Ну, утес, чтобы хер стоял и деньги были!..
— Да, да, утес, за тебя, — подхватили все и тоже взялись за баяны. — Ух ты! Ну, сука, бля!.. Да, да, утес, чтоб стоял и были…
Дело происходило на Земле, в Шуруппаке, на вершине зиккурата, в величественном храме сиятельного Ана, который, казалось, куполом подпирал самое небо. Были все свои — Тот, Шамаш, Нинурта, Мочегон, Таммуз, Гиззида, Красноглаз и верхняя братва. Ну а в самом центре стола, на козырнейшем месте, сидел, само собой, Он — Отец всех ануннаков, Прародитель черноголовых, опора и надежа, лучезарнейший Ан. Верховный небожитель, Царь Богов, Носитель Скипетра, Тиары и Закона. Сам, естественно, находящийся выше оного. В качестве гостя, и гостя почетного, вместе со всеми зависал Исимуд, даром что махор[231] и купи-продай, а тоже ануннак нормальный, свой, живущий по понятиям. Сидели тесным кругом, по-тихому, без баб, активно отмечали пуск домны в Бад-Тибире. Собственно, как без баб-то — рядом у бассейна в чем мама родила застыли по стойке смирно служительницы культа. Ногастые, задастые, упруго-буферястые, чье единственное предназначение — залетать от богов. Гладкие такие телки, классные и на все изначально согласные. Мало что жрицы, мало что верховные, так еще и золотые дукаты[232], на каких заразу не зацепишь. И денег не берущие, берущие в рот. Только позови.
Трепетно играли в унисон арфы и свирели, радовало вкус искусство поваров, воздух был напоен ароматом благовоний, звуками гармонии и дымом тринопли. Да, славно, очень славно было на вершине зиккурата, под самыми небесами, у пенных облаков. Впрочем, внизу, на грешной Земле, было тоже совсем неплохо — там, поражая размахом и величественностью, гордо раскинулся Шуруппак. Древний, видевший тысячелетия город — храмы, мостовые, колонны, дворцы, террасы, лепнина, цветущие сады. Весело, по-праздничному, зеленела листва, веяло прохладой от прозрачных вод каналов, ветер шелестел в камышах гизи, хлопал парусами лодок и судов. И повсюду — на улицах, на набережных, на широких площадях — ликовали люди. Те самые, амелу, лулу, из глины смешанные, черноголовые. Распевали гимны, жгли костры, вытанцовывали под звуки флейт, шушан-удуров и кимвалов. Шибко радовались прибытию Великого Ана, брата-супруга достославной Анту и отца-родителя мудрого Энлиля, великолепного Энки и наидобродетельнейшей Нинти. Под самые небеса, до вершин зиккурата долетали звуки гимнов, согревали сердца и смешивались с дымом курящейся тринопли:
- Да благословят нас Боги Бездны,
- Да благословят нас Жители Небес!
- Да благословят каждый день нас —
- Каждый день и в месяц каждый,
- В каждый год!
— Эх, хорошо поют, — веско одобрил Исимуд, с важностью почесал в штанах и, глянув на ближайшую к нему крутобедрую служительницу, оскалился с плотоядным энтузиазмом. — Да и вообще хорошо. Пойду-ка я купнусь…
— Да, путевые лакшовки, — поддержала братва и тоже начала с воодушевлением подниматься, — утес, ты как, не возражаешь? Мы недолго. Щас устроим групповой заплыв!..
— А ведь и вправду, дорогой учитель, эти лулу удались, — гордо, не без пафоса констатировал Тот, глядя, каким успехом пользуются служительницы. — Они недурны собой, сообразительны, дружелюбны и легко обучаемы. Жаль вот только смертны…
Тот знал, что говорил, даром, что ли, напрямую контачил с самыми продвинутыми черноголовыми. Под его чутким руководством люди достигли многого: развили науки, освоили ремесла, научились металлургии, скотоводству, земледелию. Процесс шел, причем активно: смышленые лулу занимались торговлей, строили высотные дома, врачевали с успехом себе подобных, с чувством музицировали, употребляли колесо, сочиняли стихи, заседали в судах. С подачи Тота потомки обезьян вышли в люди[233]…
— Да уж, — согласился Ан, с завистью взглянул на кутерьму в бассейне, горестно вздохнул. Все-таки положение обязывало его держать фасон, и, чтобы хоть как-то отвлечься, Ан спросил: — А как там этот твой сынок?.. Э… Зиусурда? Не балует? Хороший мальчик?
Восемь лет тому назад Тот поставил опыт на самом себе — лично оплодотворил яйцеклетку обезьяны, поместил ее в матку своей второй жены и через девять месяцев мастерски принял новорожденного. Это был здоровый, качественно выношенный мальчик, назвали его местным именем Зиусурда. Сейчас, еще будучи малолеткой, он умел читать, писать, вести учет и развивался прямо-таки на глазах. Куда ты денешься — пошел в папу.
— Спасибо, учитель, мужает. Скоро у него уже половое созревание, — мило отшутился Тот, с юмором кивнул и, вытащив свой неизменный вычислитель, разом отвернул от темы: — Кстати, учитель, к вопросу размножения. Я вот тут прикинул кое-что в первом приближении, не угодно ли взглянуть?
— К вопросу размножения? — Ан трудно оторвал глаза от действа у бассейна, тяжело вздохнул. — Ну, давай, давай. О размножении-то.
Собственно, речь шла о популяции черноголовых. Они плодились и размножались со страшной силой, заселили уже все Междуречье, и требовалось немедленно и энергично расширить их ареал обитания. Естественно, дабы совместить приятное с полезным, в экономически целесообразные регионы — туда, где можно разводить карпа Ре, выращивать ханумак и добывать кубаббару. На примете пока что было два подходящих места — устья мощных полноводных рек, названных условно Нилом и Индом. Как их заселять, каким макаром? Вот задача так задача.
— Ага, значит, так? Этак? В таком вот разрезе? — с ходу ухватил сущность Ан, подумал, поцокал, одобрительно кивнул. — А новый космопорт построим вот здесь. И посадочный коридор пройдет вот так. Ну, лады, ажур. Молоток. Давай, углубляй тему, делай второе приближение. И не затягивай давай, видишь, что творится. — И он махнул рукой в сторону бассейна, где, впрочем, блудодейство уже пошло на убыль — жрицы, вдосталь вкусив божественного семени, пребывали в прострации, сами боги полоскались в водичке, один лишь Исимуд все никак не унимался, охаживал партнершу и так, и этак, и сяк. Вот ведь верно говорят, мал золотник, да долго. Наконец угомонился и он, общение на гормональном уровне приказало долго жить, и братва степенно потянулась к столу:
— Ну, бля, в натуре целки. Ну, бля, вдарили по рубцу!..
— Иди, милая, иди. Ты теперь с божественной начинкой, — потрепал Исимуд жрицу по бедру, хмыкнул сыто, подтянул штаны и, вернувшись вразвалочку на место, принялся делиться впечатлениями. — Да, генерал, здорово здесь у вас. Конечно, не так здорово, как в подземном бардаке на Дзете Циркуле, но тем не менее очень даже, очень. И колорит этот… Бодрит…
Так, за разговорами, ханумаком и икрой карпа Ре незаметно пролетело время. Солнце стало подаваться к горизонту, жар его лучей ослаб, близился вечер.
— Так, пора. — Шамаш глянул на хронометр, затем на Мочегона, тот властно зыркнул на братву: — А ну-ка, урки, ша.
И тут же случилась преудивительная метаморфоза. Бандиты разом подобрались, отбросили мат и резко превратились в небожителей среднего командного звена. Так, чинно, мирно, степенно, не спеша, они и спустились с небес на землю. Впереди Ан с охраной, за ними Шамаш с Тотом, следом Мочегон с Красноглазом, в арьергарде ануннаки попроще. Замыкал процессию Исимуд, сытый, пьяный, утешенный всем человеческим, гуляющий сам по себе, словно альдебаранский муркот.
А внизу сиятельнейшего и блистательнейшего Ана с сопровождающими его богами уже ждали — иерархи культа, жреческая гвардия, почетный эскорт и ликующая, чудом сдерживаемая вооруженным стражниками толпа. Как же, как же, вот Он, Царь, Владыка, Прародитель, Отец черноголовых. Еще Ана дожидалась Анту, старшая, нелюбимая, но официальная супруга, — сидела под балдахином, у служителей на плечах, глазела на толпу и сладчайше улыбалась.
«Климакс у нее начинается, что ли?» — горестно подумал Ан, однако ничего, уселся рядом, сделал ручкой массам и властно, так, что иерархи вздрогнули, велел:
— Вперед.
Путь его лежал по улице Богов, вдоль священной набережной к чистейшему чертогу, сияющему подобно меди, чертогу, чьи величественные стены задевали облака, — Храму Ану, называемому еще Домом Ана. Неиссякаемо было восхищение людское сей обителью, удивление — нескончаемо. А дальше была парадная, строго регламентированная долгомотина пира. Начиналась она, как всегда, во внутреннем дворе храма, с посиделок: Ан и Анту восседали на тронах, а вокруг строго по ранжиру занимали места подчиненные. Вот с изящным кивком пожаловал Энлиль — шикарный, самодовольный, с давно не битой мордой. Вот с намеком на поклон нарисовался Энки, угрюмый, недовольный, упивающийся своей непонятостью. Вот разноцветной бабочкой-однодневкой впорхнула Нинти, ее бедра, груди, ягодицы, спина находились в перманентном движении. Вот явился, твердо ступая, Шамаш, за ним Нинурта, следом Тот…
— Слушай меня внимательно, ты, сучий потрох, — с ходу начал разговоры Ан, выругался матом и посмотрел на Энлиля. — Не вытянешь месячный план — расквашу бубен. Вдрызг. Ты, надеюсь, не забыл, как работает эта штука? — И он с ухмылочкой показал свой жилистый правый кулак. — Ну? Или напомнить?
— Не надо, отец, не надо. И вообще я здесь ни при чем, — дернулся в кресле Энлиль. — У нас тут отвлекающий фактор. Мешающий работам. Касающийся Наннара[234] и Гибила. Очень отвлекающе касающийся…
— Что, опять? Подрались? — разъярился Ан. — И Гибил накостылял Наннару? Так, что тот лежит? Ну, такую мать! — Он гневно зарычал, сурово сдвинул брови и мартовским муркотом воззрился на Энки: — Почему разрешаешь сыну бить своих? Где превышение плана по куги? Почему, блин, такую мать, развел на шахте бардак? Или ты забыл, как действует вот эта штука? — И он продемонстрировал левый кулак, такой же жилистый и крепкий, как и правый. — Ну?
— Что вы, что вы, отец, помню прекрасно. — Энки побледнел. — Ваши указания будут немедленно учтены со всей решительностью, в наиполнейшем объеме. И в плане сына, и касательно плана. Ошибки устраним, недоработки искореним. Под самый корень…
— То-то у меня, — буркнул Ан. — А не искоренишь, сам останешься без корня. Ну а ты, дочь? — Он перевел взгляд на Нинти. — Надеюсь, не забыла про ржавые теллуриевые щипцы не для колки орехов? Которые тебе все же, видимо, придется испытать на своем клиторе. Медленно, прилюдно и печально. Заливаясь слезами, кровью, скорбью и мочой. А? Что, не хочешь? Тогда ответь мне, почему карп Ре пошел такой мелкий? Ханумак дерьмо, а тринопля по вкусу напоминает солому? Что, глистом болеет? Жучок поел? Эрозия, выветривание плюс засоленность почв? А мне насрать. Не вытянешь в полной мере задание по икре, я из тебя лично все твои внутренности выдавлю. Всю твою икру с молоками, такую мать! Ясно? Ну вот и хорошо. Я всегда подозревал, что ты смышленая девочка.
Так вот они и общались на самом верхнем уровне, а во дворце тем временем шла полным ходом подготовка к пиру. Пока накрывался стол для вечерней трапезы, состоящий из напитков и возбуждающих аппетит яств, жрец-астроном всходил на верхнюю ступень божественного храма, дабы взглянуть на звезды. Ему надлежало наблюдать в определенной области неба восход планеты, именуемой Великим Небесным Ану, после чего следовало начинать произнесение стихов, посвященных «Тебе, в сиянии ослепительного блеска, небесная планета Владыки Ану» и «Восставшему лику Создателя», опять-таки божественного Ана. А в это время особый жрец, избранный из тысяч благодаря личным статям, «помазывал смешением доброго вина и масла» двери спальни, где предстояло провести ночь Ану с Анту. Видимо, чтобы петли не скрипели. Ложе, понятное дело, точно скрипеть не будет.
И вот свершилось. Когда по появлении планеты жрец принялся читать стихи, Ан с Анту омыли руки водой из золотого сосуда, побрызгали на окружающих, и началась первая часть пира. Приступили к закускам. Затем все остальные боги омыли руки, побрызгали, в свою очередь, на окружающих, и началось второе действие. Подали горячее. Завершали пир сладкое «ритуальное» полоскание рта и гимн «Планета Ану — Небесный Герой» в дружном исполнении адептов. Вот так, повеселились, блин. Ни тринопли, ни ханумака, ни запечатанных, на все готовых жриц. Только углеводы, белки, музыка, как серпом по яйцам, да тупо улыбающаяся, еще из подполковничьего прошлого, супруга. Внешне мало чем отличная от здешних обезьян. М-да…
А в палате между тем зажгли факелы, с новой силой затянули гимн, истово, так что стены задрожали, заиграли на шушан-удурах.
— Благословен ты будь, Великий Ан, Супруга твоя и семя твое, — выкрикнул громоподобно, в экстазе иерофант, коллеги его по искусству подхватили, и в окружении жрецов, певцов и слуг божественная чета удалилась на покой. В то самое воняющее вином и маслом святилище. А вот Энки, Энлилю, Шамашу и Нинурте этой ночью было не до сна. Они должны были бдеть до рассвета — по полной боевой, при параде, внушая благочестивый страх во внутреннем дворе храма. Как бы чего не случилось. Собственно, бдели, и не на шутку, только Нинурта и Шамаш, следили, чтобы братья не сцепились. Однако те держались с достоинством. Энки, игнорируя компанию, думал о своем, прикладывался к фляге, Энлиль также хранил молчание, в общение не лез и время от времени, чтобы лулу уважали, постреливал из бластера куда-то за горизонт. А вокруг, в ночи, за стенами храма пульсировала и торжествовала городская жизнь — все горели костры, все звучали кимвалы, все ревело многотысячное окрыленное многоголосие:
- Люди всей земли зажгут очаг в домах
- И угощенье богам предложат…
- И стража городская запалит костры
- На улицах и площадях широких…
В общем, ночь прошла впечатляюще — с шумом, гамом, заревом костров и сполохами боевого бластера. А потом было утро. Естественно, с утренней трапезой, сопровождаемой чтением священных гимнов «о пожатиях рук», после чего, хвала небу, началась процедура убытия. Ан с Анту заняли места под балдахином, жрецы-носильщики подняли их на плечи, невыспавшиеся боги пристроились в кильватер, угрюмый Красноглаз, державший мазу[235], хрипато приказал:
— Давай.
И опять были гимны, экзальтированные толпы, улица Богов и священная набережная — путь лежал на север, вдоль канала, на взлетный терминал.
«М-да, ну и представление». Хмуро Ан посматривал на ликующий народ, на сосредоточенных жрецов, на местного правителя, поставленного им на царство. Все у них, блин, точно как у нас. Сотворили по образу и подобию. Сильные жрут слабых, порядок — как в хорошей хате: паханы, мужики, чуханы и педерасты. Это что же, закон вселенной — всякая обитаемая планета по сути своей похожа на Нибиру? Летящий по своей орбите колючий орнамент[236]? На хрен такие законы, на хрен такую вселенную.
Наконец дошли.
— О великий Ану, да будешь ты благословлен небом и землей, — дружно затянули прощальную молитву местный царь, верховный жрец и его подручные. — Не забывай нас, благословляй нас, ты наш Отец…
— А вы дети мои, — рявкнул Ан в громкоговорящее устройство, да так, что дети его вздрогнули, обнялся с корешами, попрощался с подчиненными и в компании супруги, Мочегона и братвы чинно зашел на борт. Следом по трапу двинулся печальный Исимуд, — похоже, ему здорово не хотелось покидать голубую планету. Однако куда ты денешься? Загромыхали двигатели, вздрогнула земля, и грузопассажирский, напоминающий гигантский фаллос «Апин», могуче встав на огненном хвосте, пошел вверх — летали, для воспитательно-психологического эффекта, исключительно на нем. Плавно ввинтились в атмосферу, пробуравили плотные слои и взяли верный курс на звездолет. Невыспавшаяся братва зевала, снулый Исимуд переживал, Анту безмятежно улыбалась, Ан же торопил минуты. Ему прямо-таки не терпелось войти в зверинец, нырнуть в уютную, сделанную в виде грота клетку, услышать доброе приветственное урчание. Ох, верно говорят, чем больше узнаешь себе подобных, тем сильнее тянет к муркотам, особенно к альдебаранским, саблезубым.
— М-м-м… Похож, похож, — веско одобрил Исимуд, сделал шаг назад, потом три шага вбок и дружелюбно рассмеялся: — Ей-богу, как одна мать родила. Мои поздравления, генерал.
— Поздравлять не с чем. Зреет культ личности, — вроде бы с неудовольствием отозвался Ан, однако же с едва заметной улыбкой. — Вначале Центр управления назвали моим именем[237], теперь вот это чудо с крыльями и моим фейсом. Могли бы и посимпатичнее найти.
— Дорогой учитель, вы не понимаете, здесь ничего личного, — тонко встрял в общение ухмыляющийся Тот. — Всего лишь психология, законы управления. Толпе нужен кумир, объект для поклонения, персонифицированная квинтэссенция власти. Символ, если хотите, икона, хоругвь. Зримый образ божественного величия. И мы его толпе дали.
Они стояли на опушке платановой, полной птичьих переливов рощи, прямо перед ними блистало золотом и красками огромное сюрреалистическое изваяние — крылатый лев-гибрид с человеческим лицом[238]. Собственно, как сюрреалистическое-то. В свое время Тот с Нинти наплодили вот таких сфинксов во множестве, правда, живых, без крыльев и габаритами поменьше, иначе было бы не прокормить. И ничего не имеющих общего с Аном. Абсолютно ничего.
— А потом, изваяние очень функционально. Прошу обратить вас внимание, дорогой учитель, куда смотрят ваши глаза. Гм… — Тот виновато улыбнулся. — Я имел в виду направление взгляда Сфинкса. Он смотрит точно на восток, вдоль тридцатой параллели. То есть вдоль центральной линии посадочного коридора, на которой расположен Центр управления. Это ведь очень символично, не правда ли[239]?
— Да, премиленький кроссворд для любознательных потомков. — Исимуд кивнул, уважительно оскалился и пальцем, напоминающим сардельку, показал на действо, кипящее неподалеку. — Это что за долгострой? Ваш Сфинкс на него и не смотрит. Жопой повернулся.
Хоть и ухмыляясь спросил, а с интересом, неподдельным и глубоким, — все происходящее здесь с некоторых пор стало ему близким и волнующим. Да и вообще, что-то зачастил Исимуд на голубую-то планету. Заходил сюда на мягкую посадку по любому поводу, большому и малому. И дело было даже не в деньгах, вложенных в концессию, причем деньгах весьма и весьма солидных, нет, тянуло его сюда по другой причине, отнюдь не материальной. Дело в том, что Исимуд влюбился, по уши, давно еще, в ту самую, ближайшую к нему, крутобедрую жрицу. Выкупил ее у храма, нажил пару-тройку детей и был счастлив — уж больно по душе, а главное, по члену пришлась ему красавица лулу. Нигде — ни на Альдебаране, ни в Кассиопее не встречал он таких умелых рук, ласковых губ, такого понимания, привязанности и страсти. В общем, любовь-морковь. Одно было плохо, совсем нехорошо. И красавица лулу, и ее дети были смертны. Стандартная вакцина для дезактивации гена старости на облагороженных хомо эректус, увы, не действовала. Однако настоящая любовь сильнее смерти — Исимуд с глазу на глаз пообщался с Тотом, и тот в спешном порядке модернизировал вакцину, причем с воодушевлением, бескорыстно, имея личный откровенный интерес: сынок его, Зиусурда, вырос, завел семью и неизменно, будучи царем Шуруппака, радовал родительское сердце. Однако как ни старался Тот, сколь ни корпел, полностью заглушить проклятый ген не смог — тот хоть и переходил в состояние латентности, но все одно давал о себе знать. То есть люди-полубоги могли жить долго, но, увы, не вечно. Ладно, хотя бы так.
— Это, с вашего позволения, любезный друг, никакой не долгострой, а стройка века, — с гордостью улыбнулся Тот, и даже показалось, сделался выше ростом. — По моему личному, согласованному с учителем, — он кивнул на Ана, — проекту. Здесь, — он величественно повел рукой, — будет располагаться командно-указательный комплекс, являющийся неразрывной частью Ориентировочной посадочной сетки. Он будет представлять из себя три пирамиды с белыми, тщательно отполированными гранями, идеально отражающими свет[240]. Ну и внутри, естественно, приемно-следящая аппаратура, генераторы полей, комплексы защиты. Работы еще непочатый край. Хотя стараемся, делаем все возможное.
Да, действительно, работа спорилась. Брызгали лазерные лучи, сновали гравитележки, проворные мастеровые лулу бодро вершили процесс. Заправлял всем крепкий черноголовый с блестящим, наголо обритым черепом. В левой руке он держал папирус, с которым поминутно сверялся, в правой — длинную тяжелую палку, которую охотно пускал в ход. Движения его были уверенны, напор неиссякаем, начальственный голос полон эпитетов. В общем, это был гений отвеса, маэстро чертежа, виртуоз мастерка, прораб божьей милостью.
— Мой ученик, любимый, — заметил не без гордости Тот. — Зверь. Даром что хорошо обучен. Имхотепом зовут. Будем скоро глушить ему ген старости. Заслужил[241].
— Да, зверь. Заслужил, — согласился Ан, с горечью вдруг понял, что симпатизирует Сфинксу, и, гадливо сплюнув, отвернулся. — Ну что, поехали? Жрать охота.
— Правильно, утес, глист в свисток свистит, — одобрил Мочегон с оскалом голодающего. — Довольно зрелищ, давай икры. Эй, Таммуз, заводи мотор.
Ехать было недалеко, на другой берег Нила, в скромный, лишь не так давно построенный дом Тота в Гелиополе. До этого он жил наездами у тамошних жрецов, учил их уму-разуму и сути бытия. Хорошо учил, с напором, спуску, поблажек не давал. Докучливо ездил по ушам, с чувством капал на мозги, вдалбливал знания на века, будто длинным, острым, очень крепким клювом по черепу долбил. Отсюда и получил свое меткое прозвище — Ибисоголовый, дружеское, уважительное и негласное. А что, хорошая птица ибис, полезная. Да и Тот неплох.
Между тем сели в гравикар, мягко утонули в креслах, однако вибромассаж включать не стали, обошлись. Чего тут ехать-то, пустяки, каких-то два беру.
Глухо заурчал мотор, пискнули генераторы пси-поля, плавно ушли вниз, на мгновение замерли и полетели назад деревья. А впереди во всем своем величии уже виднелась могучая река, полноводная, широкая, дающая всему краю жизнь. Нил…
— Ишь вы, толстожопые. — Ан глянул вниз, на расслабившихся гиппопотамов, добро улыбнулся, с умилением вздохнул и сразу же одернул сам себя, сделался суров. — Да, старею, становлюсь сентиментальным. Хрена ли нам гиппопотамы. Вот бы на мясо их…
Он не хотел признаться себе, что присох, привык, привязался к этой безвестной планете. Кормилице, поилице. Как там говаривали древние-то? Где хорошо, там и родина?
Гравикар тем временем форсировал Нил, распугивая антилоп, промчался над лугом и, плавно сбавив скорость, на мгновение завис — внизу лежал в совершенной гармонии Гелиополь. Город-храм, город-сад, город Солнца. Город Ана. Вот он стал плавно приближаться, сузился до размеров главной площади и начал с новой силой пленять безукоризненностью планировки, зеленью садов, великолепием и законченностью зданий. Проехали храм Ану, библиотеку, обсерваторию, канал и остановились наконец у дома Тота — аккуратного, двухэтажного, с колоннами, возведенного из армированного кирпича. Без особых церемоний вошли, продефилировали мимо жрецов охраны и, направляемые гостеприимнейшим хозяином, попали в Белую парадную гостиную — просторное двухъярусное помещение с алебастровыми, в яркой росписи стенами. Здесь у огромного, накрытого с душой стола их ждали, все свои — Энки, Энлиль, Нинурта, Шамаш, Нинти, Мочегон и Наннар. Был еще, естественно, и Гибил, да не один, а со своим братцем, младшеньким, по имени Мардук. Младшенький-то младшенький, а ростом под самый потолок, весом под центнер и плечами шириною в дверь. А уж по ухваткам-то и разговорам — атас, вырви глаз, туши свет. Общество, разбившись по кружкам, чесало языки, томилось, потягивало винцо, вернее, тянуло время. Атмосфера была какой-то скучной, вялой и донельзя фальшивой. Зато вот Гибил с Мардуком были искренни и времени даром не теряли.
— Эй, канцлеров сынок, — дружески подкалывали они Наннара. — Ты как отсасывать-то будешь у нас? На сладкое или в качестве закуски? Давай-давай, повышай себе жирность в рационе. А после мороженого мы тебя трахнем. Как ты любишь, на четырех костях, двойной тягой. Вместе с корынцом[242] твоим, пидором позорным. Ну что замолк-то, очаровашка? Или уже вафлей успел набрать? Экий прыткий ты, и когда только успел?
А Наннар и вправду бледнел, синел, потел, но молчал. Потому как был не дурак. Впрочем, не высшая математика — Мардук бил Гибила, а Гибил бил его, Наннара. В кровь, в дым, всмятку, вдрызг, до потери пульса. А что же будет, если Гибил с Мардуком за него возьмутся вдвоем? Впрочем, бедный Наннар так и не нашел ответа на свой вопрос — пожаловал Ан с приближенными. Все сразу резко приободрились, изобразили сплоченность и единство и, стараясь ничем не выделяться на общем фоне, дружно потянулись к столу. Какой кретин захочет впасть в пессимизм во время праздника на глазах у Ана? Собственно, не такой уж и праздник — какая-то там годовщина открытия памятника под названием Бен-Бен. Мощного гранитного обелиска с укрепленным на его вершине списанным «мугиром». Этого гигантского эрегированного фаллоса, похотливо устремленного в небеса. Жуткая безвкусица, жуткий сюрреализм. Хотя нет, если вдуматься, реализм, вернее, конкретная привязка к реалиям жизни. Тот сразу выдумал красивую легенду, жрецы ее с готовностью подхватили, и вот он, символизм сакральнейшего культа. Как говорится, сказка ложь, а в ней большой намек: таинственная птица Бенну, прилетающая откуда-то с небес и откладывающая не менее таинственное, порождающее неясно что яйцо бен-бен. Вуаля, вот он, опиум для народа. Маэстро Тот, заслуженные аплодисменты…
А застолье между тем катилось по широкой, много раз проверенной колее — курительницы с триноплей, бокалы с вином и пивом, вместительные емкости с печеным, вареным и томленым. Словоизлияния рекой, панегирики водопадом, икра карпа Ре горой. Командовала процедурой вторая жена Тота, та самая подопытная, родившая Зиусурду, — шутила с гостями, сочилась радушием, гоняла прислугу и в хвост, и в зад, и в гриву. Иерофант культа бдел, следил за безопасностью, не выходил из укрытия и жрал Тота взглядом — а ну как, не дай бог, чего случится с патроном-то? На всех жрецов богов не напасешься. В общем, все было, как всегда, без изюминки. Так что досидел Ан до сладкого, ужасно заскучал и, не прощаясь, по-кассиопейски, отчалил. Ему хотелось на звездолет, в клетку, в тесную компанию урчащих муркотов. Донельзя свирепых, до одури страшных, зато по-настоящему живых. Даже не подозревающих, что такое ложь, фальшь, игра, ханжество и лицемерие. Однако сразу в когтистые объятия не получилось.
— Генерал, во время вашего отсутствия на посудине без происшествий, — доложил ответственный дежурный полковник Кумарби, остающийся всегда в отсутствие Ана за старшего. — А вот в любимом отечестве вроде бы переполох. Изрядный.
Энлиль тогда постарался, здорово отделал его. Выбил глаз, расплющил нос, разворотил пах, и совсем не удивительно, что Кумарби сейчас пребывал на легких работах — куда убогому податься. Тем более без яиц.
— Что такое? — насторожился Ан. — Надеюсь, не очередная военная конфронтация?
Как ни вертела, ни крутила его судьба, сколько ни плевало ему в душу отечество, а в сердце, как это ни смешно, он оставался патриотом. После первого же куплета вседорбийского гимна у него появлялись слезы на глазах.
— Да нет, — усмехнулся Кумарби, интригующе вздохнул, и его единственный глаз, налитый кровью, как-то зловеще сверкнул. — Революция, переворот, смена акцентов. Император бежал, Верховный Князь оскоплен, власть взяло демократическое большинство, представленное в Совете рукожопо-рукогрево-хербейским меньшинством. Собственно, случилось это уже давно, неделю назад. Так ведь пока волна-то дойдет до нас. Вот, прошу вас, генерал, матрица с записью, правда, качество не очень. Сигнал слаб. Напряженность поля ни к черту.
— Ладно, вольно. — Ан взял голокристалл, отпустил Кумарби и направился — нет, не в логово к хищникам — в противоположную сторону, к себе в кабинет. Он с хрустом активировал матрицу, мягко опустился в кресло и едва не вскочил, словно ужаленный, — перед ним во всем голографическом естестве стоял Алалу. Мерзкий зурбаханский нигрянин-рукогрев с проклятой планеты Нибиру. Только это был уже не прежний Алалу, мокрушник, насильник и садист, нет, добродетельнейший член социума в неброском маршальском реглане. И говорил он уже не по фене, не с понтом, не с матом и не через губу — нет, человечно, улыбаясь, с воодушевлением добродетели. Он, оказывается, всю жизнь скорбел за судьбы всех обиженных и оскорбленных, а потому стараниями проклятых эксплуататоров вообще и свергнутого режима в частности провел свои лучшие годы в мобильной галактической тюрьме. Про планету Нибиру не слыхали? Однако даже там, в раданиевой шахте, он не прекращал жестокой и бескомпромиссной борьбы, радел за дело эмансипации всех униженных, оскорбленных, злобно втоптанных в грязь и смешанных с оной. За всех несчастных, убогих, сирых, несправедливо обделенных судьбой. И сейчас, пребывая на ответственном посту начальника Главных Сил Безопасности, он не собирался останавливаться на достигнутом и готов был бороться до конца. Какого конца? Естественно, победного. Вместе с законно избранным всем народом президентом он громогласно и стократно повторял:
— Свобода! Равенство! Братство! Перекройка! И еще раз равенство!
Подождав, пока Алалу заткнется, Ан встал, дезактивировал матрицу и задумчиво обошел кабинет. Настроение у него упало: он прекрасно знал возможности Главных Сил Безопасности. И еще он знал, что предают только свои. Что-то больно весело, по-боевому блестел нынче глаз у Кумарби. Интересно, стукнул или нет? А впрочем, даже если и стукнул, то это ничего не значит. За тысячи лет аппаратура звездолета разладилась, генераторы потеряли настройку, да и частота вещания к тому же меняется. Вероятность того, что послание Кумарби не затеряется в гипервакууме, ничтожна. А может, и вообще не было никакого послания, никакого стука-бряка. Впрочем, что гадать. Практика — критерий истины.
— Вот что, братцы, — вызвал Ан Гиссиду и Таммуза. — Возьмите-ка вы Кумарби за яйца или за то, что там осталось у него, и спросите, давал ли он сигнал SOS в эфир или нет. А потом, вне зависимости от ответа, уберите. Тихо, мирно, без свидетелей и эксцессов. Устройте какой-нибудь несчастный случай, ну, например, падение с высоты. Не мне вас учить. Действуйте.
Бодро улыбнулся Ан, подмигнул мокрушникам и отправился к хищникам. Сильным, свирепым и безжалостным, таким же, как и он сам.
Глава 13
Звонок мобильника ударил, как хлыстом, оторвал от чтения и мигом возвратил из прошлого к реалиям настоящего. Как пить дать, безрадостным — что хорошего может случиться зимним утром, в час собаки[243]?
«Это еще кто?» — глянул на экран Бродов, скверно помянул АОН и, почему-то поднявшись, врубил связь.
— Да?






