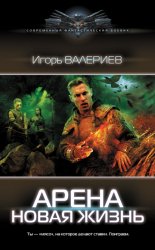Обещания богов Гранже Жан-Кристоф

Jean-Christophe Grang
LES PROMISES
Copyright © ditions Albin Michel – Paris, 2021
Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates
Перевод с французского Риммы Генкиной
© Р. К. Генкина, перевод, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022 Издательство АЗБУКА®
I. Сновидицы
1
– Все происходит в деревне. Она появляется однажды зимним утром.
– Вам знакомы те места?
– Нет. Я всегда жила в Берлине и терпеть не могу выезжать из города.
– Опишите мне эту девочку.
– На ней форма Союза немецких девушек: черный галстук, длинная юбка, нашивка с орлом рейха. Я вижу, как она приближается в тумане. Она говорит мне: «Я от Гитлера».
– Вот так прямо?
– Да. Будто Гитлер – какой-то из ее родственников или близких, ну, не знаю. Полный абсурд. И так на протяжении всего сна, в каждой детали всегда что-то странное, необъяснимое.
– Но ведь в снах всегда так, верно?
Симон Краус послал понимающую улыбку, обычно располагающую к доверию. Женщина не улыбнулась в ответ. Красивая, элегантная, дорого одетая. Как и все прочие.
– Продолжайте, прошу вас.
– Она подходит ближе, и я вижу ее лицо. У нее очень бледная кожа в оспинках. Волосы светлые. С таким… неприятным желтым оттенком. Мне не хочется на них смотреть.
– Неприятным: что вы имеете в виду?
– У них цвет… мочи. Я так и подумала во сне: «У этой девочки волосы цвета мочи». Меня от них чуть не стошнило.
Симон никогда не вел записей. А вот скрытый под столешницей микрофон записывал каждый сеанс. Зато Симон любил тайком набрасывать карандашом портреты своих пациенток.
Эта была новенькой. Настоящий вызов для рисовальщика-любителя, каким он и был. Высокие брови (фальшивые, настоящие выщипаны) напоминали два домика, маленький ротик бантиком, задорный носик, длинные тонкие руки… Не будем отвлекаться.
– Пока она говорит со мной, я замечаю множество деталей. Во-первых, у нее в руке лопата. А еще рядом с ней тачка. Наверно, она ее прикатила…
Он по-прежнему чиркал карандашом, повернув блокнот так, чтобы нельзя было разглядеть, чем он там занят. Он привык к таким рассказам. В его кабинет приходили поделиться, рассказать о своих проблемах и неврозах, а главное – описать сны.
Симон Краус был психиатром, и, без сомнения, одним из лучших в своем поколении, но предпочитал представляться психоаналитиком – даже само слово теперь таило опасность, но выслушивать этих дам, расписывающих свои тревоги, было гораздо прибыльнее.
– Вы меня слушаете, доктор?
Она уставилась на него своими серыми глазами, которые, несмотря на живость, казались поблекшими, расплывчатыми, как галька на дне реки. Наверняка усталость. В августе 1939 года в Берлине вряд ли кто спал безмятежным сном.
– Я вас слушаю, фрау… – он бросил взгляд на карточку, – …Фельдман.
Несколько секунд она разглядывала обстановку. Симон все придумал сам, именно с целью расслабить пациенток (он принимал только женщин). Кремовые стены, глубокое коричневое кожаное кресло «Elephant», а вместо дивана – кушетка-меридиен с изголовьем; на полу плотный шерстяной ковер с узорами в стиле Кандинского, вызывающими ощущение, будто ступаешь по облакам; застекленный книжный шкаф с аккуратно расставленной справочной литературой, а главное – предмет его особой гордости, письменный стол с ящиками в стиле ар-деко, под прикрытием которого он привык украдкой стаскивать башмаки.
– Я замечаю в тачке кучу пепла. В свете занимающейся зари эта масса образует бледное пятно, напоминающее лицо девочки… Несмотря на туман, все вокруг выглядит высохшим: пепел, подернутая изморозью земля, кожа девчушки… Даже ее голос – будто скрежет проржавевшего механизма…
Симон почти закончил портрет. Неплохо. Он поднял глаза:
– Вернемся к лопате. Что делает девочка с этим… инструментом?
– Она протягивает лопату мне и велит копать.
В этой сцене Симон не видел ничего, кроме банального страха, овладевшего всеми берлинцами. С приходом нацизма, конечно же, и даже еще раньше, при Веймарской республике…
Особый интерес психиатра вызывало подспудное воздействие, оказываемое диктатурой на человеческое сознание. НСДАП, нацистская партия, не довольствовалась контролем над думающими мозгами, она еще и проникала в мир снов как неприкрытый ужас.
– И что вы делаете?
– Копаю. Как ни странно, я не сразу осознаю, что речь идет о моей собственной могиле.
– А дальше?
– Когда яма становится достаточно глубокой, я понимаю, что будет дальше. Эта девчушка выстрелит мне в затылок и высыплет содержимое своей тачки на мой труп. И там вовсе не пепел, а негашеная известь. Именно в этот момент девочка смеется, вынимая из кобуры пистолет, и говорит: «Преимущество окиси кальция в том, что она не действует на металлы. У вас ведь есть украшения, да? И золотые зубы?» Я хочу убежать, но ноги одеревенели, как черенок ее лопаты.
Симон отвлекся от своего блокнота. Сейчас ему нужно быть рядом с новой пациенткой, вытащить ее из ямы – в буквальном смысле.
– Вы ведь не хуже меня понимаете, чо это всего лишь сон, фрау Фельдман.
Она словно не услышала. Почти задыхаясь, она произнесла:
– Сейчас девочка выстрелит и убьет меня, а я тут, в яме. Я… продолжаю копать, будто хочу показать ей, что я еще не закончила, что нужно дать мне еще несколько секунд жизни, чтобы я доделала свою работу… Это ужасно… Я…
Она умолкла, вытащив из сумочки носовой платок. Вытерла глаза, шмыгнула носом. Симон дал ей перевести дух.
– Неожиданно, – продолжила она, – я отбрасываю лопату и пытаюсь выкарабкаться из ямы. И тут мое тело раскалывается.
– Что вы хотите сказать?
– Мой позвоночник ломается пополам. Я отчетливо слышу хруст и оказываюсь лицом в земле с полным ощущением, что две части моего тела движутся независимо друг от друга, как у разрубленного земляного червя. Я поднимаю глаза и вижу, как она наводит на меня свой люгер (я узнаю пистолет, у моего мужа такой же). Она прищуривает один глаз, чтобы лучше прицелиться, а другой, открытый глаз тоже желтый. – У женщины сквозь рыдания прорывается смешок. – Цвета мочи!
В апогее сна любая деталь может оказаться решающей – значимой.
– О чем вы думаете в тот момент?
– О моих золотых зубах.
Сдержав крик, она глухо рыдает. Симон отмечает, что на ней костюм, на который он и сам обратил внимание в «Kaufhaus des Westerns»[1]. Все это добрый знак. На следующем сеансе он расспросит ее о муже – о его карьере, взглядах, точной цифре доходов…
– Вы еврейка, фрау Фельдман?
Она выпрямилась, словно ее пронзило током:
– Но… никоим образом!
– Коммунистка?
– Совершенно нет! Мой муж руководит «Рейхсверке Герман Геринг»![2]
Он вскинул брови в знак удивления, приправленного долей восхищения. На самом деле ему уже об этом сообщили – приятель, рекомендовавший фрау Фельдман, выразился вполне однозначно: в руках ее мужа сосредоточена большая часть немецкой стали.
Симон послал ей самую благожелательную улыбку:
– Что ж, успокойтесь, фрау Фельдман, ваш сон всего лишь отражение смутного беспокойства, связанного, скажем так, с теперешним положением вещей.
– Но что это означает?
Это означает, что все мы скоро сдохнем с люгером у виска, едва не ляпнул он, но натянул на лицо специальное выражение «intra-muros»[3]: все, сказанное в этом кабинете, никогда не покинет этих стен.
– Фрау Фельдман, ваше сознание подвергается серьезному давлению. Ночью оно высвобождает свои тревоги через эти странные видения.
– Мне кажется, я плохая немка.
– Как раз наоборот. Ваши сны отражают стремление жить счастливо в Берлине, несмотря ни на что. Повторю, вы таким образом выплескиваете свои страхи. Ночной сон – это физический отдых. А сновидения – отдых души, ее передышка, если угодно. Не беспокойтесь.
Говоря это, он подумал: «Уж ты-то свое получишь». Теперь он сосредоточился на ее выщипанных бровях. Он ненавидел подобное кокетство. В этой полоске, оставшейся на лысой надбровной дуге, было что-то и непристойное, и фальшивое. Симон ценил естественную красоту. В этом смысле он был истинным немцем и не так уж далеко ушел от нацистов, которые любили только спортивных, пышущих здоровьем девиц с косами.
– Простите… что вы сказали? – спохватился он, выпрямляясь в кресле.
– Я спросила, закончен ли сеанс?
Он бросил быстрый взгляд на часы:
– Безусловно.
Он быстро обулся, получил свои марки и проводил женщину до двери. Сказав несколько ободряющих слов – они увидятся на следующей неделе, – он расстался на лестничной площадке с супругой сталелитейной махины «Герман Геринг». В голове, словно пуля, пронеслась картинка: клещи, вырывающие золотые зубы фрау Фельдман.
Он провел рукой по лицу и вернулся в кабинет. Порывшись в кармане, нащупал маленький ключ, который всегда носил при себе, на жилетной цепочке, как карманные часы.
С осторожностью (и, как всегда, с наслаждением) открыл дверь комнатушки, примыкающей к кабинету. Дверь его тайного королевства.
2
Обитая деревянными панелями, узкая и без единого окна, каморка была не больше пяти квадратных метров. Освещенная только висящей матовой лампой, она походила на огромную коробку для сигар – или кабину лифта.
На маленьком круглом столике возвышался граммофон-регистратор, который Симон включал перед каждым сеансом. Вокруг по стенам шли полки, на которых он держал полученные записи. Сотни испещренных бороздками пластинок, хранящих все тайны его клиентуры. Годы прослушивания, профессиональных советов, шантажа…
Он взял только что записанный ацетатный диск[4], сунул его в бумажный конверт, который надписал, проставив имя пациентки, день и час сеанса. Потом поставил диск на выбранное для него место и отступил на шаг, чтобы полюбоваться своими сокровищами: три стены, плотно заставленные зарегистрированными снами.
Сновидения были страстью Симона. Свою диссертацию он посвятил биологической природе сна, потом ушел в психоанализ. Он прочел все посвященные этому вопросу книги, какие только смог найти, – нацисты еще не начали их жечь. Позже, в тридцать четвертом году, он поехал в Париж, чтобы встретиться с лучшими специалистами в области онейрологии[5].
Симона завораживала сложность снов, проявляющаяся в них мощь воображения и способность реконструирования, все, что эти запутанные лабиринты рассказывают о вас самих и о мире. У него была своя теория: ночью мозг, освобожденный от цензуры и страхов, мог увидеть реальность такой, какой она была на самом деле, и обретал необычайную прозорливость. В некотором смысле в снах было нечто магическое: они всегда являли худшее, преодолевая наши хрупкие защитные барьеры.
Кто знает? Возможно, Ильзе Фельдман закончит в могиле, которую сама себе выроет, с пулей в затылке…
В первые годы нацизма Краус отважился опубликовать несколько научных статей на эту тему – в то время он даже числился в Институте Геринга[6], пристанище для психиатров, которые не были ни евреями, ни фрейдистами. Потом он ушел в тень, стараясь вести себя как можно незаметнее ввиду надвигающейся коричневой волны. Отныне он оказывал помощь нервическим дамам, которые в сновидениях выдавали свои стойкие антигитлеровские, а значит, антипатриотические чувства.
Ирония ситуации: рейх всегда стремился узнать, что у вас в голове, контролировать вашу психику, но именно Краус в своем кабинете рядом с Staatsbibliothek[7] собирал секреты жен – а часто, пусть и косвенно, их мужей. Ха-ха-ха! Еще одно, чего Гитлеру не заполучить!
С годами он отточил свою теорию. Для Фрейда сны несли в себе исключительно сексуальное послание. Краус был не согласен. Как говорил Отто Гросс, гениальный психиатр, ставший бродягой и позволивший себе умереть от голода в 1920 году: «Фрейд видит повсюду секс просто потому, что недостаточно трахается!»
Сны были политическими. Они раскрывали наше отношение к другим людям, к власти, к притеснению. Во всяком случае, его собственные только вокруг этого и вертелись, а если точнее – унижения в прошлом (и видит Бог, их было немало!) претворялись в абсурдные, символичные, нездоровые сюжеты. Каждую ночь Симон испытывал муки мученические, заново проживая полученные когда-то травмы, но такова была цена его душевного равновесия.
Нарыв следовало вскрыть. Изрыгнуть во сне те обиды, которые душили его до сих пор.
В глубине души Симон был всего лишь злопамятным мстительным подростком. Что с того, что он стал блестящим специалистом, с увлечением и даже преданностью относящимся и к пациентам, и к своим исследованиям сновидений; все равно он оставался существом циничным и желчным, мечтающим свести счеты с окружающими.
Доказательство? Хотя он был вполне обеспечен благодаря гонорарам практикующего врача и беззаботно пользовался дарами нацистской системы, расположившись в прекрасной квартире,ранее принадлежавшей еврейской семье, он шантажировал своих пациентов.
Кстати, задумавшись об этом, он заодно вспомнил о свидании с Гретой Филиц. Опаздывать в таких случаях нельзя.
Пунктуальность – вежливость шантажистов.
3
Симон был красив. Даже очень.
Но он был маленького роста. Ужасно маленького.
Задрав подбородок и привстав на цыпочки, он упрямо утверждал, что в нем метр семьдесят, но не желал знать, на сколько смухлевал. Он забыл все последние разы, когда действительно становился под планку ростомера. Он нарочно стер цифры из памяти.
Ущербный рост придал ему иную силу – силу воли. В школе, когда его товарищи тянулись вверх как на дрожжах, а он оставался коротышкой, Симон почувствовал, что его сила растет по-другому, словно внутри прибывает некая энергия, готовая выплеснуться.
Случались эпические баталии, вызванные насмешками над его физической недоразвитостью. Особенно в тот раз, когда в школьном туалете под открытым небом он получил королевскую взбучку, но и сейчас помнил это чувство освобождения, ветер, гуляющий по цементным коридорам, хруст собственного носа, расплющенного о деревянную дверь… Он был счастлив драться, счастлив оценить дорогу, которую предстоит пройти, чтобы самоутвердиться…
У Симона было маленькое тело, но много ума. Очень скоро нападать на него стало опасно. Ему больше не били морду, потому что боялись его интеллекта. Да, ему досталось несколько ударов, зато его обидчики обзавелись прозвищами, которые никогда от них не отклеятся. Синяки проходят, оскорбительные ярлыки впечатываются навсегда.
Его случай отягощало еще одно обстоятельство: он был беден. А значит, опять-таки недомерок. Но в этом был дополнительный стимул разжечь в себе честолюбие. Он часто думал об одном актере, который смешил весь мир, хотя родился в нищете, – о Чарли Чаплине. Симон изображал его перед зеркалом (как и у того, у него была танцующая походка) и говорил себе, поигрывая тростью, что однажды тоже взлетит на самый верх.
Все годы учебы он оставался первым учеником, причем особо не напрягаясь, не прикладывая усилий и вкалывая не больше, чем другие. Таким образом на протяжении многих лет он ходил в гениях. И все равно в нем накрепко засело убеждение, что главную роль в его жизни играл этот чертов рост. «Стань тем, кто ты есть», – писал Ницше. Наверняка он был выше Симона, потому что когда постоянно подкладываешь подпяточники в башмаки и получаешь по носу плечом на каждой остановке трамвая, приходится скорее быть тем, кем ты стал… невзирая на рост.
Симон Краус покинул Германию на два с лишним года, отправившись в тридцать четвертом учиться во Францию, а потом вернулся в Берлин. На его глазах в феврале тридцать третьего горел Рейхстаг, месяц спустя власть перешла к Гитлеру, затем последовали костры из книг, Ночь длинных ножей[8] в тридцать четвертом и Хрустальная ночь[9] в ноябре тридцать восьмого… Единственным событием, которое он пропустил, были Олимпийские игры. Так вот, этот поток дерьма он пережил с полнейшим безразличием. Даже сегодня, когда на следующем листке календаря значилась война, ему было в высшей степени плевать. Он твердо намеревался пережить потоп.
Одно воспоминание исчерпывающе описывает личность Симона. Однажды днем в апреле тридцать третьего он работал в библиотеке, когда в коридорах раздался сильный шум. Хлопанье дверей, грохот сапог, приглушенные крики: «Они выбрасывают вон евреев!» А у него в голове пронеслась единственная мысль: «Хорошо хоть на коротышек пока не наезжают…»
Вот во что превращает человека такого рода ущербность – в монстра. Маленького, конечно, но все же монстра.
Ладно. Симон решил проинспектировать свой гардероб. Должен же он пристойно выглядеть в глазах Греты Филиц. Так-так-так… Он быстро глянул налево, оценивая коллекцию пальто: коричневое из альпаки с воротником-стойкой, черное двубортное из крученой шерсти, габардиновый макинтош… Не по сезону. Потом перешел к костюмам: все с отстроченными лацканами, шерстяные, фланелевые, льняные… Разумеется, только костюмы-тройки с жилетами в обтяжку и брюками с высокой посадкой – но не слишком высокой, иначе он смахивал на ребенка в штанишках на помочах.
Их крой был намного замысловатее обычного: он сохранил купленные во Франции костюмы и отдавал их копировать талантливым портным – все как один были евреи, так что найти такого в последнее время становилось все сложнее.
В конце концов он выбрал твидовый пиджак и оксфордскую рубашку с воротником на пуговичках. Классические брюки, ботинки «дерби» на шнуровке, и готово дело. Унизительная деталь: в ботинках имелась небольшая хитрость, они были на платформе. Симон, который давно понял, что лучший способ контролировать шуточки в свой адрес – самому их подкидывать, придумал одну, когда был интерном в больнице «Шарите»: «Какая разница между Йозефом Геббельсом и Симоном Краусом? У Геббельса одна нога коротковата, а у Симона обе».
Он еще раз оглядел себя в зеркало шкафа и подумал, что тона пиджака – мох, кора, вереск шотландских пустошей – напоминают цвета нацистской формы. Вот и хорошо, тем незаметнее он будет на общем фоне.
Бросил взгляд на часы и понял, что явится раньше времени. Направился по коридору на кухню, чтобы приготовить себе чашечку кофе.
Квартира была больше шестидесяти квадратных метров – и рабочая зона, и личное пространство. На самом деле, поскольку под кабинет и приемную он отвел две комнаты, собственно жилое пространство ограничивалось кухней, ванной и просторной спальней. Вполне достаточно.
К выбору обстановки Симон относился не менее внимательно, чем к одежде. В приемной он умудрился разместить палисандровый стол на гнутых ножках, два коричневых кожаных кресла и квадратный потолочный светильник матового стекла. В спальне главным предметом была ширма, подписанная Жаном Люрса[10], ни больше ни меньше…
Как он смог позволить себе подобную роскошь? Очень просто: одна из его пациенток, Лени Лоренц, была женой банкира, который специализировался на «арийской зачистке» Берлина. Забавное выбрали словосочетание, чтобы обозначить откровенную экспроприацию, то есть конфискацию имущества евреев, часть которого Ганс Лоренц рекомендовал «правильным немцам» купить по бросовой цене.
Именно так Симон стал владельцем этой квартиры, за которую даже не платил. Потом Лени сопроводила его на склады, куда нацисты свозили трофеи своих налетов, и Лени помогла ему выбрать мебель, чтобы обустроить гнездышко. Они даже исхитрились заняться любовью за ширмой Люрса, которая приглянулась Симону. Сладкое воспоминание.
Психиатра могла бы смутить собственная продажность (Лени устроила ему квартирку, как какой-нибудь буржуа своей содержанке), но ему было начхать. Даже приятно. В душе он был жиголо.
Всю свою учебу он оплатил, подрабатывая наемным партнером по танцам – и не только по танцам, смотря как пойдет.
Перед тем как выйти из дома, он не удержался и еще раз оглядел себя в зеркало в прихожей. Он и правда красив. Высокий лоб, зачесанная назад каштановая шевелюра. Немного прилизанный, на чей-то вкус, но прилизанный с некоторой небрежностью, на манер прирученного дикаря. Иногда непокорная прядь падала на лоб подобно проблеску гениальности, осенившему носителя.
Вскинутые брови вносили неспокойную черточку. Добавьте к этому темно-синий взгляд, подчеркнутый поэтическими тенями под глазами, еще несколько взмахов кисти, выписывающей прямой нос и чувственные губы, – и перед вами чертовски соблазнительный красавчик.
Симон с большим тщанием выбрал головной убор. Его гардероб был истинной сокровищницей, а коллекция шляп – шедевром. У него имелся набор фетровых трильби с узкими полями, приподнятыми в задней части. Немецкие хомбурги с их знаменитым «заломом» наверху. Он питал к ним особенную слабость, потому что их полужесткая тулья делала его немного выше. Но сегодня он выбрал модель «федора» из кроличьего фетра, которую иногда ошибочно именовали «борсалино».
Последний быстрый жест, смахивающий ворсинки с плеча, и andiamo![11]
4
Симон Краус не был коренным бранденбуржцем: родом он был из-под Мюнхена. Однако сам он всегда считал себя берлинцем. Каждый день, выходя из кабинета и снова оказываясь в «своем» Берлине, он всеми нервными окончаниями проникался очарованием этого города и его столь своеобразной атмосферы.
Он некоторое время жил в Париже, бывал в Лондоне, и Берлин в плане архитектурной красоты или гармонии пространств не выдерживал сравнения. Но было в нем нечто другое… Этот тяжелый, плоский, темный город таил в себе особую энергию. Говорили, что он был построен на почве, источающей щелочные испарения – особые токсичные эманации, способные обострять человеческие страсти. В свете последних двадцати лет в эти слухи охотно верилось.
После Большой войны[12] Берлин прошел через все излишества и крайности, какие только можно представить; что касается политики – государственные перевороты, революции, покушения; с человеческой точки зрения – нищета, растущие как грибы состояния, разгул. На сегодняшний день нацистский порядок немного поубавил прыти, но город по-прежнему бурлил.
Пройдя по Альте-Потсдамерштрассе, Симон оказался на Потсдамской площади. Все то же потрясение. Огромное, открытое небу пространство, изрезанное рельсами строящейся подземки и бесчисленными электрическими проводами, снующие туда-сюда машины и лошади… Окружающие площадь здания походили на скалы, нависшие над озером металла. В центре подобие черного обелиска гордо выставляло напоказ башенные часы и первый в городе светофор. Купол стоящего в глубине здания «Фатерлянда» напоминал дешевую подделку под итальянскую базилику – там располагались залы для театрализованных зрелищ, кинотеатр и рестораны, где к взрослым относились как к детям: между столами ездили электрические поезда и пролетали миниатюрные самолеты.
В этот солнечный день Симон трепетал, глядя на толпу – скопище черных костюмов и легких маленьких платьев (они доставляли ему особое удовольствие), а еще старых добрых полицейских в кепи с лакированными козырьками. Он блаженно окунулся в окружающий грохот: перестук башмаков, завывание со скрежетом пробирающихся между грудами кирпичей трамваев, рев машин…
Как обычно, он дал себе несколько секунд полюбоваться на Колумбус-Хаус, колоссальное девятиэтажное строение из стекла и стали, лишь недавно возведенное и резко выделяющееся на фоне старых зданий. Бог знает, по какой причине, но он мечтал разместить свой кабинет именно там. Симон считал себя человеком, который идет в ногу со временем, и хотел бы принимать пациентов в этой стеклянной футуристической громадине, причем его не смущала перспектива, что каких-то еврейских коммерсантов выкинут вон, позволив ему тем самым перебраться в желанное место почти задаром.
Перейдя на другую сторону площади, он погрузился в более спокойную атмосферу и с наслаждением вдохнул мягкий воздух. Сейчас, в конце лета, достаточно было сделать несколько шагов по широким тротуарам в тени столетних деревьев, чтобы убедиться: существует нечто куда более могущественное, нежели нацистский гнет или угроза новой войны. Ласка теплого ветра, тихий шелест листьев, благостные проблески солнца… и легкие тени, вальсирующие на асфальте.
Он прошел мимо попрошаек с крестами боевых наград (еще оставались такие, осколки последнего военного конфликта) и толстого мужика в баварском национальном костюме – кожаных штанах и шляпе с пером. Симон улыбнулся. Такого рода фигуры лишний раз доказывали ему, что Фрейд был прав. Немецкая культура была культурой регрессивной, некой скаутской грезой, в которой все мечтали скакать по горам в коротких штанишках.
Он двинулся по красивой (следовало любить прямоугольную планировку) широкой Вильгельмштрассе и почувствовал, как сгущается атмосфера. Если в суете Потсдамской площади еще можно было представить себя в обычном городе, то в квартале Вильгельм[13], с его министерствами, официальными зданиями и многочисленными правительственными учреждениями, сразу вспоминалось, что нынешняя власть шутить не любит.
Расположенный между Принц-Альбрехтштрассе и Анхальтерштрассе, этот квартал представлял собой территорию чистого ужаса, вобрав в себя все самые грозные силы рейха. Повсюду на флагах и колоннах виднелись руны СС[14], орлы и эти треклятые свастики, которые так и лезли в глаза.
Настроение у него испортилось. Здесь особо не размечтаешься. Суровая реальность быстро вернет на землю. Война была всего лишь вопросом дней. Германо-советский пакт сбил последние запоры, мешавшие вторжению в Польшу. Газеты – все купленные или проданные, как вам больше нравится, – могли сколько угодно распинаться, уверяя, что Гитлер стремится любой ценой избежать войны; никого им было не обмануть. Он расправился с Австрией, потом с Судетами, с чего ему останавливаться на таком верном пути?
Симон двинулся через квартал, вздернув плечи и сжав ягодицы. У дома 8 по Принц-Альбрехтштрассе он даже перешел на другой тротуар: это был адрес гестапо.
Наконец на Вильгельмплац он перевел дух. Здесь уже все было по-другому. Ничего общего ни с сумятицей Потсдамской площади, ни с гнетущей атмосферой квартала Вильгельм: много зелени, неба и свободных пространств, обрамленных большими зданиями, которые дышали спокойствием.
Станция «Кайзерхоф» со своими двумя фонарями, коваными решетками и забавной колоннадой, окружающей вход в метро, напоминала мавзолей.
В ста метрах от станции, по адресу Вильгельмплац, 3/5 раскинулся отель с тем же названием, и можете мне поверить, со своими четырьмя массивными этажами, бесчисленными окнами, изукрашенными балконами и итальянской крышей-террасой это здание достойно несло высокое звание дворца.
Именно там Симон назначил встречу Грете Филиц.
5
Холл гостиницы по роскоши ничем не уступал внешнему фасаду. Его высокие вертикальные окна, истинные вестовые света, щедро открывали дорогу потоку солнечных лучей. В центре, между столиками и эстрадой, возвышались, подобно Геркулесовым столбам, два огромных зеленых растения. Здесь вы вступали в мир приглушенный, богатый, изысканный.
И беспокойный.
Под хрустальным водопадом люстр кипела работа. Разодетые портье, ярко-красные посыльные, лакеи во фраках носились во все стороны под льющуюся меж столиками и креслами тихую музыку и ритмичный перестук чашечек, звон бокалов и гул разговоров.
Симон не торопясь оглядел наличествующий контингент.
Представители старой прусской гвардии при монокле и с гордо вздернутым подбородком. Бизнесмены в черном, нервные, улыбчивые, наэлектризованные (с недавних пор бизнес в Германии набирал силу). И конечно же, нацисты в форме цвета поноса с ремнями, которые постоянно скрипели, словно затягивающаяся вокруг вашей шеи гаррота.
К счастью, имелись еще и женщины.
Они были настолько же гибкими, насколько их мужья закостенелыми, настолько же улыбчивыми, насколько те застывшими, настолько же легкими, насколько те тяжеловесными. Женщины буквально были жизнью, а их мужья – смертью.
Симон прошел через холл и поднялся на веранду, где находился бар. Устраиваясь за столиком, он подумал, что попал в перегретый виварий с несколькими достаточно зеленоватыми нацистскими офицерами, чтобы они сошли за крокодилов.
Через застекленные проемы можно было наблюдать за прохожими на имперской площади, и, если повезет, он увидит, как идет Грета Филиц, и полюбуется на ее ноги, просвечивающие сквозь напитанное светом летнее платье.
Такие моменты составляли смысл его жизни. Самые насыщенные, самые мощные мгновения его существования. Желание было лучшим наркотиком. Он заказал мартини, достал свой портсигар (суперплоский, с золотыми и серебряными полосками, фирмы «Картье»: подарок близкой подруги) и прикурил сигарету «Муратти».
Медленно выдыхая дым, он снова оглядел окружающие его форменные мундиры. Господи, ну у кого может возникнуть желание так одеваться? Особенно в эту жару… У нацистов начисто отсутствует чувство реальности. Со своими нашивками, медалями и золоченой мишурой они выглядели так же несолидно, как посыльные и портье в холле.
Симон поднял глаза и проследил, как тает завиток дыма в солнечном свете. Он по-прежнему пребывал в недоумении. Если бы те, кто толкал их в пропасть, были по крайней мере выдающимися и харизматичными личностями… А тут художник-неудачник, наркоман, хромой, куровод… хорошенькая подобралась компания. И это еще самая верхушка. Как кто-то сказал (он уже не помнил, кто именно) еще до того, как коричневая чума разлилась по всей Германии, словно опрокинули чернильницу: «Пьянство является одним из фундаментальных элементов нацистской идеологии». В определенном смысле этот захват власти вызывал невольное восхищение. Ну как такое сборище клоунов умудрилось добиться успеха?
Грета опаздывала. Второй мартини. Жар алкоголя вкупе с жаром, проникающим сквозь стеклянную крышу, начал затуманивать голову. Чем Симон лучше других? Конечно, ничем. Он сумел отыскать себе местечко в этом обществе террора, изображая ловкача и фанфарона, хотя прекрасно знал, что его защищают лишь жены этих скотов. Ох, какое уязвимое положение…
Сколько времени он еще продержится?
Недолго. Сама его деятельность навевала подозрения. По нынешним временам в Берлине быть психиатром уже не говорило в вашу пользу, а уж психоаналитиком… Во время аутодафе 1933 года все сочинения Фрейда полетели в огонь. Нацисты ненавидели саму идею, что можно откинуть покровы человеческого сознания, как раздвигают бархатный занавес, и выудить оттуда все спрятанные секреты.
Да ладно, сказал себе Симон, прикуривая новую «Муратти», хватит черных мыслей. Во всяком случае, не этим солнечным днем, потягивая мартини в ожидании одной из самых красивых женщин Берлина, которая принесет ему в сумочке конверт, набитый деньгами.
Он залпом допил свой бокал и заказал следующий. Господи, три мартини на полдник… многовато получается.
– Guten Tag[15], маленький мужчина!
Перед ним стояла Грета Филиц. Задумавшись, он не заметил ее сквозь стекло. Досадно. Как ему и представлялось, на ней было цельнокройное платье с пояском на талии из ткани, которую он определил с первого взгляда: люстав, вискоза. Платье было… лазурным. Цвет, который ей подходил, как солнце подходит морю.
Гитлер, который повсюду совал свой нос и считал высокую моду одним из бесчисленных еврейских заговоров, призывал немок носить косы и жуткие традиционные платья. Но он мог сколько угодно нападать на Чехию, Францию или Россию, женщин ему было не победить. Никогда уроженка Берлина не согласится носить Dirndl[16].
– Садись, прошу тебя, – проговорил он, вставая и отодвигая стул напротив.
Грета повиновалась с шелковистым шелестом. Она была в буквальном смысле обворожительна. В этот момент он подумал, что и сам «обворожен».
Игра слов, мания психоаналитиков.
6
Едва присев, она открыла отделанную жемчужинами сумочку, достала конверт и кинула его на стол.
– Ты просто маленький поганец.
– Прекрати повторять свое «маленький».
Она закинула ногу на ногу. Симон ясно расслышал, как шуршат под синим платьем ее чулки, и ощутил настоящий взрыв внизу живота.
Пальчик за пальчиком Грета стянула свои белые перчатки, уступчиво согласившись:
– Ладно, получи повышение: ты большой поганец!
– Так лучше. Что будешь пить?
Он мягко взял ее за руку. Открыто ласкать супругу саксонского аристократа в отеле «Кайзерхоф», оставив валяться на столе конверт с двумя тысячами марок, полученных в результате шантажа той же супруги, – это была уже не наглость, а самоубийство.
– Мартини, – ответила она, не отнимая руки. – Ты не станешь пересчитывать?
– Я тебе доверяю.
– Мне следовало бы рассказать обо всем мужу.
Симон ограничился улыбкой. Изначально Грета пришла к нему на сеанс из-за признаков (весьма легких) депрессии. Подавленность, бессонница, приступы тревоги… Как обычно, он попросил ее рассказать свои сны.
Она тут же все выложила, описав свои повторяющиеся кошмары.
Опять-таки антинацистские. В своей дневной жизни Грета доблестно играла роль супруги со свастикой, но в подпольном мире снов ее страхи высвобождались и порождали невыносимые сцены, где нацисты были еще более жестоки (если такое возможно), чем в реальности.
Все это не давало ни малейших оснований для шантажа молодой женщины. Вот только Грета так расслабилась, что рассказала, что ее муж, прусский граф, близкий к партии, от всей души презирает Адольфа Гитлера и, говоря о нем, всегда использует прозвище, которым наградил того Гинденбург: Цыганский Капрал[17].
Симон пригрозил ей, что отправится в гестапо с записями под мышкой. Грета оказалась перед дилеммой. Или она признается мужу, что обращалась к психоаналитику, или заплатит, позаимствовав деньги из секретных фондов мужа.
Вот уже шесть месяцев, как она выбрала второе.
– Спасибо, – сдержанно сказал он.
И с самым естественным видом убрал конверт в карман. Ирония ситуации: получить деньги за шантаж нацистской супруги в тот самый момент, когда его окружают эти отвратительные мундиры.
– Я тебе уже объяснял, что такова часть терапии, – продолжил он самым мягким голосом. – Это вознаграждение – ключ к твоему выздоровлению. Зигмунд Фрейд сказал…
– Schnauze![18] Ты просто грязный шантажист.
– Думай что хочешь, – с притворно оскорбленным видом отозвался он. – Я это делаю для твоего же блага.
– Деньги даже не мои, а мужа.
– Еще лучше!
– Ты несешь чепуху.
Он снова наклонился к ней и взял за руку.
– Грета, я ведь лечу тебя от кошмаров, верно?
– Да, – с надутым видом признала она.
– А откуда берутся твои кошмары?
Она подняла голову и испуганно огляделась.
– Замолчи.
Он наклонился еще ниже и прошептал:
– Они берутся из НСДАП, моя милая.
– Говорю же, замолчи!
– А откуда берутся деньги твоего мужа?
Она зарыдала, прижав к лицу ладони. Сквозь пальцы потекли слезы. Совершенно та же реакция, что у фрау Фельдман. К счастью, в гуле, стоявшем на террасе, никто не обратил на них внимания.
– Так что в определенном смысле, – шелковым голосом продолжил Симон, – это Гитлер мне платит. Он всего лишь возмещает ущерб, который нанес твоему мозгу.
Она вытерла глаза.
– Вечная твоя дерьмовая логика.
– Не строй из себя ребенка, – бросил он, доставая новую «Муратти». – Эти деньги послужат науке. Все лучше, чем дать им сгореть в войне, которая станет самым большим фиаско века. И унесет миллионы жизней!
Грета отодвинулась вместе со стулом. На лице теперь читалась не грусть, а скорее живейшее любопытство.