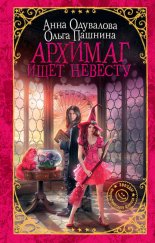Доктор Гарин Сорокин Владимир
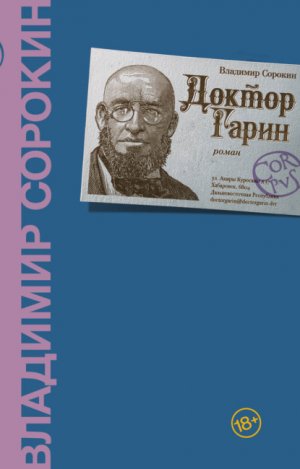
– Принятие решений. И ответственность за них.
– Конечно. Но для того чтобы принять решение, его надовысидеть.
– Как яйцо!
– Именно! Нас с малолетства учили науке высиживания. Собственно, ради этого мы и были созданы таким необычным способом. В интернате я прошла через многое. Бывало, поведут нас на прогулку по городу, а мальчишки дразнят: эй, попки, когда жопами станете? Никто тогда не называл нас pb[12].
– Ну, в школе тоже всех дразнят. Меня дразнили “Гарин-татарин”. Хотя я русский.
–Гарин-татарин… – произнесла она по-русски. – Это трогательно. В интернате я испила горькую чашу сиротства до дна. От депрессий спасала только учёба. У нас были замечательные педагоги, нас готовили серьёзно. Занятия, занятия… Они шли непрерывно, но не однообразно. Наш директор был по-настоящему творческой личностью. Усидчивость нам прививали творчески. Мы изучали биологию в лесу, математику и латынь – на берегу нашего озера, римское право – в нашем античном музее. Нам многое, многое дозволялось. Конечно, нас наказывали, иногда даже публично секли по попам, нашим рабочим местам, а как иначе? Но мы были свободнее обычных школьников. Нас готовили к долгой и серьёзной жизни на благо общества. В старших классах нам уже преподавали университетские профессора. Курс мировой литературы нам читал профессор Гольденбруст, замечательный педагог, великий книгочей с огромной памятью, новатор и настоящий фанатик своего дела. Однажды, рассказывая про детство Гаргантюа, для иллюстрации он решил нам устроить целый перформанс: привёз сервированный стол с жареной свиной тушей, привёл с собой женщину невероятной толщины, назвал её своей невестой, затем сам разделся, взял чашу с топлёным свиным жиром, облил им невесту, заплакал, затопал ногами, стал звать маму…
– Ангела, ближе к делу. – Гарин забарабанил по столу тяжёлыми пальцами.
– Да, конечно. Извините, я отвлеклась… Это случилось во время урока по социальной ориентации. Мне вдруг захотелось в туалет, я встала, как обычно, сказала “извините” и вышла. Как вы знаете, туалет у нас был общий, нам, pb, нечего прятать друг от друга, мы писаем попами. Идя в туалет, я вдруг услышала странные звуки из спортивного зала. Дверь его была приоткрыта. Любопытство, как вы знаете, одна из моих врождённых черт…
– И это прекрасно.
– Я вошла в приоткрытую дверь. Спортзал был пуст. Странные звуки долетали из подсобки, где хранился спортинвентарь. Я разобрала голос завуча, сурового и строгого человека, и одного из нас, Николя. Завуч что-то делал с Николя, чего тот не хотел. Завуч словно давал ему быстрые команды: “Да! да! да!”, а тот хныкал: “Нет! нет! нет!” И почему-то где-то совсем рядом, что самое удивительное, лаяла какая-то собака, где-то прямо под окнами, и лаяла ровно в такт этим “да! да! да!”. Гав, гав, гав, да, да, да, гав, гав, гав, да, да, да, как пулемёт. Я подошла осторожно, заглянула в замочную скважину и увидела… я увидела, как… как… этот завуч…
Ангела вдруг затряслась мелкой дрожью. Настолько мелкой и быстрой, что контур её круглого тела размылся. Только руки вцепились в подлокотники кресла и оставались неподвижными.
Гарин взирал на метаморфозу пациентки с невозмутимостью. Ангела даже уже не тряслась, а вибрировала, ровно и сильно, словно трамбовочная машина. Платон Ильич взя папиросу, закурил, встал и подошёл к окну. Солнце уже стояло высоко, дрозды перестали токовать, в кедрах раскинувшегося за окном бора перекликались другие птицы.
– Скажи мне, верная жена, дрожала ль ты заветной дрожью? – вполголоса продекламировал Гарин, заложил руки за спину и, попыхивая папиросой, покачался на титановых ногах.
Сильное апрельское солнце сияло в золотой оправе его пенсне.
Когда Ангела перестала трястись, он уже гасил окурок в пепельнице.
– Ну, вот… опять… – тяжело задышала пациентка.
– Ничего страшного. – Он помахал рукой, разгоняя дым над столом. – Это полезно для ваших мышц.
– Всегда так… некстати… стыдно…
– Не волнуйтесь, это же не эпилепсия.
– Я знаю, но… – выдохнула она, – никак не могу привыкнуть.
– Это ваша благородная дрожь. Европа помнит её.
– Доктор, что же мне делать с лающими людьми? – Ангела стала трогать свои огромные, покрасневшие, обвисшие щёки.
– Что делать? – забарабанил он по столу и вдруг яростно, грубо и громко залаял ей в лицо. – Ааф! Аааф! Гааав!!
Она в ужасе откинулась в кресле, закрыв глаза руками. Но он схватил эти два бледных побега, отнял от глаз:
– Хватит! Довольно спектакля, сударыня! Хватит вра-а-а-ать!!
Ангела разрыдалась. Гарин встал, обошёл стол и грозно навис над ней своей ветхозаветной бородой и грозным носом:
– Сколько можно дурачить меня?! Голубушка, я вам не флейта! Не контрафагот! Я доктор Гарин, чёрт побери!! И играть на себе не позволю!
Пациентка рыдала.
Гарин принялся яростно расхаживать по кабинету.
– Вы знаете, что такоерваная ширма? Что такое фиктивная жертва? Что такое временное ничтожество? Что такое стёртый след? Не знаете? Я объясню вам! Я покажу вам, сударыня, как бог свят! Лающие люди, видите ли, её беспокоят! Люди-собачки! Как мило! А молчащие люди вас не тревожат? Homo tacitus не тревожит вас? Там лаяла собачка в такт фрикциям этого завуча, гав, гав, гав! Ох, как страшно! А человека, чудовищномолчащего, вы не заметили в спортивном зале? Он стоял там, в правом углу, этот молчащий человек! Вы не заметили его? Вы же знаете его! Знаете, а? Отвечайте мне, чёрт возьми! Знаете?
Она кивнула сквозь рыдания.
Он положил ей свою тяжёлую руку на вздрагивающую спину, заговорил спокойно:
– Вы знаете этого человека. Слишком хорошо знаете. Вам было шесть лет, когда воспитатель Эрнст вошёл в спальню с мухобойкой и мотком клейкой ленты. Он сказал вам: Ангела, мы с тобой договорились, до третьего раза. И вы кивнули. И он заклеил вам рот, которым вы так много болтали. И стал сечь вас мухобойкой. По вашей прекрасной юной попе. А этот человек стоял за ним. Да и не совсем он человек. Он прозрачный, хоть и тёмный. Правда? Сквозь него даже можно что-то разглядеть. Потому что –мутный.Мутный стоял там. Мутный с чёлкой, усиками и простреленным черепом. Ведь стоял?
– Откуда вы… знаете?
– Оттуда! – серьёзно произнёс Гарин и качнулся на ногах. – Так что закроем историю про лающих людей раз и навсегда. Вы готовы рассказать мне о первой встрече с Мутным?
– Нет… мне страшно…
– Хорошо, вы сделаете это в следующий раз. На сегодня достаточно. Ничего не бойтесь. Я с вами. Мутный вас больше не тронет.
Он взял её руку.
– Ангела, нам с вами предстоит работа. Мы загоним Мутного в его преисподнюю раз и навсегда. Но для этого мы должны помогать друг другу. Вы поможете мне помочь вам?
– Да, доктор.
– А я помогу вам.
Он взял со стола пакетик с бумажными салфетками, приложил салфетку к плоскому носу Ангелы. Она громко высморкалась, перехватила салфетку, стала вытирать слёзы.
– Сейчас ступайте к себе, к вам зайдёт сестра, сделает укольчик. Таблетки всё те же, дозу я менять не буду, лишнюю химию глотать негоже. После укола – полчаса отдыха, потом на прогулку в бор. К кедрам! Abgemacht?[13]
– Abgemacht, Herr Doctor, – вздохнула Ангела и бессильно улыбнулась.
– Я вас больше не задерживаю. – Гарин уселся за стол.
Ангела неловко соскользнула с кресла на пол и устало поползла на ягодицах к двери. В дверь постучали.
– Войдите! – Гарин разминал в пальцах папиросу.
Вошедшая Пак посторонилась, пропуская Ангелу, закрыла за ней дверь.
– Кризис? – спросила она, подходя к столу. – Или плато?
– Скорее сон. – Гарин закурил.
– На ней лица не было…
– Глубокому сну отлей блесну.
– Угостите папиросой, доктор.
– Вы же уже не курите, доктор?
Она махнула маленькой быстрой рукой. Он протянул ей коробку с папиросами, поднёс огня.
– У меня вопрос по двум пациентам, Дональду и Борису.
– Слушаю вас. – Дымя папиросой, Гарин откинулся в кресле.
– При всей кажущейся разности симптоматики, ядра патологий схожи, мы это обсуждали уже. И этиология схожа.
– Я помню.
– Не попробовать ли один коктейль для обоих, № 7?
– Вы недовольны результатами?
– Они стабильны, но особого прогресса нет.
– Вы много хотите, доктор. Оба пациента – с глубокими психосоматическими поражениями. Аггравация, аутохтонность, гиперкинез.
– Акатизия.
– Да. Но у Дональда – эгоцентрический гигантизм, а у Бориса – кверулянтство. Перманентно винит всех.
– Но ядра, ядра общие.
– Ядра схожи.
– Может, стоит?
– Убить одним выстрелом двух вальдшнепов? Попробуйте. Как говорится, в крепком коромысле черви не заведутся.
– Хорошо.Компот № 7.
– Я знаю, что вы отдали Владимира Штерну.
– А вы против?
– Нет. Если он взял – пожалуйста. А что, вам надоел Mister Etoneya?
– Я не чувствую пациента. Симтоматика ясна, а вот сам он…
– Доктор, в нашем деле – валидность, валидность и…
– Ещё раз валидность, – выдохнула дым Пак. – И ничего боле. Да! Но есть self, доктор.
– Есть self, а как же! – Гарин ветхозаветно огладил бороду. – Self никто не отменял.
– Вот я и спихнула Володю Этонея Штерну. С вашего согласия! – рассмеялась она.
Откинувшись в кресле, Гарин внимательно смотрел на неё сквозь пенсне:
– Вообще… вы чем-то огорчены?
– Вовсе нет. Спала не очень.
– Дрозды?
– Письма.
– Лондон?
Она кивнула, загасила окурок, подняла халат, расстегнула белые брюки, приспустила и легла грудью на край стола Гарина:
– Доктор, могла бы я вас попросить?
– В любое время к вашим услугам! – пророкотал Платон Ильич, встал, снял blackjack с гвоздя и пустил в маленькие ягодицы Пак по синей молнии, вызвав у неё два коротких вскрика.
– Благодарю вас… – Полежав на столе, она выпрямилась, привела себя в порядок, поправила очки. – Что бы мы делали без вашего гипермодернизма!
– Да я и сам от него завишу…
– До ланча, доктор!
– Будьте здравы!
Пак сунула руки в карманы халата и решительно направилась к двери.
– Доктор Пак! – окликнул ее Гарин, пошлёпывая blackjack'ом по левой ладони.
Она обернулась.
– Вас разочаровывают новые пациенты?
– Что вы, доктор! Среди этой восьмёрки нет инкогерентности, имбецильности, идиотии. Ну… коморбидность есть у всех.
– Они сложносоставные букеты.
– Именно.
– Скучаете по старым пациентам? Жалеете, что их всех пришлось в одночасье выписать?
– Что об этом жалеть, доктор? – Она пожала острым маленьким плечом. – Конечно, там были люди, ну…. гораздо симпатичнее.
–Люди! – многозначительно поднял blackjack Гарин.
– Люди, – повторила она. – Люди. Но долг!
– Долг. И он не всегда платежом красен, доктор.
– Профессия есть профессия, – вздохнула она.
– Профессия – не конфессия.
– Это точно, – серьёзно кивнула Пак и вышла.
До ланча Гарин успел принять Джастина и Синдзо. Сгрязью Джастина разобрались быстро, пациент покинул кабинет главврача хоть и в слезах, но успокоенным и удовлетворённым, а вот никуда не спешащий Синдзо отнял полтора часа времени. Гарин не очень любил зануд, но умел сдерживать свои чувства и контролировать предпочтения. Когда Синдзосан наконец сполз с кресла и невозмутимо зашуршал подсохшими ягодицами по паркету, направляясь к двери, Гарин, пожелав ему, как всегда, здоровья, вызвал голограмму письма Евсея Воскова, с улыбкой полистал текст его романа, выбрал четвёртую главу, закурил и стал читать:
IV
Утреннее августовское солнце со всепоражающей настойчивостью обливало нежно-золотистой глазурью дачное Подмосковье, когда новенький грузовик семьи Бобровых выехал на Киевское шоссе и понёсся к Москве. За рулём сидел Пётр, рядом с ним в кабине восседала его верная и добрая жена Настасья, со стоической радостью разделяющая с мужем всё, что было, есть и будет уготовано им судьбою. Месяц как не были они на ставшем уже родным Калужском рынке, воистину превратившемся в судьбоносную звезду для поднявшейся из социалистического пепла семьи Бобровых. И как же соскучились по нему! Недаром, ох, недаром за рулём грузовика, на кузове которого красовалась улыбающаяся доярка с ведром парного молока на фоне деревенского пейзажа с коровами и берёзами, сидел этим утром сам Пётр, а не шофёр Вася.
Июль – горячий месяц для крестьян. Нынешний сенокос стал особенно горячим и потребовал от Бобровых мобилизации всех семейных сил. Да и работников пришлось нанимать, чтобы стоговали, возили и убирали драгоценное подмосковное сено, столь необходимое для восьми коров швейцарской породы, которые уже давно стали членами работящей и правоверной семьи Бобровых.
Супруги радостно смотрели вперёд. Грузовик пересёк Окружную и въехал в Москву. Показались новостройки, обещающие москвичам тысячи новых, светлых квартир взамен убогих сталинских коммуналок. Знаменитые панельные шестиэтажные “бериевки” с пристроенными лифтами росли тут и там, поражая глаза супругов разноцветьем стен. От этих домов веяло новой, свободной и достаточной жизнью, пришедшей в СССР благодаря товарищу Берии, прозорливому и неутомимому в своей заботе о счастье советских людей.
Шоссе расширилось, машин прибавилось. Советские, американские, турецкие и итальянские машины единым потоком неслись в столицу советского государства.
– Гляди, Петя, как Москва хорошеет! – улыбалась Настасья.
– Москва бьёт с мыска! – дымил Пётр американской сигаретой.
Пронеслись по широкому, обсаженному молодыми дубами проспекту – и вот она, Калужская площадь с красивым полукруглым домом. На доме – огромный портрет Лаврентия Павловича, вокруг него два портрета поменьше – Деканозова и Маленкова, справа от площади – громадный купол Калужского рынка.
И ахнули Бобровы. На куполе раньше лишь корова пятнистая была, с выменем солидным, а теперь ещё и бык появился! Здоровый, рогатый, с кольцом в ноздрях.
– Продавил мясо Леонид Ильич! – восторженно крякнул Пётр, окурок в окно выплюнув.
– Продавил, благодетель! – всплеснула руками Настасья.
От радости Пётр чуть в мерседес не врезался. Свернул, подрулил к рынку, заехал на стоянку, заглушил мотор и дал волю чувствам – выскочил из кабины и заплясал на асфальте среди машин.
Бык на крыше – вот это да! Сбылось, сбылось то, о чём мечталось не только Бобровым, а и всем торгующим на Калужском рынке уже три года. В пятьдесят восьмом открылся рынок, но торговать мог только птицей да молочкой, а мясо ЦК разрешало продавать только в государственных магазинах. Но директор рынка Леонид Ильич недаром когда-то на партийной работе был, в ЦК у него своя рука. Теперь и мясом Калужский, а может, и другие рынки заторгуют. А это значит – новый покупатель на рынок косяком повалит, а вместе с мясом купит и бобровское масло, творог и сметану. Вот радости-то будет! Попрёт деньга!
Бобровы, ног под собой не чуя, заметались на стоянке: Настасья дверцы кузова открыла, Пётр грузчиков кликнул, сунул им по новенькому рублю:
– Тащите, братцы, скорейча в молочный ряд, места 12–14!
Взялись загорелые, готовые на любую хорошую работу студенты-грузчики за фляги с молоком, сметаной и творогом, понесли на рынок. А Бобровы уж сами бегут, от нетерпения сгорая: рынок, рынок родной! Тот, что из нищеты колхозной вытащил, достаток принёс, смыслом жизнь наполнил. Вошли и ахнули – гудят мясные ряды! Телячьи, свиные, бараньи туши на крюках, окорока, головы коровьи, свинина розовая, говядина красная, вырезка, рёбра, мослы, хвосты, уши, почки, печёнка! А над мясным отделом под потолком – шарики разноцветные! Красота! Пётр аж зажмурился.
– Господи, твоя воля! – Настасья перекрестилась, от восторга млея.
И – сразу в молочный ряд родной. А там уж и впрямь все родные, лица знакомые – Наташка, баба Дуня, Пахом, дед Абрашка, Нелька-Погонелька:
– Бобровы! Что-то вас не видать давненько!
Настасья – к своим продавщицам, хорошим, добрым Лене, Тосе и Анюте:
– Девочки, здравствуйте!
– Здравствуйте, Настасья Сергеевна!
Все в белом, как медсёстры, все чистенькие, все улыбками светятся, за мраморными столами своими с высококачественной бобровской продукцией.
Счастье! Грузчики бидоны приволокли.
Пётр первым делом в администрацию – котлетку занести. Чай, месяц назад заносил. Заходит в кабинет замдиректора, с поклоном:
– Здравствуйте, Виктор Самуилович!
Тот за столом сидит по-американски – сигара, ноги в рыжих ботинках-крокодилах на столе, виски со льдом, носки полосатые, смотрит японский телевизор. Полуоборачивается:
– А, это ты…
Руку сунул Боброву, словно милостыню. Пётр руку пожал, вложил в неё котлетку – пятьдесят рублей в конверте. Тот, не глядя, конверт в ящик стола – швырь. А сам в экран сигарой:
– Видал?
– Что, Виктор Самуилыч?
– Ленина хоронят.
– Как?
– Так.
– На Красной площади?
– На какой Красной площади, чудило! – смеётся зам. – Его оттуда вчера вывезли.
– А где же?
– На Волковском кладбище, в Ленинграде. Смотри, какой плитой могилу накроют!
Смотрит Пётр. Плита толстенная. И широченная. Висит на двух кранах.
– А зачем такой толстой?
– Чтоб не спёрли!
– Вот оно что…
– То-то и оно.
– Виктор Самуилыч, прослышал я, что аренду повышаете?
– Немного. На два рубля за место. И в связи с мясным рядом новая телега от санэпидемстанции, всех касается. – Он не глядя вынул из ящика бумагу. – Прочти и подпиши.
– Хорошо, спасибо. – С поклоном Пётр бумагу принял.
Гарин пролистнул текст дальше.
Но не всё в этот солнечный августовский день 1962 года было так восхитительно, правильно и хорошо. Накануне захоронения тела В. И. Ленина, этого поистине эпохального события, открывающего новую страницу в истории СССР, произошло прискорбное в своей омерзительной и циничной безответственности преступление. Как известно, ещё в ноябре 1956 года решительный в своей непреклонности Л. П. Берия сместил с поста министра МГБ Меркулова и назначил на его место Владзимирского. Его заместителями стали Богдан и Амаяк Кобуловы. Помощником Богдана Кобулова был полковник Саркисов – авантюрист и проходимец, втёршийся в доверие к начальству. Он и уговорил недальновидных и падких на деньги братьев Кобуловых на омерзительную авантюру. В ночь перед торжественным выносом тела В. И. Ленина из Мавзолея полковник Саркисов с тремя своими подчинёнными подменил тело вождя мирового пролетариата на заранее изготовленную куклу. Именно её погребли на Волковском кладбище. А тело вождя было распилено полковником Саркисовым на тридцать шесть кусков и впоследствии тайно распродано при помощи международных связей братьев Кобуловых за общую сумму в 2 560 000 долларов США. Покупателями стали как известные западные миллионеры, коллекционеры и антропологи, так и некоторые западные компартии. Коммунистическая партия Италии купила правую руку Ильича, Коммунистическая партия Франции – левую руку, Коммунистическая партия Греции – правое плечо, Коммунистическая партия Испании – левое плечо, Коммунистическая партия США – правую ступню, Коммунистическая партия Германии – левое колено, Коммунистическая партия Нидерландов – большой палец левой ноги, Коммунистическая партия Англии – грудь, Коммунистическая партия Португалии – живот. Голову В. И. Ленина купил Арманд Хаммер, ягодицы вместе с анусом – Говард Хьюз. При тайной распродаже главные запросы от иностранных покупателей пришлись на гениталии вождя. Но они были вырезаны большевистскими варварами ещё при мумифицировании тела, затем засушены и хранились на ближней даче Сталина, в левом ящике его письменного стола, в золотой коробке под стеклом. После смерти Сталина решительный и мудрый Л. П. Берия изъял коробку с засушенными гениталиями вождя с дачи умершего и поместил её в
Гарин пролистнул текст дальше.
И вот, вот, вот, наконец, началось!
Взмывает вверх ало-золотистый занавес, сияют прожектора, и Джонни Уранофф, долгожданный в Одессе Джонни, своей неповторимой, ни на что не похожей пробежкой-походкой-танцем выкатывается на сцену. В узких белых брюках, в голубых остроносых ботинках, в цветастой гавайской рубашке навыпуск, с кудрявыми, непослушными волосами цвета спелой пшеницы, с загорелым, улыбающимся, белозубым лицом, ах, что же это за лицо! Узкие скулы, мужественный, упрямый в своей решительности подбородок, чувственные губы, нос с благородной горбинкой, густые, тёмные в отличие от волос, брови и глубоко-синие, морского тона глаза, с вызовом, с добротой и надеждой смотрящие в зал.
А что творится в зале Одесского оперного театра! Публика вскакивает с мест, кричит и хлопает. Партийные чиновники, военные гарнизона, работники органов госбезопасности, новые нэпманы, кооператоры, рыбаки и портовые биндюжники, блатные и интеллигенты, тёти с Привоза и дяди со Староконной барахолки – все приветствуют Джонни, неистового в своём искреннем и добром желании покорить после Москвы и Ленинграда теперь и Одессу-маму.
– Джони-и-и-и-и-и!!! – раздаётся всеобщий крик.
– Ура, Уранофф!! – кричит молодёжная галёрка.
И в ответ – грохот джаз-рок-банда, привезённого Джонни из далёкого Канзаса.
Все свои концерты в СССР очаровательный, мужественный, искристый в своей подкупающей непосредственности Джонни начинал неизменно песней “Hit The Road Jack”. Одесса – не исключение. Звонкий, глубокий и сильный голос звучит со сцены, с первых же тактов покоряя зал. Джонни пританцовывает в своей неповторимой манере, легко и изящно, очаровывая сидящих в зале женщин, сразу захлопавших в такт. Финал тонет в овации и криках. Но не успевают прогреметь последние аккорды песни, уже ставшей благодаря неистовому Джонни хитом в СССР, как он с ходу начинает другой хит, жгучий номер, уже по-русски – “Огненная Лола”.
- Где огонь твоих волос,
- Опаливший сердце мне?
- Тебя встретить довелось
- Не в далёкой стороне.
Песня чарующими океанскими волнами катится по залу, накрывая, подбрасывая и качая. И зал раскачивается в такт. Джонни двигается гипнотически, как сомнамбула, словно балансирует на гребне грозной волны. Финал охватывает всех поглощающим приливом, женщины вскидывают руки, утопая в невыразимой нежности, – они готовы, готовы утонуть вместе с Джонни, уйти на дно русско-цыганского океана! Но он, неистово-красивый, начинает уже другую песню, “Sweet Little Sixteen”, и вслед за плавным приливом на зал обрушивается настоящий водопад. Молодёжь вскакивает с мест, танцует ставший уже модным в бериевском СССР, зажигательный в своей молодёжной безшабашности рок-н-ролл. За быстрыми синкопами – неторопливая, чувственная мелодия на русские слова: “Я спешу к тебе”.
- Я немного подшофе, я летел из Санта-Фе,
- Где с друзьями выпивал за нас с тобой.
- Белокаменной Москвой по вечерней мостовой
- Я спешу к тебе навстречу, сам не свой.
Казалось, время остановилось в Одесском оперном театре. Джонни привёз с собой чудо-остров, омываемый океаном любви с кущами нежности, гротами тайной влюблённости, водопадами безумно-мучительного наслаждения и непотухающим вулканом огнедышащих страстей. “Devil In Her Heart”, “Уноси нас, тройка!”, “Love Me Tender”, “Не целуй меня ночью белою”, “Rock and Roll Music”, “Выпьем водки, кореша!”, “Johnny B. Goode”, “Утонуть в твоих очах мне уготовано”, “Roll Over Beethhoven” – и вдруг неожиданно, широко и мощно вступает симфонический оркестр, и первые такты ставшей народной, любимой всеми песни заставляют зал встать, а Джонни спокойно и торжественно запевает, положив правую руку на грудь:
- Суровой чести верный рыцарь,
- Народом Берия любим.
- Отчизна славная гордится
- Бесстрашным маршалом своим[14].
Советские люди прекрасно знают эту песню, ставшую гимном великому человеку, совершившему неповторимый и беспрецедентный в своём прогрессивном размахе поворот в истории Страны Советов. Несравненный в своей мудрости и проницательной последовательности, Лаврентий Берия не только продолжил дело великого Ленина, обновив руководство КПСС, начав Новый НЭП, но и вывел СССР на новую идеологическую орбиту, гениально соединив социализм с православием и новой экономической политикой, что привело к поистине небывалому расцвету страны, доказавшей всему миру свою
Гарин зевнул и пролистнул текст.
Часы на Театральной площади показали двадцать три минуты первого, молодой, очаровательно тонкий месяц снова выплыл из-за угрожающе рваных туч, и Ляля снова, снова, снова, снова уже в четвёртый раз взмолилась, обращаясь к нему:
– О ночное светило, покровитель любовников и поэтов, фей и русалок, филинов и летучих мышей, помоги же мне в благородном и высоком деле моём!
И словно по столь необходимому в такие мгновения волшебству, двери шикарного, лучшего в Одессе ресторана “У Дюка”, выходящие на полуночную, призрачно-серебристую площадь, распахнулись, возник пчелиный шум голосов, засуетилась суровая охрана, подкатил роскошный розовый кадиллак с изумительными плавниками, шофёр выскочил, слаломоподобно обежал длинную машину, ловко открыл дверцу, сгибаясь в холуйском полупоклоне. И тут же пёстрая, жадная женская стая кинулась-метнулась к кадиллаку из сквера и переулков:
– Джо-о-о-о-онни-и-и-и-и!!!
Но охрана даром хлеб не ела. Кольцо богатырей в чёрных костюмах, разведя чёрные руки, стальными надолбами выросло на пути стаи. И пёстрой уличной кошкой она застряла в них. Визги, мольбы и крики, мелькание букетов и женских сумочек, плевки и проклятия. Ляле ужжжжасно хотелось броситься к розовой кадиллачной прелести вместе со всеми, но она взяла себя за острые локти, дрожа коленками, медленно-напряжённо подошла:
– Спокойно, Марго, спокойно…
Её сердце, сладко измочаленное концертом и ожиданием, забилось оглушительно. В ушах ещё продолжало, продолжало, продолжало звенеть.
И вдруг! Сквозь трепыхающуюся на чёрных надолбах кошку-толпу она увидела ЕГО. Богоподобный Джонни выходил из ревущего ресторана, поддерживаемый под руки слева полноватой, задастой женой секретаря горкома партии, справа – худой и вызывающе длинноногой женой мэра. Обнявшиеся и пьяные секретарь и мэр выкатывались, выкатывались следом. В джинсах и распахнутой на груди модной белой рубашке без ворота несравненный Джонни пьяновато-элегантно покачивался на женских руках. Обе женщины вели его, как сокровище сокровищ.
– А вот и лучшие девушки вашего города?
– Джонни, мы вас не отдадим!
– Джонни, я тебя не отдам н-никому! – Пьяная жена мэра уже дважды выпила с ним на брудершафт.
– Ну леди, это что… матриархат?
– Мат-т-триархат, да!
Из смертельно раненной кошки-стаи в Джонни полетели букетики. Вопли зазвенели. Но охрана стояла насмерть.
– Джонни, ты готов на рас-тэр-зание? – захохотал секретарь горкома, молодой, черноволосый, носатый Гоглидзе.
– Владимир Сергеич, в вашем городе я готов на всё.
– Во-вва, не дури! – Вся в золоте-бриллиантах, блондинка-жена секретаря ещё крепче приобняла-обхватила звезду.
– Вася, мы едем к нам! Не-ммедленно! – топнула алой остроносой туфлей длинная жена мэра.
Мэр города Прокопенко, коренастый, животастый, губастый, щегольнул плохим английским:
– With pleasure, honey!
– Друзья дорогие, увы, я не смогу. – Джонни вскинул загорелые красивые руки. – Пощадите, Христа ради! Нам завтра лететь у Кив…
– Перенесём! И концерт!
– Вова, звони Козлову! Пусть переносит!
– Well that… goddamn…that's really… truly not possible, no matter how fuggin' sore I am about it… – Джонни соскользнул на свой канзасский.
– In my Odessa everything is possible! – Мэр поднял толстый-короткий палец.
Но вмешался пьяновато-взъерошенный антрепренёр Анатоль:
– Дамы, товарищи, господа, умоляю вас пощадить артиста! Нам лететь завтра, и завтра же концерт в Киеве, это ответственно, это серьёзно, очень серьёзно!