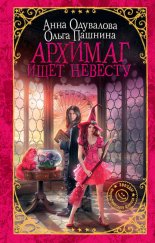Доктор Гарин Сорокин Владимир
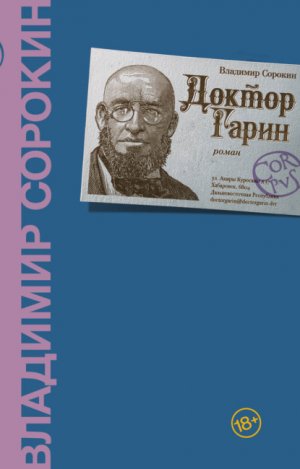
– Вывожу. Экологически чистыми и исключительно народными средствами.
– Ах, вот что.
С человеком была такса, дотянувшаяся до верха бетонного основания ограды и просунувшая узкую морду сквозь прутья.
– Признаться, тараканов у нас сроду не водилось, клопов тоже. Вши – да, были во время войны, но она уже, к счастью, закончилась. Блохи… мы не держим собак. Есть один кот, да и тот фараонский. Не в чем блохам заводиться.
Человек понимающе кивал круглой головой.
– А как насчёт мокриц? – спросил он.
– Не встречал, – честно признался Гарин.
– На кухне, в подвале или в душевых помещениях?
– Возможно… не знаю. Не нахожу вреда в мокрицах.
– О, как вы ошибаетесь! – Кузьмичёв прижал шляпу к груди. – Мокрицы – опаснейшие создания, разносчики всевозможных заболеваний. Если взглянуть в обычный мелкоскоп на мокрицу, она поразит вас своим агрессивным видом. Если же вы рискнёте взглянуть на неё в мелкоскоп электронный, вы можете надолго потерять душевное равновесие.
– В ближайшие годы я точно этого делать не стану. – Гарин достал папиросу.
Пока он закуривал, незнакомец выжидательно молчал.
– Я беру недорого. Но работаю исключительно чисто и профессионально.
– Право, не знаю… – пожал плечом Гарин. – Ну… ладно, ступайте на кухню. Сошлитесь на доктора Гарина.
– Благодарю вас! – радостно оживился человек, надел шляпу, поддёрнул таксу и направился к калитке.
Гарин достал свой клинообразный смартик FF40, позвонил роботу-вахтёру:
– Фёдор, пропусти человека с таксой и рюкзаком.
Неподалёку открылась калитка, Кузьмичёв вошёл. Такса семенила рядом. Под широкими брюками незнакомца виднелись забрызганные грязью резиновые сапоги.
– А такса помогает вам искать клопов и мокриц? – спросил Гарин.
– Нет, это просто друг.
– Ясно.
Платон Ильич двинулся дальше по парку, Кузьмичёв заспешил к санаторию. Дойдя до прудика, Гарин сел на любимую скамейку между двумя ивами, докурил папиросу, зевнул, снова достал FF40, открыл роман Воскова, стал читать.
– О чём же вы, женщина и поэт, хотите спросить музыканта? – Джонни очаровательно-пьяновато покачнулся, обнял пузатый, расписанный под хохлому холодильник, а потом и грубо открыл его.
Ляля одиноко и трогательно стояла посередине большого, шикарного номера с антикварной, покрытой позолотой мебелью.
– Что выпьем? – Он достал-вытянул из холодильника ледяную бутылку советского брюта.
– Не знаю… – Она мягко и жестоко взяла себя за локти.
– Советского шампанского?
– Да, можно…
С неловкой очаровательностью он открыл, проливая обильно на журнальный стол, мокро наполнил бокалы, взял, пошёл, пошёл к Ляле. Она стояла перед ним, держа себя за локти, словно жёстко останавливая, голое плечо торчало сквозь прореху.
– Как они вас порвали! – Пьяновато и как-то по-разбойничьи усмехнулся Джонни, протягивая ей бокал. – Вы решительная?
– Временами… – пробормотала она, принимая бокал непослушной красивой рукой.
Бокал задрожал несчастно, закапал на ковёр.
Джонни чокнулся и сразу жадно ополовинил свой, пошёл к дивану, устало сел-развалился с роскошной пьяной наглостью, закидывая остроносый ботинок на колено:
– Присаживайтесь. Как вас зовут?
– Ляля, – произнесла она, стараясь не уронить бокал и глядя на Джонни.
Возникла короткая грозная пауза.
– Что-то не так? – спросил он, приглядываясь.
– Нет, всё хорошо. Очень хорошо, – тяжко и страшно вздохнула она.
– В чём же дело?
– Дело в том, Джонни, что…
– Что?
– Что меня трясёт.
– Ах, вот оно что! – рассмеялся он расслабленно и шлёпнул рукой по дивану. – А вы садитесь поближе! И всё пройдёт.
В порванной юбке она подошла, подошла, подошла, еле переставляя красивые ноги.
Села.
Он придвинулся к ней, стал в упор, как пьяный нежный врач, разглядывать её лицо.
– Вы поэт.
– Да.
– Вы… красивая.
– Говорят.
Губы её дрогнули гримасой очаровательной жалости.
– Почему не пьёте?
Он чокнулся своим бокалом.
Она скосила зелёные глаза на свой дрожащий бокал, обхватила ладонями, чтобы не разлить, испугалась вмиг, что раздавит, и тут же выпила, выпила, выпила залпом желанное, игристое, ледяное вино.
– Great! – Он допил свой, отобрал у неё бокал, словно ёлочную игрушку у описавшейся девочки, поставил бокалы на пол.
Взял её руку. Мягкую, прелестно-безвольную.
– Были на концерте?
Она кивнула, не в силах оторваться от этого близкого, желанно-пугающего лица.
– Понравилось?
Она кивнула. И вдруг рыгнула.
Он тепло и устало рассмеялся и положил потную, сильную, шершавую ладонь ей на щёку.
– Извините… – пробормотала она.
– Что же поэту понравилось у музыканта?
Вино быстро и чарующе действовало. Она стала приходить, приходить в себя.
– Мне?
– Да, вам. Как же вас зовут, красивый поэт?
– Вы уже спрашивали. Ляля.
– I'm sorry! Ляля… – Он гладил её щёку. – О чём вы пишете? О любви?
– О смерти тоже.
– Прочтите.
Она набрала, набрала воздуха и заговорила полушёпотом, нараспев:
- Взмывает, рвётся, багровеет и рушится, благословясь.
- В пурпуре ночи пламенеет вчера зажжённый
- юный князь.
- Он так горит, как плазмой дышит, и, наклоняясь
- над водой,
- Предсмертный бой курантов слышит,
- полунемой, полуживой.
- Полунемой, он не расскажет. Полуживой,
- он не спасёт.
- В свой красный гроб смиренно ляжет
- и “аллилуйя!” пропоёт.
- Химеры ночи отпылают, а тела огнь пожрёт глаза.
- И в одиночестве растают оснеженные небеса.
Джонни сильно и страшно смотрел в упор. Рука, замершая на её щеке, ожила, двинулась грубо дальше, обхватила мягко-властно прелестную тёплую шею, потянула, потянула. Губы его влажно-настойчиво раскрылись. Но её ладони упёрлись, упёрлись в его разгорячённую грудь.
– Нет, нет…
– Что? – Он непонимающе и страшно остановился.
– Джонни. – Глаза её изумрудные, смарагдовые, с мельчайшими вкраплениями терракоты, сердолика. – Я же сказала, что я не пляжная курильщица травки.
– Вы… ты не хочешь меня?
– Хочу. Но не так.
– Как же?
– Вот так. – Она размахнулась и сильно ударила его ладонью по щеке.
Под внезапную торжественную органную музыку над текстом вспыхнула голограмма: слон, входящий в пустой собор Святого Петра. Это был традиционный сигнал к дневному сну, обязательному для Гарина.
– А он не графоман! – удовлетворённо и громко произнёс Платон Ильич, закрывая текст.
Второй слон вошёл в собор. За ним – третий. Гарин зевнул – широко и страшно. Затем решительно встал и зашагал к санаторию. Когда в собор входил двенадцатый слон, он обычно засыпал.
Дойдя до своего номера, он помочился, разделся до трусов и старомодной бледно-синей майки, снял пенсне и повесил его на настольную лампу, положил смартик с торжественно звучащей голограммой на стол, забрался в свежую постель и тут же заснул.
Последние десять лет доктор Гарин редко видел сны. Но если и видел, то лишь в дневное время. Ночи его, к счастью, проходили без сновидений. Или, может, он просто забывал свои сны. На этот раз ему приснился яркий, большой и подробный сон.
Утро. Синее безоблачное зимнее небо, солнце изливает лучи на блестящую снежную равнину. Лёгкий мороз приятно щиплет ноздри и щёки, воздух изумительно свеж, бодр и приятен, дышать им – наслаждение. Гарин с Перхушей едут по снежному полю. Впереди – дома деревни с заснеженными крышами, из труб тянутся вверх дымы.
– А вот и Долгое, барин! – произносит Перхуша радостно и насмешливо, в лишь ему одному присущей манере. – Стало быть, добралися!
Гарин поворачивается к нему и видит совсем рядом лицо Перхуши – большое, занимающее всё пространство зимнего пейзажа, от поля до неба. Это остроносое, бородатое, как бы сорочье лицо, до боли знакомое, с рыжеватыми, слипшимися волосами, с инеем в бровях, с вековой крестьянской грязью в порах кожи, с вечно прищуренными глазками вызывает у него невероятный приступ чувства родства. Слёзы застят глаза, Гарин обнимает возницу и прижимается к его лицу, целует грубую, холодную от мороза кожу.
– Добралися, добралися, а как же… – бормочет Перхуша, неловко посмеиваясь.
– Дорогой мой, родной мой человек… – бормочет Гарин. – Спасибо тебе… спасибо…
От Перхушиного лица пахнет крестьянством: избой, хлевом, печкой и свежеиспечённым в этой печке ржаным хлебом. И эти запахи вызывают у Гарина новый поток слёз. Он рыдает, обнимая Перхушу.
– Так ведь доехали, барин, доехали! – смеётся Перхуша.
– Доехали… доехали… спасибо тебе, родной мой… – Гарин рыдает не оттого что доехали, а оттого что Перхуша жив, и сам он жив, и всё хорошо, и солнце яркое, и небо синее, и чистый воздух, и дымы из труб, и так хочется жить, любить, работать, преодолевать и созидать.
Самокат въезжает в Долгое. Гарину сразу хочется найти Зильбермана, передать ему вакцину, успокоить и обнадёжить, помочь вакцинировать деревенских. Они едут по главной улице, Гарин спрыгивает с самоката, идёт в избу. В ней красиво и аккуратно, тепло, всё на своих местах, топится печь, но людей нет. “Где же они?” – спрашивает Гарин у Перхуши. “Нешто у соседей!” – отвечает тот. Они идут в соседнюю избу. Там точно так же – печь топится, но никого нет. Они обходят все избы, и вдруг Перхуша догадывается: “Барин, так нынче суббота, банный день, стало быть, в баню все пошли!” – “В баню, конечно!” – радостно понимает Гарин, они идут, спешат по глубокому снегу, залитому ярким солнцем, снега много, он хрустит, сыпется, вязнет под ногами, они проваливаются по грудь в снег, идут к бане по каким-то заснеженным оврагам, разгребая снег, Гарин словно плывёт в белом ярком снегу, сжимая в руке саквояж с драгоценной вакциной, поднимает его вверх, чтобы не потерять. Наконец впереди виднеется баня. Она маленькая, кособокая, невзрачная и вся завалена снегом. “Что ж они выбрали такую убогую баню?!” – думает Гарин. Он подходит к бане, с трудом оттягивает, открывает перекошенную дверь и попадает в тёмное пространство. Это что-то вроде подземелья с огромными пещерами, ходами и ответвлениями; здесь полумрак, пахнет землёй, прелью, видны корни деревьев, но горят и светятся гнилушки, болотные ночные цветы. Гарин идёт по подземелью и вдруг оказывается в огромной пещере. От её размера захватывает дух. В пещере сгрудилось, собралось всё население Долгого. Мужики, бабы, дети, старики и старухи, все голые, мокрые, сгрудились под огромными земляными сводами и трутся руками, словно моются, делая вид, что это баня, хотя здесь холодно, и промозгло, и что-то хлюпает под ногами. Гарин приближается к ним, заговаривает, спрашивает, где Зильберман; они что-то бормочут, посмеиваются, продолжая тереться мокрыми руками; он понимает, что они его дурачат, начинает расталкивать их, думая, что их надо быстрей привить, чтобы они не стали зомби, если их покусают, тем более что они залезли под землю; но они дурачатся, бормочут и хихикают, нехотя пропуская его, он кричит на них, замахивается саквояжем, с трудом расчищая себе дорогу в этой мокрой, бормочущей голой толпе, наконец, он начинает просто орать: “Зильберман! Зильберман!!”; это вызывает хихиканье и насмешки мокрой крестьянской толпы; он в бессильном гневе лупит их саквояжем, толкает, распихивает, пролезает сквозь них, протискивается, понимая, что Зильберман, который терпеть не мог таких деревенских дураков, где-то рядом, совсем рядом; он влезает в узкий земляной проход, ползёт по нему в изнеможении и гневе, наконец, протискивается сквозь сужающуюся, сильно пахнущую перегноем землю и вваливается в небольшую пещеру; здесь обустроен какой-то пещерный уют, горят свечи, светятся гнилушки, какие-то травы засушены и развешаны, сухие грибы, мёртвые кроты; что-то в банках, это реторты, колбы, они соединены, но это не химический прибор, а простой самогонный аппарат, который работает, бурлит, пахнет самогоном; он видит в полумраке спину человека в очень грязном белом халате, вокруг него две голые пьяные бабы, в руках у них кружки с самогоном, они чокаются, пьют, хохочут, дурачатся и бормочут чушь; Гарин понимает, что перед ним Зильберман, и гневно толкает его в спину: “Саша, чёрт возьми, какого хрена ты сюда залез?!”, но тот не оборачивается, а продолжает общаться с пьяными бабами, он тискает их отвислые груди руками в резиновых перчатках, они пьяно хохочут, Гарин теряет терпение и орёт в черноволосый, кудрявый затылок Зильбермана: “Доктор Зильберман, ёб вашу мать!!! Я доктор Гарин!!! Вернитесь к своим обязанностям!!!”; тот не поворачивается и начинает смеяться, смеяться сдержанно, давясь от смеха, трясясь спиной, зато голые, мокрые, сисястые бабы, завидя Гарина, хохочут так, что Гарину становится невыносимо; ярость охватывает его, он начинает лупить Зильбермана саквояжем по грязной спине, лупит, лупит изо всех сил, но вдруг чувствует, что спина местами поддаётся, проваливается под ударами, хрустит; он хватает Зильбермана за плечо, чтобы повернуть к себе, но тот, продолжая хихикать и трястись, отворачивается; наконец, Гарин вцепляется в него, тянет на себя, поворачивает к себе и видит гниющее, полуразложившееся лицо Зильбермана. Тот гнусно хихикает, от него пахнет землёй, перегноем и человеческим гноем; он стал зомби, в ужасе догадывается Гарин, и вдруг Зильберман рычит и хватает его рукой за бок, сильной и цепкой; Гарин изо всех сил бьёт его кулаком в лицо, оно омерзительно хрустит, брызжа гноем, деформируется; Гарин вырывается, оставляя в руке зомби одежду, кожу, собственную плоть, рвётся из пещеры, но мокрые, голые зомби-крестьяне липкой массой наваливаются, хватают; Гарин отпихивается, кричит от ужаса, проваливается в земляную стену, находит нору, ползёт, ползёт по ней наверх и – о чудо! – вылезает в яркое, солнечное, зимнее пространство; вокруг всё то же село, опустевшее Долгое, Гарин бежит по вязкому, глубокому снегу, в изнеможении выбирается на улицу; надо срочно найти Перхушу, самокат и удирать отсюда к чертям собачьим; он видит самокат и Перхушу, тот что-то спокойно варит на костре; Гарин подбегает к нему, кричит, что надо бежать, Перхуша с обидой качает своей птичьей головой: “Барин, а я вам супчик из синицы сварил…”, Гарин видит, что Перхуша сварил суп в его немецком барометре, “Что ты делаешь, зачем?!” – начинает гневаться Гарин, но понимает, что надо уносить ноги из проклятого Долгого: “Бросай всё к чертям, поехали!!”, “Да как же, барин, супчик, супчик хороший, синичку рукавицей споймал…”, “Бросай всё к чёрту, дурак, здесь зомби!!”; Гарин бьёт, толкает Перхушу, тот пятится и стремительно бежит к самокату; Гарин бежит за ним, отстаёт, но вдруг прямо впереди из улицы, раздвигая мёрзлую землю страшными когтистыми руками, начинает мощно вылезать толстая простоволосая баба со знакомым, широким, но тронутым тленом лицом; заметив Гарина, она ухмыляется: “А ну, попахтай меня, милай!”; Гарин узнаёт в ней жену маленького мельника, на бегу делает фантастический прыжок, перепрыгивая через зомби-мельничиху, но она успевает больно царапнуть его когтями по ноге; Гарин приземляется, несётся по улице, видит впереди самокат, но Перхуша не сидит в нём, а копошится возле; “Поехали!!!” – вопит Гарин, “Погодите, барин, ещё не завёл…” – бормочет Перхуша и всовывает в передок капора коленчатую стальную рукоятку, которыми шофёры заводили допотопные грузовики; “Что ты делаешь?!” – кричит ему в ухо Гарин, но Перхуша вдруг зло огрызается: “Завожу мотор, вот чего делаю!” – и Гарин понимает, что это вовсе не Перхуша, а какой-то сомнительный, опасный мужик, вор и пьяница, он не может вспомнить, где он встречал его раньше; мужик открывает капор самоката, Гарин заглядывает и видит, что в капоре нет никаких маленьких лошадок, а стоит здоровенный, громоздкий, грязный допотопный мотор, и на нём оттиснуто 50 л. с. Гарин понимает, что ему придётся ехать с этим опасным мужиком, с этим вором, но делать нечего, надо бежать, а где же Перхуша? и вдруг он понимает, что этот мужик убил Перхушу, продал лошадок и вместо них купил и поставил этот чёртов мотор; он понимает, что бежать придётся вместе с этим бандитом, а что делать? в саквояже был револьвер, нужно достать его, а где саквояж? он остался в подземелье, чёрт, от бандита можно ждать всё что угодно, он убийца, вор, но выбора нет, придётся ехать с ним, и вдруг до Гарина доходит, что вот этот мужик, эта хитрая сволочь убила Перхушу, он просто взял и убил Перхушу, родного доброго человека, спасителя, который, пока Гарин лазил по подземелью, поймал синичку и варил из неё суп для Гарина, чтобы накормить доктора, а эта сволочь подло подкралась и убила его Перхушу, и теперь Перхуши больше нет, какая хитрая и мерзкая сволочь, блядская гадина, мразь, ярость и горе переполняют Гарина, он хватает мужика за голову и начинает колотить ею по мотору, по оттиску 50 л. с., он колотит, колотит изо всех сил, разбивая голову этой сволочи до крови, до мозга, но горе от потери Перхуши ещё сильнее, чем ярость, чем кровь и мозг этой сволочи, Гарин бьёт и рыдает, бьёт и рыдает, бьёт и рыдает.
Гарин открыл глаза.
Луч мягкого вечернего солнца падал на кровать сквозь клин в занавесках. Голограмма со слонами в соборе Святого Петра по-прежнему парила над столом, но уже беззвучно. Собор давно уже был полон слонов. Они молились.
Гарин вздохнул и пошевелился. И почувствовал, что щёки его мокры от слёз. Он провёл рукой по щеке.
– Давно ты мне не снился, друг дорогой… – произнёс он.
Сел в кровати. Посидел, приводя в порядок дыхание.
Свесил с кровати свои титановые ступни, пошевелил титановыми пальцами.
– Долгое… – это тебе не Короткое… – произнёс он и рассмеялся так, как смеётся человек после кошмарного и дурацкого сна.
Ужин был в семь, как обычно.
Овальные столы вечером снова были покрыты синей и красной скатертями, но уже другими, чем на ланче, с узорами. На столах стояли букеты цветов. Еду и напитки подавали официанты в белых перчатках. Из алкогольных напитков разрешалось только шампанское.
Когда облачённый во фрачную пару Гарин вошёл в столовую, и медики, и пациенты уже сидели на своих местах и закусывали под музыку Чайковского.
– Добрый вечер! – поприветствовал Гарин всех по-русски.
Ему ответили и медики из-за красного стола, и пациенты из-за синего, тоже уже привычно по-русски.
Вся “великолепная восьмёрка” была здесь, многие нарумянились, подвели глаза и украсили руки браслетами и кольцами. Гарин уселся на своё привычное место между Машей и Штерном, взял в руку бокал с шампанским, поднял его и громко провозгласил:
– Будьте здоровы, дамы и господа!
Ему ответили, кто как мог. Гарин с удовольствием глотнул шампанского, стал класть себе разные закуски. Маша предложила ему салат, он благодарно кивнул.
– Слыхали новость из Шемонаихи? – спросила она.
– Нет.
– Казахи предъявили ультиматум.
– Какой?
– Если до шести утра алтайцы не оставят северный берег Убы и не отойдут с позиций на шестьдесят два километра, казахи оставляют за собой право применить тактическое ядерное оружие.
– Вот как? – Гарин принялся за салат. – Ммм… нет, не слыхал… я спал….
– Очередной бред казахский, – закусывал Штерн. – Их угрозы ежедневны уже полгода.
– Но ультиматумов пока не было. – Маша отпила из бокала.
– Стояние на Убе! – рассмеялась Пак. – Можно эпос писать.
– Можно, если бы у алтайцев тоже была ядерная бомба.
– Маша, не делайте культа из ядерного оружия, – возразил Штерн. – Оно существует вовсе не для применения.
– Я надеюсь, но…
– Как Борис и Дональд? – спросил Гарин.
– Стабильны, – ответила Пак. – Пока.
– Дипсомания? – Гарин перевёл взгляд на санитаров.
– Бутылок в номере не найдено, – ответил один из них.
Гарин удовлетворённо кивнул, продолжая закусывать.
– Друзья, у меня есть тост! – раздалось за другим столом.
Сильвио поднял бокал:
– Если кто из вас не заметил, я напомню – сегодня ровно месяц, как мы здесь, в “Алтайских кедрах”.
– Я заметила! – улыбнулась ярко накрашенная Ангела.
– И я! – покачался на ягодицах Синдзо.
– Прекрасно! – продолжил Сильвио. – Этот месяц для меня пролетел, словно чайка над морем в солнечный день. Я лишний раз порадовался нашей коллективной мудрости, нашему выбору. У нас было столько возможностей! Европа кишит санаториями, грязелечебницами, горячими источниками. Но мы выбрали именно санаторий в Алтайской Республике. И не ошиблись, друзья, ведь правда?
Все, кроме Бориса и Дональда, одобрительно покачались на ягодицах.
– А кто подсказал нам это место? Мой друг Владимир!
– Это не я, – пробормотал тот.
– Нет, это ты, дорогой! Сначала он подсказал это мне, потом я рассказал про это целебное место всем вам. И мы приняли правильное решение. Поэтому я предлагаю тост за Владимира! Будь здоров и бодр, дружище!
Все выпили, кроме Дональда. Он сосредоточенно хлебал своё mixy-wixy.
– А теперь я хочу всем вам спеть!
– Сильвио, но мы ещё не закончили ужин, – развёл руками Эммануэль. – Суфле не может быть холодным!
– Не суфле единым жив человек, дорогой Эммануэль!
Сильвио поставил пустой бокал на стол, скрестил на животике руки в массивных золотых перстнях и запел громким, слегка дребезжащим тенором “Nessun Dorma” из оперы Пуччини “Турандот”.
Пак и Штерн с улыбкой переглянулись. Перестав есть, Гарин стал слушать. Маша бросила на Сильвио презрительный взгляд.
Закончив, Сильвио прижал руки к груди и закачался на ягодицах вперёд-назад-вперёд-назад. Все, даже Дональд и Борис, зааплодировали.
– Bravo, Сильвио! – выкрикнул Гарин, тяжко хлопая своими ладонями.
– Прекрасно, Сильвио! – хлопала Ангела.
– Чудесно! – возбуждённо покачивался на ягодицах Джастин.
Отхлопав, Дональд вытер рот салфеткой, отпихнул от себя чашу с mixy-wixy:
– Спето хорошо. Grazie, Сильвио. Ты настоящий парень, без сомнения. И не ответить тебе – значит не уважать других настоящих парней.
Он угрожающе оперся о стол руками и запел пронзительным, высоким и визгливым голосом:
- When I was a little bitty baby
- My mama would rock me in the cradle,
- In them old cotton fields back home;
- It was down in Louisiana,
- Just about a mile from Texarkana,
- In them old cotton fields back home…[16]
Борис закрыл уши руками. Дональд спел ещё несколько куплетов и забарабанил по столу. Ему зааплодировали.
– Ладно, я пожертвую суфле. – Эммануэль поднял руку, прося тишины.
Он запел приятным спокойным баритоном:
- Paris,
- Quand un amour fleurit
- a fait pendant des semaines,
- Deux coeurs qui se sourient
- Tout a parce qu'ils s'aiment
- Paris…[17]
Ему долго аплодировали.
Джастин снял с себя подвязанную салфетку и сразу запел не очень сильным, глубоким голосом “My Way”.
– Вот настоящий парень! – закричал Дональд, когда песня завершилась, и яростно замолотил по столу.
Все поддержали Джастина аплодисментами.
Слегка захмелевшая от двух бокалов шампанского Ангела приняла эстафету:
- Bei der Kaserne, vor dem groen Thor
- Steh'ne Laterne und steht sie noch davor.
- Da wollen wir uns wiedersehen
- Bei der Laterne woll'n wir stehen,
- Wie einst Lili Marleen
- Wie einst Lili Marleen…[18]
Голоса у неё не было совсем, но ей долго аплодировали.
Сильвио толкнул в бок соседа:
– Владимир! Твоя очередь!
– Это не я.
– Владимир, спойте!
– Русские песни такие красивые!
– Это не я.
– Спойте нам, Владимир, мы просим! – пророкотал на всю столовую Гарин и зааплодировал.
Владимир покачнулся на ягодицах, вытер рот салфеткой, задумался ненадолго и запел несильным голосом:
- Это это не я, это это не я.
- Это не я. Это не я.
- Это это не я. Это это не я.
- Это не я. Это не я.
- Это это это это это не я.
- Это это это это это не я.
- Это не я.
- Это не я.
- Это не я, не я. Это не я, не я.
- Это это не я. Это это не я.
- Это не я, не я. Это не я, не я.
- Это это не я. Это это не я.
Когда он закончил, все некоторое время сидели неподвижно. Затем Гарин зааплодировал. Его поддержали, но не все. Некоторые продолжали сидеть, словно в оцепенении.
– Грустная песня, Владимир, – вздохнул Сильвио, пихнул исполнителя в бок и зааплодировал.
– Это не я, – пробормотал тот.
– Русские песни всегда доводят меня до слёз… – всхлипнула Ангела и громко высморкалась в салфетку.
– Потому что у них трудная жизнь, – объяснил Дональд. – Но там было много классных парней!
– А какие женщины! – присвистнул Сильвио, закатывая глаза.
Сидзо вдруг высоко и красиво запел по-японски.
Грустная японская песня снова погрузила всех в оцепенение. Раздались редкие аплодисменты.
– Мы что, на кладбище? – недовольно фыркнул Борис, похлопал своими огромными рыжими ресницами, схватил большую чашу с салатом, вывалил салат на стол, схватил ложку и запел, стуча ложкой по дну чаши:
- I don't want to drink my whisky like you do
- I don't need to spend my money but still do
- Don't stop now a c'mon
- Another drop now c'mon
- I wanna lot now so c'mon
- That's right, that's right
- I said Mama but we're all crazy now![19]
Дональд и Джастин тут же подхватили припев, к ним присоединился Сильвио, потом Ангела, Эммануэль, Синдзо, и даже Владимир закачался на месте и затянул своё: “Это не я-я-я!”
– Ma-a-a-a-ma we're a-a-a-a-a-ll cra-a-a-azy now!! – пел синий стол.
За красным хлопали в такт песне. Когда пациенты закончили петь, врачи захлопали, медсёстры одобрительно закричали, санитары засвистели. Гарин знаком попросил официантов наполнить бокалы и встал.
– Дамы и господа! – заговорил он, тряхнув бородой. – Дорогой Сильвио вспомнил, что мы уже месяц как вместе. Это прекрасно! И ещё прекрасней, что мы вместе здесь, в “Алтайских кедрах”. Вовсе не случайно выбрали вы наш санаторий. Не хочу выглядеть легкомысленным хвастуном, но тем не менее скажу со всей откровенностью врача-профессионала: этому месту нет подобия в матушке-Европе. Уникальное сочетание радоновых источников, целебных грязей и наших алтайских кедров не имеет аналогов. Да, дорогие мои! Начнём с воздуха, которым вы дышите. Горы плюс эфирные масла кедров делают его в высшей степени целебным. Вы спите на кроватях, матрацы которых набиты опилками кедров, подушки – их стружками и сушёными горными травами, а одеяла, коими вы изволите покрывать свои тела, связаны из шерсти алтайских горных козлов! Кедровые орешки, о целебности которых написал ещё великий Авиценна, богаты витаминами Е, В и К, железом, цинком, магнием, марганцем, фосфором, аминокислотами. Вы пьёте чистейшую воду алтайских горных источников, вам заваривают чай из целебных горных трав и подают к чаю алтайский мёд, собранный трудолюбивыми пчёлами здесь на горных лугах. Вы часто слышали от меня фразу: иловая грязь – великая сила. Это не пустые слова! Наше грязелечение ставит на ноги пациентов с десятками разнообразнейших болезней – от тяжелейших артритов до параноидной шизофрени. Радоновые, азотно-кремнистые, пихтовые ванны в сочетании с бальзамным обтиранием, сегментарным массажем и анальной терапией нанесут сокрушительный удар по вашим недугам! А мы, врачи, поможем вам окончательно забыть обо всех ваших страхах и опасениях. Признаюсь вам, дорогие мои, откровенно: я против медикаментов. Пока вы принимаете их вынужденно, то давайте делать всё от нас зависящее, чтобы вы навсегда о них забыли! Первый оздоровительный месяц позади, впереди ещё два. Пройдёмте же достойно это временное поприще вместе, чтобы нам всем было о чём вспомнить через многие годы! Я желаю всем присутствующим здоровья душевного и телесного!
Он поднял бокал. Все зааплодировали, стали чокаться и пить. Пение и шампанское возбудили аппетит, официанты подали горячее, и все набросились на еду.
Пациенты ели по-разному. Их огромные рты, раз в пять больше человеческих, расправлялись с едой впечатляюще бесцеремонно. Врачи уже привыкли, но санитары и особенно официанты постоянно косились на синий стол.
Дональд не сделал исключения для горячего, смешав в своей чаше тушёную рыбу, жареных куропаток, варёных креветок и запечённую оленину и отправляя это в рот большим половником. Борис ел шумно, нервно, выплёвывая некоторые куски на отдельную тарелку, а потом возвращаясь к ним. Сильвио со свистом втягивал приглянувшееся губами, как он привык обходиться со спагетти. Ангела широко раскрывала напомаженный рот, вываливала вперёд мясистый язык, клала на него куски и неспешно проглатывала с утробным звуком. Джастин захватывал еду зубами, быстро и сильно, дёргаясь всем круглым телом. Эммануэль набивал рот до предела и долго разжёвывал пищу. Владимир ел так быстро и жадно, словно это был последний обед в его жизни. Синдзо принимал пищу как лекарство – медленно и с достоинством, закрывая чёрные влажные глаза после каждого глотка.
Гарин ел, как всегда, решительно и с аппетитом.
– Насчёт параноидной шизофрении, доктор… – негромко пробормотала Маша. – Я не совсем уверена, что грязи от этого помогают.
– А Восков? – Гарин жевал так, что двигалась вся его величественная борода.
– Ну… в комплексе разве что. А он здоров? Его же пришлось раньше выписать.
– Пишет, что здоров.
– Недотыкомки?
– Не видит. И не скандалит.
– Слава богу… – Красивые губы Маши презрительно изогнулись.
Опустошив свою чашу, Дональд отшвырнул половник, протяжно рыгнул и полез на стол.
– И как всегда, перед десертом, – скорбно покачал дынеобразной головой Штерн.
Гарин сделал знак официанту, и тот тут же включил два мощных вентилятора, стоящих между столами.
– В отличие от вас он не делает из десерта культа, – усмехнулась Пак.
– Ladies and gentlemen, the art of farting! – объявил Дональд. – And please don't forget: not every fart is art![20]
Он выставил свой молочно-белый, массивный зад ещё сильнее, наклоняясь лицом к столу, и оглушительно выпустил газы.
– Дональд, но почему ты опять лезешь первым? – развёл руками Эммануэль.
– Первой должна быть Ангела, дружище! – выкрикнул Сильвио.
– Я не мог терпеть, чёрт побери! – Дональд полез со стола на своё место.
– Опять спешка, опять… – качал головой Синдзо.
– Ангела, просим вас, – обратился к ней Эммануэль.