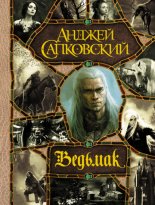Незримая жизнь Адди Ларю Шваб Виктория
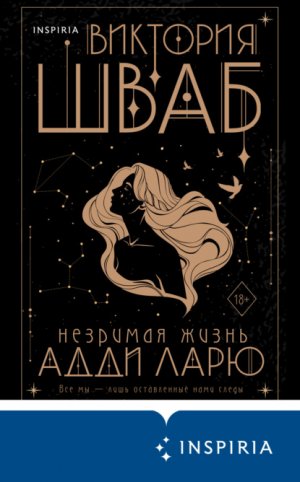
– А зачем тебе меняться? – Беа поворачивается к нему, в ее глазах поблескивает иней. – Ты прекрасен таким, какой есть.
Генри тяжело сглатывает.
– И какой же я? Какой я, Беа?
Ему страшно задавать этот вопрос, страшно выяснить значение морозного блеска в ее глазах, узнать, кого она видит, когда на него смотрит. Жаль, нельзя забрать свои слова обратно.
Но Беа улыбается и отвечает:
– Ты мой лучший друг, Генри.
Боль у него в груди чуточку слабеет. Потому что это действительно так, это правда.
– Ты милый, чуткий и отлично умеешь выслушать.
При этих словах у него сводит живот, потому что Генри нельзя назвать внимательным. Они постоянно ссорились из-за того, что он не придавал значения ее чувствам.
– В нужный момент ты всегда рядом, – продолжает Беа, и у него ноет в груди, ведь Генри знает, это не так.
На лесть от других не похоже – она не говорит о чумовых кубиках, точеных скулах, потрясающем голосе, очаровательном остроумии, не называет его сыном, которого у нее никогда не было, или своим пропавшим братом и не несет прочий вздор, который обычно выдают люди, глядя на Генри.
– Мне бы хотелось, чтобы ты увидел себя моими глазами.
Беа видит хорошего друга, и у Генри нет оправданий тому, что он никогда таким не был.
Он обхватывает голову руками, нажимая пальцами на глаза, и видит звезды. Как это исправить – только это, – как стать тем, кого видит в нем Беа, исчезнет ли тогда из ее глаз иней, увидит ли она его ясно?
– Прости, – шепчет он себе в колени и чувствует, как она принимается ерошить ему волосы.
– За что?
И что он должен ответить?
Генри тяжело вздыхает и поднимает голову.
– Если бы ты могла загадать одно-единственное желание, чего бы ты попросила?
– Зависит от ситуации. Смотря во что мне это обойдется.
– Откуда ты знаешь, что придется заплатить?
– Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
– Что ж… если бы ты продала душу дьяволу, чего бы попросила? Только одну вещь.
Беа закусывает губу:
– Счастье.
– В каком смысле? То есть самой всегда быть счастливой без особых причин? Или делать счастливыми других? Радоваться своей работе, быть довольной жизнью, или…
– Ты всегда слишком много думаешь, Генри, – смеется Беа, рассматривая пожарную лестницу. – Не знаю. Наверное, я хотела бы жить в мире с собой. Быть довольной. А ты?
Сначала Генри хочет соврать, но не делает этого.
– А я хотел бы быть любимым.
Глазами, подернутыми инеем, Беа смотрит на него, и даже сквозь серебристый туман видно, что они неизмеримо грустны.
– Никого нельзя заставить себя полюбить, Генри. Если нет выбора, все не по-настоящему.
У Генри пересыхает во рту.
Беа права. Разумеется, права.
А он идиот, застрявший в нереальном мире.
Беа подталкивает его плечом.
– Эй, проснись! Лучше найди того, с кем поцелуешься в полночь. Это приносит удачу.
Поднявшись, она ждет его, но Генри не в силах заставить себя встать.
– Ты иди, я еще тут побуду, – бормочет он.
Но Беа все же снова садится рядом. И пусть она сделала это из-за его проклятия, пусть видит в нем не того, кто он есть, когда Беа прислоняется к нему плечом, у Генри все равно словно камень падает с плеч. Лучший друг, который остается с ним во тьме.
Вскоре затихает музыка, голоса звучат все громче, и где-то позади люди начинают обратный отсчет.
Десять, девять, восемь…
О боже.
Семь, шесть, пять…
Что он натворил?
Четыре, три, два…
Слишком быстро…
Один!
Раздаются аплодисменты и поздравления, Беа прижимается своими губами к его губам, мгновенно их согревая. Год уходит, счетчик обнуляется, тройку сменяет четверка, и Генри понимает: он совершил чудовищную ошибку.
Загадал неправильное желание не тому богу, и теперь все им довольны, потому что сам он – ничто. Он идеален, ведь его не существует.
– Год будет чудесный, – радуется Беа, – у меня хорошее предчувствие. – Она выдыхает облачко пара и встает, потирая руки. – Черт, как холодно! Пошли в дом.
– Иди, я скоро.
Беа верит ему. Ее ботинки стучат по пожарной лестнице, и вот она уже проскальзывает в окно, оставив его открытым для Генри.
А он по-прежнему сидит один в темноте на ступеньках и уходит, лишь когда холод становится совершенно невыносимым.
XVIII
Зима 2014
Нью-Йорк
Генри сдается. Он принимает условия сделки, которую привык считать проклятием. Он старается стать лучше как друг, как брат и как сын, старается забыть о тумане, который клубится в глазах других, притворяется, что все реально, что он сам – реален.
И однажды он вдруг встречает девушку.
Она крадет книгу в его магазине. Генри ловит ее на улице, и когда она поворачивается к нему, в ее глазах нет никакого инея, пленки, ледяного нароста. Ясные карие глаза, лицо в форме сердечка, семь веснушек, разбросанных по щекам, как звезды.
Сначала Генри кажется, что это обман зрения, но назавтра она приходит снова, и опять тот же эффект, вернее, отсутствие всякого эффекта. Вместо пленки в ее глазах что-то другое. Она настоящая, неподдельная, и впервые за несколько месяцев Генри ощущает устойчивое влечение. Силу чужого притяжения.
Другую орбиту.
Когда эта девушка на него смотрит, она не видит идеала. Видит слишком взволнованного парня, чувствительного и потерянного. Жаждущего и изнывающего в клетке своего проклятия.
Она видит правду. Генри не понимает, каким образом и почему, просто не хочет, чтобы это заканчивалось. Ведь впервые за долгие месяцы, даже годы, возможно за всю свою жизнь, ему не кажется, что он проклят.
Первый раз он чувствует, что его видят.
XIX
18 марта 2014
Нью-Йорк
Остается всего один зал.
Когда смеркается, Адди и Генри отдают голубые браслеты и входят в пространство из оргстекла, где рядами возвышаются прозрачные стены. Они напоминают Генри стеллажи в библиотеке или магазине, но никаких книг нет, только наверху висит табличка с надписью: «Искусство – это вы».
В каждом проходе стоят миски с неоновой краской. А стены, конечно же, покрыты рисунками. Подписями и каракулями, отпечатками ладоней и узорами.
Одни идут по всей длине стены, некоторые прячутся, словно тайные знаки, в других рисунках. Адди обмакивает палец в зеленую краску и подносит к стеклу. Она рисует спираль, но уже на четвертом завитке первый тускнеет, растворяется, как льдинка в глубоком пруду.
Узор стерт.
Адди не замирает от неожиданности, не унывает, лишь на лице мелькает печаль, но и та вскоре исчезает из вида.
«Как же ты справляешься?» – хочет спросить Генри.
Однако вместо этого он обмакивает ладонь в зеленую краску и подходит к Адди, но ничего не рисует, просто замирает возле стекла.
– Положи руку поверх моей, – просит он, и Адди секунду колеблется, а потом кладет ладонь на тыльную поверхность его руки, накрывая своими пальцами пальцы Генри.
– Теперь мы будем рисовать, – говорит он.
Адди ведет его руку к стеклу и проводит указательным пальцем Генри по поверхности, оставив единственный след – зеленую линию.
Генри буквально чувствует, как спутница задерживает дыхание, застывает, ожидая, что рисунок исчезнет.
Но тот остается на месте, сияя невообразимым цветом.
И тогда в душе Адди происходит какой-то сдвиг.
Она проводит еще одну линию, потом третью, смеется, едва дыша, – ее рука по-прежнему лежит на его руке, а рука Генри – на стекле. И Адди начинает рисовать. Впервые за триста лет она рисует птиц, деревья, сад, мастерскую, город, пару глаз…
Образы неуклюже, яростно выливаются из Адди, текут с помощью Генри на стену. Адди смеется, слезы катятся по щекам, ему хочется стереть эти слезы, но его руки стали ее руками – Адди рисует.
А потом она снова окунает его палец в краску, подносит к стеклу и на сей раз робко, по одной букве, пишет.
Пишет свое имя.
Оно ложится посреди множества рисунков.
Адди Ларю.
Восемь букв, два слова. На первый взгляд ничем не отличаются от прочих следов, что они оставили, но разница существует. И Генри это понимает.
Наконец Адди убирает свою руку от руки Генри, тянется к буквам и проводит по ним пальцем. Сначала кажется, что надпись стерта, что на стекле остались лишь зеленые полосы, но как только Адди отводит руку, надпись проявляется вновь – нетронутая, неизменная.
И тогда для Адди что-то меняется. Накатывает на нее, как буря захлестывает Генри, но все иначе – это не мрак, а внезапная, головокружительная и ослепительная резкость.
И Адди тянет его к выходу. Подальше от лабиринта, от людей, которые прогуливаются под беззвездным небом, от парка искусств, с этого острова, и тут Генри понимает, что она не уводит его прочь, а ведет куда-то.
К парому.
В сторону метро.
В Бруклин.
Домой.
Всю дорогу она держится за Генри, переплетясь с ним пальцами с въевшейся зеленой краской. Адди не отпускает его, пока они поднимаются по лестнице и пока Генри открывает дверь. Только тогда она убирает руку и проносится в глубь квартиры.
Генри находит ее в спальне. Адди достает с полки синюю записную книжку, берет со стола ручку и передает все это Генри. Тот опускается на краешек постели, раскрывает книгу – одну из тех, что никогда не трогал, – и Адди садится рядом с ним на колени, затаив дыхание.
– Сделай так еще, – просит она.
Генри подносит шариковую ручку к чистому листу и пишет ее имя плотным аккуратным почерком: Адди Ларю.
Надпись не растворяется, не исчезает, по-прежнему остается в центре страницы. Генри поднимает взгляд на Адди – когда же она продолжит диктовать, что писать дальше, – но та смотрит только на буквы.
А потом откашливается и говорит:
– Началось все так…
И Генри принимается писать.
Часть пятая. Призрак, который улыбнулся, и девушка, которая улыбнулась в ответ
«Ho Portado le Stelle a Letto» (Я взял в постель звезды).
Маттео Ренатти, 1806–1808 гг.
Карандашный набросок на пергаменте, 20*35 см.
Предоставлено галереей Академии (Венеция).
На рисунке изображена женщина, чьи линии тела очерчены перекрученными простынями. Лицо обозначено лишь несколькими штрихами, его обрамляет шапка спутанных волос, однако художник наделил модель весьма характерной чертой: семь небольших веснушек, разбросанных по щекам.
Этот набросок был обнаружен в рабочем альбоме Ренатти за 1806–1808 гг. Согласно некоторым исследованиям он послужил источником вдохновения для его более позднего шедевра «Муза». И хотя поза девушки и изобразительные средства отличаются, количество и расположение веснушек позволяют судить о непреходящей важности модели в творчестве Ренатти.
Оценочная стоимость 267 000 долларов.
I
29 июля 1764
Вийон-сюр-Сарт, Франция
Адди направляется к церкви, что стоит неподалеку от центра Вийона. Серое приземистое здание ни капли не изменилось после ее побега. Рядом – погост, огражденный невысокой каменной стеной.
Могилу отца Адди находит быстро.
Жан Ларю.
Надгробие простое – имя, даты рождения и смерти, цитата из Библии: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется»[28]. Ни слова о том, каким он был человеком, ни упоминания о его ремесле, ни о доброте. Целая жизнь низведена до каменной глыбы и клочка травы.
По пути на кладбище Адди нарвала небольшой букет диких цветов, что росли на обочине дорожки, – сорных цветов, белых и желтых. Она опускается на колени, чтобы возложить их на могилу, и замирает, разглядев дату на камне под именем отца.
«1670–1714»
Год, когда она покинула деревню.
Адди принимается лихорадочно вспоминать, замечала ли у отца признаки болезни. Грудной кашель, слабость в членах. Воспоминания ее второй жизни отлиты в янтаре и прекрасно сохранились, а вот первой, той, когда она еще была Аделин Ларю, – воспоминания о том, как она, стоя на скамеечке, вымешивала тесто под присмотром матери, как отец вырезал в дереве лица, как она слонялась за Эстель по отмелям Сарта, – исчезают.
Двадцать три года, что Адди прожила до чащи, до сделки, почти стерлись. Потом она будет помнить каждую минуту каждого дня из трехсот лет, но звук смеха отца почти забылся, как и цвет глаз матери, как и острые черты лица Эстель.
Адди годами будет лежать без сна и рассказывать самой себе истории о девочке, которой когда-то была. Пытаться запомнить каждую мелочь, однако эффект получится противоположным: воспоминания как талисманы, монетки со святыми – если их часто брать в руки, гравировка стирается почти до основания, остаются лишь слабые очертания образа.
Что же до болезни отца – должно быть, та просто затерялась среди прошедших лет, и впервые Адди благодарна очищающей природе проклятия, благодарна за то, что вообще заключила сделку, – не ради себя самой, а ради матери, ведь Марте Ларю пришлось оплакивать только одну потерю, а не две.
Жана похоронили вместе с другими членами семьи. Младшей сестренкой Адди, которая едва дожила до двух лет, и его родителями – оба ушли еще до того, как Адди исполнилось десять. В следующем ряду покоятся уже родители деда с бабкой и неженатые братья и сестры. Клочок земли возле могилы Жана пуст – он поджидает его жену.
Для Адди, конечно же, места нет. Но именно эта цепочка могил, словно временная шкала, протянутая из прошлого в будущее, и привела ее той ночью в чащу: страх прожить похожую жизнь, которая неумолимо окончится на этом клочке земли.
Адди смотрит на могилу отца; ее одолевает неиссякаемая печаль утраты, наконец он обрел покой. Горе пришло и ушло: Адди потеряла этого человека пятьдесят лет назад и уже отгоревала по нему, и хотя боль никуда не делась, она не свежа. Ее притупило время, рана затянулась, превратилась в шрам.
Она кладет на могилу цветы, а затем поднимается и идет все дальше в глубь кладбища, с каждым шагом возвращаясь в прошлое, и вот она уже не Адди, а снова Аделин. Не призрак, а смертная девушка из плоти и крови. Все еще привязана к этому месту, и корни ее ноют, как фантомные ампутированные конечности.
Адди рассматривает имена на надгробиях – сплошь знакомые, разница лишь в том, что когда-то и они ее знали.
Вот Роже, который покоится рядом с первой и единственной женой, Полин.
Вот Изабель и ее младшенькая, Сара, они умерли в один год.
А здесь, в самом центре погоста, имя, что значит для Аделин больше всего. Та, которая столько раз держала ее за руку, показала, что в жизни есть нечто большее.
«Эстель Магритт, – гласит надпись на плите, – 1642–1719».
Ниже даты – простой крест, и Адди буквально слышит, как старуха шипит сквозь зубы, ведь ее похоронили в тени храма, которому она не поклонялась.
Эстель, которая считала, что душа – это лишь семя, возвращенное в почву, которая хотела, чтобы на ее костях выросло дерево. Эстель нужно было похоронить на опушке леса или среди грядок в саду. Или по крайней мере выбрать место ее упокоения в углу кладбища, где старый тис свесил ветки за низкую ограду, бросая тень на могилы.
На краю погоста стоит убогий сарай. Среди прочих инструментов Адди находит там небольшую лопатку и отправляется в лес.
На дворе разгар лета, однако под покровом деревьев царит прохлада. Полдень, и все же листья еще хранят аромат ночи. Запах леса самый обычный и вместе с тем ни на что не похожий. С каждым вдохом все сильнее на языке ощущается вкус земли, накатывают воспоминания о молитве девушки, в отчаянии роющей руками землю.
Теперь же вместо этого Адди погружает лопатку в почву и выкапывает саженец – очень хрупкий, наверное погибнет при первой же буре. Баюкая его в ладонях, словно младенца, Адди несет саженец на погост. Если ее и увидит случайный прохожий и решит, что зрелище странное, он забудет его, не успев ни с кем поделиться. А если люди увидят дерево, что выросло над могилой старухи, может быть, они снова вспомнят о старых богах.
Когда она покидает церковный двор, над деревней разливается звон колоколов, призывая жителей на мессу. Адди бредет по дороге, а из домов высыпают жители, ребятишки цепляются за руки матерей. Некоторые лица Адди знакомы, другие – совсем новые.
Вот Жорж Теро, вот старшая дочь Роже, двое сыновей Изабель… Когда Адди в следующий раз посетит Вийон, они, последние остатки ее прошлой жизни – первой жизни, – уже будут мертвы и похоронены на том же клочке земли.
Хижина на опушке леса остается заброшенной. Низкая изгородь обвалилась, садик Эстель запущен, сам домишко от возраста и без должного присмотра осел в землю. Дверь закрыта, на сломанных петлях висят ставни, из-за одной усталым глазом выглядывает разбитое окно.
Когда Адди придет сюда в следующий раз, весь каркас дома скроет зелень, пройдет еще сколько-то времени, и чаща проглотит его окончательно.
Но пока хижина стоит. Адди с украденным в деревне фонарем идет по заросшей сорняками тропке. Ей все чудится, что из леса вот-вот выйдет старуха с охапкой хвороста в морщинистых руках, но вокруг лишь стрекочут сороки да шуршит трава под ногами Адди.
Хижина пустая и промозглая, ее темное нутро усыпано рухлядью – осколками разбитой глиняной чашки, обломками развалившегося стола. Однако пропали миски, в которых старуха смешивала мази; трость, на которую она опиралась в сырую погоду; пучки трав, свисавшие с балок; железный горшок из очага.
Наверняка после смерти Эстель жители деревни растащили все ее вещи, поскольку те считались общественной собственностью, как и жизнь старухи, просто потому, что та не вышла замуж. Ее детищем был Вийон, ведь своих детей у нее не было.
Адди ныряет в сад и собирает с заросшего участка все, что там умудрилось вырасти, – морковь, стручковую фасоль. Добычу она несет в дом и сгружает на стол. Распахивает ставни и вдруг оказывается лицом к лицу с чащей.
Темным частоколом высятся деревья, перепутанные ветки смотрят в небеса. Корни леса ползут вперед, пробираются в сад. Медленный и терпеливый захватчик.
Солнце уже клонится к закату, и хоть на дворе стоит лето, сквозь дыры в соломенной крыше в маленькую хижину заползает сырость, просачивается в щели каменной кладки и под дверь, окутывая дом холодом.
Адди подносит к очагу украденный фонарь. Месяц выдался дождливым, дрова отсырели, но Адди терпения не занимать, она настойчиво раздувает пламя, пока хворост не схватывается.
Прошло пятьдесят лет, а она все еще изучает условия проклятия.
Адди не может ничего сотворить, но может пользоваться вещами.
Не может сломать вещь, но может ее украсть.
Не может разжечь огонь, но может его поддерживать.
Адди до сих пор не знает – милосердие ли это или просто трещина в глыбе проклятия, одна из немногих щелей в ограде ее новой жизни. Возможно, Люк просто упустил это из вида. Либо нарочно расставил ловушку, чтобы дать Адди надежду.
Адди вытаскивает из очага тлеющую веточку и рассеянно подносит к ветхому коврику. Тот достаточно сухой, чтобы вспыхнуть, однако и не думает загораться. Вне очага пламя дрожит и слишком быстро гаснет.
Адди, тихо напевая, сидит на полу, скармливая огню ветку за веткой, пока пламя не прогоняет холод, как дыхание сдувает пыль.
Его появление точно сквозняк.
Он не стучит, никогда не стучит.
Секунду назад Адди была одна, и вот уже ощущает чужое присутствие.
– Аделин.
Он произносит ее имя, и в душе Адди вспыхивает ненависть к самой себе, потому что она тянется к этому имени, как человек, жаждущий обрести укрытие от бури.
– Люк.
В Париже он был одет по последней моде, а в хижине появился в точности таким, каким показался ей в ночь их первой встречи, – тень и дуновение ветра, в простой черной сорочке с распущенными у ворота завязками. На его лице пляшут отблески пламени, словно углем затеняя скулы и лоб.
Он скользит взглядом по скудной добыче на столе и лишь потом поворачивается к ней.
– Вернулась туда, где все началось…
Адди вскакивает, чтобы он больше не смотрел на нее сверху вниз.
– Пятьдесят лет, – бормочет Люк. – Как быстро они прошли.
Для Адди совсем не быстро, и он это знает. Люк всегда ищет голую кожу, уязвимое местечко, куда можно вонзить нож, но Адди не желает быть легкой добычей.
– Вовсе нет, – холодно возражает она. – Странно думать, что одной жизни будет достаточно.
Люк приподнимает краешек рта в улыбке.
– Ты растопила очаг! Какое зрелище! Так похожа на Эстель.
Адди впервые слышит имя старухи из уст Люка. Он произносит его почти с грустью, подходит к окну и вглядывается в кромку леса.
– Сколько раз она стояла здесь, шепча свои молитвы чаще. – С потаенной усмешкой он смотрит через плечо на Адди. – То и дело разглагольствовала о свободе, а перед смертью была так одинока.
– Нет, – качает головой Адди.
– Тебе следовало быть с ней рядом. Облегчить ее страдания во время болезни. Помочь похоронить. Ты обязана была это сделать.
Адди отшатывается, словно он ее ударил.
– Все из-за твоего эгоизма, Аделин. Из-за него Эстель умерла в одиночестве.
«Мы все умираем в одиночку», – сказала бы на это старуха. По крайней мере, Адди так кажется. Она на это надеется. Когда-то Адди была уверена, но уверенность померкла, стоило ей вспомнить голос Эстель.
Мрак дуновением ветра перемещается по комнате. Только что стоял у окна – и вот уже позади Адди, шепчет ей в волосы:
– Она так хотела умереть. Отчаянно нуждалась в отдыхе. Стояла у окна и умоляла, умоляла. Я мог бы даровать ей это.
Адди вспоминает морщинистые пальцы, крепко сжимающие ее руку.
Никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты.
Она поворачивается к Люку:
– Эстель никогда бы тебя не попросила!
На лице Люка зарождается проблеск усмешки.
– Верно. Но представь, как бы она огорчилась, узнав, что ты натворила.
Адди вспыхивает от гнева. Не успевает она подумать, что делает, как рука ее взлетает сама по себе. И даже тогда кажется, что ладонь коснется только воздуха и дыма. Однако Адди застает Люка врасплох, рука хлопает по коже или чему-то подобному. От силы удара голова призрака слегка поворачивается. Но, разумеется, на идеальных губах нет ни капли крови, на прохладной скуле – румянца. Зато пропадает ухмылка.
Или Адди так думает.
А потом Люк принимается хохотать.
Звук жуткий, будто ненастоящий. Мрак поворачивается к ней, и она каменеет. Больше в нем нет ничего человеческого. Чересчур выдаются кости, на лицо падает тень, глаза горят слишком ярко.
– Ты забываешься, – шипит он, и голос бога растворяется в древесном дыме. – Ты позабыла, кто я.
Внезапная острая боль пронзает ее ноги. Адди опускает взгляд, ища раны, но боль грызет ее изнутри. Глубокая внутренняя боль, словно вдруг навалилась усталость от всех когда-либо сделанных ею шагов.
– Возможно, я был слишком милосерден.
Боль раздирает руки и ноги, впивается в колени и бедра, запястья и плечи. Ноги подламываются, и Адди остается лишь пытаться сдержать крик.
Мрак с улыбкой смотрит на нее сверху вниз.
– Я чересчур облегчил твою участь.
В панике Адди наблюдает, как ее руки высыхают и сморщиваются, под тонкой как бумага кожей проступают голубые вены.
– Ты просила лишь жизнь. А я к тому же подарил тебе здоровье и юность.
Узел волос распадается, пряди свешиваются на глаза – сухие, ломкие и седые.