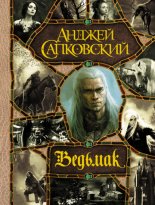Незримая жизнь Адди Ларю Шваб Виктория
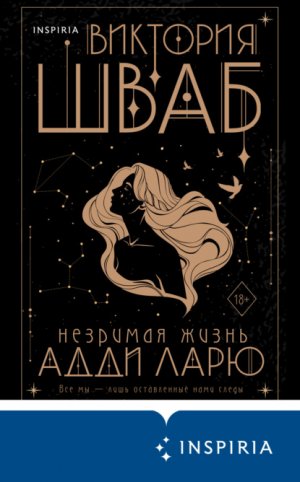
Victoria Schwab
The Invisible Life of Addie la Rue
© 2020 by Victoria Schwab
© Е. Николенко, перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
* * *
Патриции – на вечную память.
Старые боги, может, и всемогущи, но отнюдь не добры и не милосердны. Они капризны, переменчивы, словно свет луны на воде или тени в грозу. Если ты все же хочешь их призвать, берегись: проси осмотрительно и готовься заплатить.
Запомни: какое бы несчастье тебе ни грозило, как бы ты ни отчаялась, никогда не молись богам, что отвечают после прихода темноты.
Эстель Магритт. 1642–1719
29 июля 1714
Вийон-сюр-Сарт, Франция
Девушка мчится со всех ног, горячий летний воздух обжигает ей спину. Но за ней не гонится разъяренная толпа, не полыхают вслед факелы. Лишь вдали поблескивают свадебные фонари да светит красноватое солнце, чьи лучи разбиваются о линию горизонта, разливаясь по холмам. Путаясь в высокой траве, она бежит к лесу в попытке обогнать догорающий закат.
По ветру разносятся голоса, выкликая ее имя.
Адели`н? Адели`н? Адели`н!
Ее тень падает вперед – такая длинная, что края размываются. С волос осыпаются мелкие белые цветочки и усеивают землю, ложась на нее созвездием, почти таким же, что красуется на щеках беглянки.
Семь веснушек. По одной на каждую любовь, что она познает, – так сказала Эстель, когда девушка была совсем юной.
По одной на каждую жизнь, что она проживет.
По одной на каждого бога, что станет за ней присматривать.
Теперь они над ней насмехаются, эти семь отметин. Знаки обещаний и лжи. Ей не довелось влюбиться, никакую жизнь она не прожила, богов не повстречала, да и время уже на исходе.
Но беглянка не останавливается и не оглядывается. Не хочет видеть, какая жизнь ждет ее позади – неподвижная, точно нарисованная. Застывшая, как могильный камень.
Она просто бежит.
Часть первая. Боги, что отвечают после прихода темноты
«Revenir» (Вернуться), Арло Мире, 1721–1722 гг.
Ясень, мрамор.
Предоставлена музеем Орсе, Франция.
Скульптурная композиция из пяти мраморных птиц на разных стадиях взлета, установленных на узком деревянном постаменте.
Мире был прилежным автобиографом и вел дневники, дающие представление об образе его мышления и творческом пути. Идею создания «Revenir» он почерпнул в статуэтке, найденной на улицах Парижа зимой 1715 года. По общему мнению, деревянная птица со сломанным крылом (повреждения устранены) была воссоздана скульптором четвертой в ряду.
Оценочная стоимость 175 000 долларов.
I
10 марта 2014
Нью-Йорк
Девушка просыпается в чьей-то постели. Она лежит совершенно неподвижно, стараясь задержать время, словно дыхание. Будто обладает властью остановить бег часов, не дать юноше, что спит рядом, проснуться, будто хочет сохранить память об их ночи одной лишь силой воли.
Разумеется, этому не бывать. Он забудет, как забывают все. Он не виноват – никто из них не виноват.
Парень еще дремлет. Его плечи медленно поднимаются и опускаются. На затылке вьются кольцами темные волосы; вдоль ребер тянется шрам.
Черты, что давно запали в память.
Его зовут Тоби.
Прошлой ночью она назвала ему свое имя – Джесс. Соврала, но только потому, что не может назвать настоящее. Это одна из мелких жестоких деталей договора – спрятанная, словно крапива среди высокой травы. Потаенные шипы предназначены жалить. Что такое человек, как не оставленные им следы? Она научилась ступать между колючками, но есть раны, которых не избежать: память, фотографии, имя.
В прошлом месяце ее звали Клэр, Зои, Мишель… Но пару ночей назад (когда она была Элль) они закрывали ночное кафе после одного из его концертов, и Тоби признался, что влюблен в девушку по имени Джесс – просто он ее пока не встретил.
Так что теперь ее зовут Джесс.
Тоби начинает ворочаться, тянется к ней, перекатывается, но и не думает просыпаться. Грудь ее пронзает привычная боль. Его лицо теперь всего в нескольких дюймах, губы приоткрыты, черные локоны упали на глаза, опушенные темными ресницами.
Как-то мрак ехидно заметил – в тот раз они гуляли вдоль Сены, – что у нее есть свой «типаж», намекая, мол, большинство выбранных мужчин (и даже некоторые женщины) ужасно на него похожи.
Те же темные волосы, проницательный взгляд, точеные черты.
Как нечестно! В конце концов, она сама наделила мрак этими чертами. Придала ему форму, создала образ.
«Разве ты не помнишь, – спросила она, – те времена, когда был лишь тенью и дымом?»
«Дорогая, – ответил он своим глубоким тихим голосом, – я был самой ночью».
А сейчас – утро. Другой город, другое столетие. Сквозь занавески пробивается яркий свет, Тоби опять ворочается, выныривая из сна. И девушка по имени… Джесс снова боится дышать, воображая вариант пробуждения, в котором Тоби просыпается, видит ее и помнит.
В этой версии он улыбнется, погладит ее по щеке и скажет:
– Доброе утро.
Но ничего подобного не произойдет. Она не хочет встречать знакомый недоуменный взгляд, наблюдать, как юноша старается заполнить пробелы там, где должны быть воспоминания о ней, смотреть, как он берет себя в руки и изображает напускное безразличие. Она не раз видела подобное представление и знает все наизусть, поэтому соскальзывает с постели и босиком выходит в гостиную.
В зеркале прихожей ловит свое отражение и замечает то, что замечают все: семь веснушек, рассыпавшихся звездной полосой по щекам и носу. Ее личное созвездие.
Она подается вперед и обдает стекло дыханием, отчего то мутнеет. А потом кончиком пальца ведет по зеркалу, пытаясь написать свое имя.
А…д…
Но дальше не получается – буквы тают.
Ничего не выходит – как ни старается она произнести свое имя или рассказать свою историю. А она предпринимала множество попыток – карандашом, чернилами, краской, кровью.
Аделин.
Адди.
Ларю.
Бесполезно. Буквы рассыпаются или исчезают. Звуки умирают в горле.
Уронив руку, Адди отходит от зеркала и поворачивается, рассматривая гостиную. Тоби – музыкант. Признаки его творчества повсюду. К стенам прислонены инструменты. По столам раскиданы нацарапанные небрежной рукой стихи и ноты – наброски полузабытых мелодий валяются вперемешку со списками продуктов и планов на неделю. Но то тут, то там видна и другая рука: цветы, которые стали появляться на кухонном подоконнике, хотя Тоби не знает, как завел эту привычку; книга о Рильке – он не помнит, чтобы ее покупал. Вещи остались, пусть воспоминания и не сохранились.
Тоби не торопится вставать, поэтому Адди готовит себе чай. Тоби чай не пьет, но заварка в доме имеется – в шкафу стоят жестянка листового цейлонского чая и коробка с пирамидками. Сувениры, оставшиеся после ночной поездки в супермаркет, где юноша и девушка, держась за руки, бродили по проходам, потому что не могли заснуть. Потому что Адди не хотела, чтобы эта ночь закончилась. Не готова была ее отпустить.
Она поднимает кружку и вдыхает аромат воспоминаний. Лондонский парк. Пражский дворик. Переговорная в Эдинбурге. Прошлое, шелковой простыней наброшенное на настоящее.
Сейчас – свежее нью-йоркское утро. Окна запотели от холода. Адди берет покрывало со спинки дивана и набрасывает на плечи. Один конец дивана занимает футляр для гитары, другой – кот владельца квартиры, поэтому Адди присаживается на фортепианную банкетку и дует на чай.
Кот, которого тоже зовут Тоби (как объяснил его хозяин – «чтобы меня не принимали за чудика, когда я разговариваю сам с собой»), внимательно разглядывает гостью.
Адди любопытно, помнит ли ее животное.
Руки уже согрелись. Она ставит чашку на фортепиано, открывает крышку и разминает пальцы, а затем начинает играть – как можно тише. Из спальни доносятся звуки – просыпается Тоби-человек. Каждый дюйм тела Адди – от мельчайших косточек до последней клеточки кожи – застывает от ужаса.
Впереди самое неприятное.
Адди могла уйти – должна была уйти. Улизнуть, пока он спал, пока утро еще было продолжением их ночи, мгновением, застывшим в ловушке из янтаря. Но теперь слишком поздно. Поэтому она закрывает глаза и играет, опустив голову, даже сквозь музыку слыша его шаги; продолжает перебирать пальцами клавиши, даже когда он подходит к проему двери. Тоби стоит и разглядывает открывшуюся перед ним мизансцену, пытается собрать воедино хронологию вчерашнего вечера, гадая, где же та сбилась. Неужели он повстречал эту девушку и привел ее домой, а сам напился до чертиков и потому ничего не помнит?
Но Адди знает – Тоби не станет прерывать ее игру, поэтому еще несколько секунд наслаждается музыкой и лишь потом заставляет себя остановиться, поднять глаза, притворяясь, что не замечает его смущения.
– Доброе утро, – радостно произносит она.
Акцент у Адди совсем легкий. Французский провинциальный говор, некогда отчетливый, стал почти неразличим.
– Э… доброе, – отвечает он, запуская руку в спутанные черные волосы.
Надо отдать ему должное, Тоби выглядит как всегда – ослепительно. Он несколько удивлен, застав в своей гостиной симпатичную девушку в одном нижнем белье, футболке с принтом любимой группы Тоби и пледе, наброшенном на плечи.
– Джесс, – подсказывает она имя, которое он никак не может вспомнить, потому что вспоминать нечего. – Я не обижусь, если ты забыл.
Тоби краснеет и прогоняет Тоби-кота, опускаясь на подушки дивана.
– Прости… Обычно со мной подобного не случается. Я не из таких ребят.
– А я не из таких девушек, – улыбается Адди.
Тоби улыбается в ответ, светлея лицом, а потом кивает на фортепиано. Хорошо бы он сказал нечто вроде «Я и не знал, что ты играешь», но вместо этого Тоби произносит:
– У тебя здорово получается.
Ты не представляешь, чему можно научиться при наличии свободного времени.
– Спасибо, – говорит она, пробегая пальцами по клавишам.
Тоби вдруг принимается хлопотать и направляется на кухню.
– Как насчет кофе? – спрашивает он, шаря по ящикам.
– Я нашла чай.
Адди снова начинает играть. Ничего замысловатого, просто поток нот. Начало какой-то мелодии. Она находит мотив, подхватывает его, позволяя музыке литься сквозь пальцы… В гостиную тут же возвращается Тоби с дымящейся чашкой в руках.
– Что это? – спрашивает он. Глаза его горят особенным светом, свойственным творческим людям – писателям, художникам, музыкантам. Тем, кому известно, что такое вдохновение. – Звучит знакомо…
Адди пожимает плечами.
– Ты играл это для меня вчера ночью.
Это не совсем ложь. Он в самом деле играл эту мелодию для нее. После того как она ему показала.
– Правда? – сосредоточенно хмурится Тоби. Отставив чашку с кофе в сторонку, он тянется за карандашом и блокнотом, что лежат на столе поблизости. – Господи, ну и набрался же я…
Он сокрушенно качает головой. Тоби не из тех авторов, которые пишут музыку под чью-то диктовку.
– А помнишь что-нибудь еще? – спрашивает он, листая блокнот.
Адди снова наигрывает мелодию, подсказывая ему ноты. Тоби не помнит, но он работал над этой песней несколько недель. То есть они работали. Вместе.
Адди с легкой улыбкой продолжает играть. Это и есть трава между шипами. Безопасный островок, куда можно встать. Она неспособна оставить след сама, но, если действовать осторожно, получится передать его через кого-то еще. Конечно, ничего конкретного, ну так и вдохновение – вещь эфемерная.
Тоби берет гитару, пристраивает на одном колене и подыгрывает Адди, мурлыкая себе под нос. Выходит хорошо, нечто другое, нечто особенное.
Она останавливается и встает.
– Мне пора.
Тоби поднимает взгляд, и мелодия на струнах рассыпается.
– Что? Но мы даже толком не познакомились.
– Именно, – отвечает Адди и направляется в спальню за своей одеждой.
– Но почему бы не познакомиться поближе? – возражает Тоби, откладывая гитару и волочась следом за гостьей.
В этот миг все кажется ужасно несправедливым. На Адди впервые накатывает разочарование, что вот-вот выплеснется наружу. Ведь она недели напролет пыталась его узнать! А он забыл ее всего за несколько часов.
– Не спеши, – просит Тоби.
Прощаться Адди ненавидит. Не стоило задерживаться. Лучше было остаться вне поля его зрения, как и вне памяти, но ее всегда терзает мучительная надежда, что на сей раз все пойдет по-другому. Что кто-нибудь из них вспомнит.
«Я помню», – шепчет ей на ухо мрак.
Адди встряхивает головой, прогоняя навязчивый голос.
– Куда ты торопишься? – уговаривает Тоби. – Позволь хотя бы приготовить тебе завтрак.
Но Адди слишком устала, чтобы без передышки снова играть в ту же игру. Поэтому она врет, что у нее есть дела, не позволяя себе остаться. Просто нет сил начинать заново. Иначе цикл повторится вновь, только интрижка завяжется утром, а не вечером. И когда все закончится, легче не будет. Если уж начинать сначала, лучше в образе случайной незнакомки из бара, а не забытой партнерши на одну ночь.
В любом случае сейчас это неважно.
– Джесс, подожди, – просит Тоби, хватая ее за руку. Он хочет подобрать нужные слова, но сдается и пробует еще раз: – У меня сегодня выступление в «Эллоуэй». Ты должна прийти! Это…
Разумеется, она знает, где находится бар. Там они и встретились в первый раз, и в пятый, и в девятый. Когда Адди соглашается, он одаряет ее ослепительной улыбкой. Как всегда.
– Обещаешь? – спрашивает Тоби.
– Обещаю.
– Тогда увидимся там, – с надеждой произносит он, когда Адди поворачивается и идет к двери.
На пороге она оглядывается и говорит:
– А ты не забудь меня.
Старая привычка. Суеверие. Мольба.
– Разве у меня получится? – качает головой Тоби.
Адди смеется, словно он пошутил. Но, устремляясь вниз по лестнице, знает: это уже произошло. Закрыв дверь, Тоби ее и не вспомнит.
II
Март такой капризный – будто шов между весной и зимой. Однако слово «шов» предполагает, что тот должен быть ровным, а март похож на грубую линию стежков, выполненную нетвердой рукой. Он колеблется между январскими ветрами и июньской зеленью. Не знаешь, чего ждать, выходя за порог.
Эстель называла это «беспокойные дни»: теплокровные боги в эту пору начинают ворочаться, а холоднокровные – готовиться к спячке. Время, когда мечтателей посещают дурные мысли, а странники сбиваются с пути.
Адди всегда была предрасположена и к тому, и к другому. Немудрено, ведь она родилась десятого марта, прямо посередине шва, хотя давно разлюбила праздновать этот день.
Двадцать три года Адди боялась этой метки времени. Она означала, что Адди растет, становится старше. Позже, спустя столетия, день рождения потерял всякий смысл. Гораздо важнее стала ночь, когда она заложила душу. Дата смерти и возрождения, слившаяся в одно целое.
Однако день рождения есть день рождения. В этот день положено получать подарки.
Адди замедляет шаг у бутика модной одежды, ловя в стекле свое отражение. В широком окне застыл на бегу манекен. Он склонил голову, словно прислушивается к тихой мелодии. Длинное туловище укутано в свитер с широкими полосами, ноги в блестящих леггинсах и сапогах до колена. Одна рука поднята вверх – цепляет пальцами за воротник куртку, переброшенную через плечо.
Адди разглядывает манекен и вдруг ловит себя на том, что пытается его скопировать – повторить позу, наклонить голову. Возможно, сегодня особенный день – то ли в воздухе витает обещание весны, то ли просто Адди в настроении попробовать что-то новое.
В бутике царит аромат незажженных свечей и неношенной одежды. Адди пробегает рукой по ряду шелка и хлопка и наконец берет полосатый свитер из кашемира. Вешает его на локоть вместе с теми самыми леггинсами. Свой размер она знает. Он не изменился.
– Добрый день! – приветливо здоровается жизнерадостная девушка-консультант. Ей около двадцати, как и Адди, и они похожи, хотя одна из них – настоящая и стареющая, а другая – лишь образ, застывший в янтаре. – Могу я вам чем-то помочь?
– Не беспокойтесь, – говорит Адди, забирая с витрины пару сапог. – Я сама.
Она идет за девушкой в заднюю часть магазина, где занавесками отделены три примерочные.
– Если что – зовите, и я тут же приду, – улыбается консультант, занавеска падает на место, и Адди остается наедине с собой, мягкой скамейкой и зеркалом в полный рост.
Она сбрасывает ботинки, снимает куртку и швыряет на скамейку. В кармане гремит мелочь, и что-то выпадает, приземляется с глухим стуком на пол и катится по тесной кабинке, остановившись только после удара о плинтус.
Это кольцо.
Небольшой круг, вырезанный из пепельно-серого дерева. Знакомый ободок, когда-то любимый, теперь же – вызывающий отвращение. Адди разглядывает его какое-то время, ее пальцы предательски дергаются, но она не тянется к кольцу, не поднимает, а лишь поворачивается спиной к деревянному кругляшу и продолжает раздеваться. Затем натягивает свитер, леггинсы, застегивает сапоги. Манекен был стройнее и выше, но Адди нравится, как на ней сидят вещи, нравится тепло кашемира, невесомость леггинсов, мягкая подкладка в сапогах.
Адди один за другим отрывает ценники, на количество нулей ей плевать.
«Joyeux anniversaire[1]», – думает она, глядя в отражение.
Адди склоняет голову, словно тоже прислушивается к какой-то негромкой мелодии.
В отражении она видит самую что ни на есть современную девушку с Манхеттена, хотя лицо в зеркале веками остается неизменным.
Адди оставляет старую одежду скомканной кучей на полу кабинки. Кольцо валяется в углу, словно брошенное дитя. Забирает она лишь забытую было мягкую куртку из черной кожи.
Она такая поношенная, что стала тонкой как шелк. В наши дни за подобные вещи люди платят целое состояние и называют винтажными. Это единственное, что Адди отказалась скормить пожару в Новом Орлеане, хотя запах мрака въелся в куртку как дым, он на всем оставлял неизгладимый отпечаток.
Но Адди все равно. Она любит эту куртку. Когда-то та была новой, а сейчас выглядит поношенной, какой никогда не станет ее хозяйка. Похоже на историю Дориана Грея, время отражается на коровьей шкуре, а не на человеческой коже.
Адди выходит из маленькой занавешенной кабинки.
Увидев ее, консультант в противоположном конце зала вздрагивает от неожиданности.
– Все подошло? – уточняет она.
Девушка слишком вежливая, чтобы признаться, что не помнит, как провожала кого-то в примерочные. Боже, благослови правила обслуживания клиентов!
Адди уныло качает головой.
– Иногда приходится довольствоваться тем, что есть, – вздыхает она, направляясь к выходу.
Когда консультант найдет ее одежду – призрак Адди, свернувшийся клубком на полу примерочной, – она уже забудет, чьи это вещи. Посетительница исчезнет из вида, мыслей и памяти.
Адди забрасывает куртку за плечо, подцепив пальцем за воротник, и выходит в солнечный день.
III
Вийон-сюр-Сарт
Франция, лето 1698
Аделин сидит на скамейке рядом с отцом. Он для нее загадка, мрачный великан, которому куда уютнее в мастерской, чем дома. У них под ногами – груда деревяшек, похожих на маленьких человечков, что свернулись калачиком под одеялом. Колеса телеги грохочут; Максим, выносливая кобыла, тащит ее по переулку все дальше от дома.
Дальше, дальше – слово, от которого бешено колотится маленькое сердечко Аделин.
Ей семь лет. Столько же у нее на лице веснушек. Она умная, маленькая и проворная, как воробушек. Аделин месяцами уговаривала отца взять ее на ярмарку. Умоляла, пока мать не заругалась, что девчонка сводит ее с ума, и вот отец наконец согласился. Он плотник, папа Аделин. Три раза в год по дороге, что тянется вдоль Сарта, ездит в Ле Ман – большой город. Сегодня Аделин отправилась с ним. Сегодня она впервые покидает Вийон.
Аделин оглядывается на мать, которая стоит в переулке возле старого тиса, скрестив руки на груди. Затем повозка заворачивает за угол, и мать исчезает.
Мимо проносится деревушка – дома, поля, церковь и роща. Мсье Берже рыхлит землю, мадам Теро развешивает выстиранную одежду, а ее дочь Изабель сидит рядом на травке и плетет венок, сосредоточенно высунув меж зубов кончик языка.
Когда Аделин похвасталась подружке предстоящей поездкой, Изабель лишь пожала плечами и сказала: «Мне и тут хорошо». Словно ты не можешь одновременно любить одно место и мечтать увидеть другое.
Глядя на проезжающую мимо Аделин, Изабель машет ей вслед. За дальним краем деревушки, куда Аделин выезжать еще не доводилось, колесо повозки попадает в выбоину на дороге и вздрагивает, словно тоже пересекает некий порог. Аделин замирает, ей кажется, внутри вот-вот натянется канат, что связывает ее с деревней.
Но она не ощущает никакого рывка, никаких пут. Повозка катит себе дальше, и Аделин, обернувшись, видит, как Вийон пропадает из виду. Она немного сбита с толку, слегка напугана. До сих пор деревня была для нее целым миром и вдруг оказалась лишь его частью, которая уменьшается с каждым шагом лошади, пока не становится размером с одну из отцовских фигурок, что могла бы уместиться на его мозолистой ладони.
Путь до Ле Мана займет целый день. Дорогу скрашивают корзинка матери и отцовская компания. Первая – благодаря хлебу и сыру, чтобы набить живот, вторая – благодаря смеху отца и его широким плечам, заслоняющим Аделин от жаркого летнего солнца.
Дома отец молчалив и всегда увлечен работой, но в дороге начинает оттаивать, откровенничать и говорить.
Говорить – значит, рассказывать Аделин сказки. Истории, которые он собирает, как другие собирают дрова.
– Il tait une fois[2], – скажет он и пустится в повествования о дворцах и королях, богатстве и чарах, бал-маскарадах и великолепных городах.
«Давным-давно…» – так начинается сказка.
Аделин забыла сами истории, но будет вспоминать, как отец их рассказывает. Слова кажутся гладкими, точно речные камушки. Она гадает: продолжает ли отец делать это, оставаясь наедине с собой, нашептывает ли своим мягким голосом сказки в дороге лошадке Максим; бормочет ли их деревяшкам, когда занят работой… Или все они лишь для нее одной?
Аделин хотелось бы их записать.
Позже отец станет учить ее письму. Мать, узнав об этом, устроит скандал: обвинит отца, что тот дает дочери лишний повод бездельничать, тратить почем зря день напролет. Однако Аделин все равно: улучив минуту, она станет убегать к нему, и отец позволит ей упражняться в написании собственного имени на тонком слое пыли, что вечно покрывает пол мастерской.
Но сегодня она только слушает.
Мимо проносится сельский ландшафт, привычная картина мира. Всё поля, да поля, такие же, как возле их дома, да знакомые деревья, и когда повозка въезжает в следующую деревню, та кажется бледным подобием Вийона. Аделин начинает задумываться – неужели весь большой мир так же скучен, как их маленький?
И вдруг показываются стены Ле Мана. Вдалеке разноцветным хребтом вдоль холмов высятся каменные гребни. Город в сто раз больше Вийона – по крайней мере, именно таким она его запомнила. У Аделин перехватывает дух, когда они проезжают в ворота и оказываются под защитой городских стен.
За их пределами простирается лабиринт людных улиц. Отец направляет кобылку между домами, тесно, как камни, прижавшимися друг к другу, и вот наконец узкая дорога приводит к площади.
В Вийоне, конечно же, есть площадь, да только она не больше, чем двор дма Ларю. Пространство же, что открывается перед Аделин, просто гигантское. Здесь столько народа, телег, торговых палаток, что и земли не видать. Отец останавливает повозку, и Аделин забирается на сиденье и дивится на ярмарку, пьянящий запах хлеба и сахара, что витает в воздухе, и людей, людей повсюду, куда ни кинь взгляд. Она никогда не видела такой толпы, не говоря уже о чужаках: перед ней раскинулось море чужаков с незнакомыми лицами и в непривычной одежде. Чужими голосами они выкрикивают странные слова. Аделин кажется, что ворота в ее мир широко распахнулись, словно к знакомому дому вдруг прибавилось множество комнат.
Отец прислоняется спиной к телеге и заговаривает со всяким, кто проходит мимо, а сам тем временем обрабатывает ножиком деревянный брусок, что крутит в руках. Он снимает стружки с такой легкостью, с какой другие чистят яблоко, и длинные ленточки падают ему под ноги. Аделин любит смотреть, как он работает, как фигурки обретают форму, будто были такими всегда, только прятались, словно косточка внутри персика.
Труд отца прекрасен: гладкое дерево искусной резки в грубых больших руках. Среди мисок и чашек, перемешанных с плотницкими инструментами, прячутся и игрушки на продажу: лошадка, мальчик, птичка, дом. Аделин выросла среди подобных безделушек, однако больше всего она любит не животных и не человечков.
Больше всего она любит кольцо.
Аделин носит его на тонком кожаном шнурке на шее. Кольцо пепельно-серого цвета, гладкое, точно полированный камушек. Отец вырезал его в день рождения дочери, сделал для девушки, которой она когда-нибудь станет. Аделин носит его будто талисман, будто амулет или ключ. Время от времени тянется к нему, поглаживая большим пальцем, как мать трогает четки.
Цепляясь за это кольцо, словно за якорь, способный удержать ее в бушующем море, Аделин забирается на задок повозки и наблюдает за всем. Она устроилась достаточно высоко, поэтому может разглядеть здания вдали. Аделин приподнимается на цыпочки, гадая, как далеко простираются дома, но вдруг лошадь, которая проходила мимо, задевает своей телегой их повозку, и Аделин едва не падает, однако рука отца успевает схватить ее и притянуть назад, в безопасность.
К концу дня, распродав весь товар, отец дает Аделин медяк и говорит, мол, купи себе все, что душе угодно.
Аделин бродит от прилавка к прилавку, глазея на пироги и пирожные, шляпки, платья, кукол, и наконец выбирает пачку пергамента для рисования, перевязанную вощеной ниткой. Аделин восхищает чистота листов, мысль, что пустоту можно заполнить всем, чем захочется.
На карандаши денег не хватает, но отец добавляет еще одну монетку и покупает пучок маленьких черных палочек. Он объясняет, что это уголь, и показывает, как нужно прижимать его к бумаге, как размазывать линию, превращая резкие штрихи в тени. Несколькими быстрыми движениями отец рисует в углу страницы птицу, и целый час Аделин пытается скопировать изображение – это ей куда интереснее, чем буквы, которые он подписал внизу.
Отец тем временем собирается в дорогу, ведь день уже клонится к закату. На ночь они остановятся на постоялом дворе, и Аделин впервые заснет в чужой постели и проснется под незнакомые звуки и запахи. А потом наступит миг – короткий, точно зевок, – когда, проснувшись, Аделин не сразу поймет, где она. И ее сердце пустится вскачь – сначала от страха, потом от чего-то еще. От чего-то, что она пока не в силах описать словами.
Домой в Вийон вернется уже другая Аделин – комната с окнами нараспашку, готовая впустить в себя свежий воздух, солнечный свет, весну…
IV
Осень 1703
Вийон-сюр-Сарт, Франция
Вийон – прибежище католиков. Разумеется, та его часть, что на виду. В центре деревушки стоит церковь, мрачное каменное сооружение, куда жители ходят спасать душу. Мать и отец Аделин дважды в неделю преклоняют там колени, осеняют себя крестным знамением, читают молитвы и ведут беседы о Боге.
Аделин уже исполнилось двенадцать, поэтому она следует примеру родителей. Но молится подобно тому, как отец соблюдает примету не класть хлеб вверх тормашками, как мать, лизнув большой палец, собирает со стола просыпавшуюся соль. Бессознательная привычка, но не вера.
Церковь в деревне не нова, как и сам Господь. Но Эстель научила Аделин думать о Нем иначе. Она говорит, перемены опасны тем, что позволяют новому вытеснить старое.
Эстель принадлежит всем и никому. Она сама по себе. Эстель выросла, словно дерево в центре деревушки у реки. Уж конечно, она никогда не была молодой – просто взяла и выскочила из самой земли сразу с шишковатыми пальцами, морщинистой, точно кора дерева, кожей и корнями, такими глубокими, что могут питаться из собственного тайного колодца.
Эстель верит, что новый Бог слишком благородный. Она думает, Он принадлежит королям и большим городам. Господь посиживает на золоченой подушке над Парижем, и на крестьян у него нет времени. Ему не место среди дерева и камня, у речной воды.
Отец Аделин считает Эстель чокнутой, а мать говорит, старуха отправится прямиком в Ад. Как-то Аделин рассказала это Эстель, а та рассмеялась похожим на шуршание опавших листьев смехом и объяснила – не существует такого места, одна лишь холодная земля да обещание сна.
– А как же Небеса? – спросила Аделин.
– Небеса – это уютное местечко в тени дерева, что раскинет ветви над моей могилой.
Аделин исполнилось двенадцать, и она не знает, какому богу помолиться, чтобы отец передумал. Он собирается в Ле Ман: нагрузил повозку товаром, запряг Максим, но впервые за шесть лет Аделин с ним не поедет.
Отец пообещал привезти ей свежий пергамент и новый уголь для рисования, но оба они прекрасно знают: дочь предпочла бы обойтись вовсе без подарков – лучше снова увидеть мир, чем разжиться пачкой бумаги. Ей больше нечего рисовать – она успела запечатлеть и серые очертания деревушки, и знакомые лица жителей.
В этом году мать решила, что неправильно отпускать дочь на ярмарку, это уже неуместно, хотя Аделин знает – она вполне еще может уместиться на скамейке рядом с отцом.
Матери хочется, чтобы Аделин больше походила на Изабель Теро – милую, добрую и совершенно нелюбознательную. Та рада-радешенька вязать день напролет, не поднимая взгляд к небесам и не гадая, что же там за поворотом, за холмами.
Но Аделин не умеет быть такой, как Изабель. Ей не нравится так себя вести. Аделин хочется лишь поехать в Ле Ман и глазеть там на людей, любоваться поделками, пробовать еду, открывать что-то новое, о чем она прежде не слыхала.
– Ну пожалуйста, – умоляет Аделин, глядя, как отец взбирается в повозку.
Надо было укрыться среди товара в надежном месте под попоной. Однако уже слишком поздно. Аделин тянется к колесу, но мать хватает ее за руку и тащит назад.